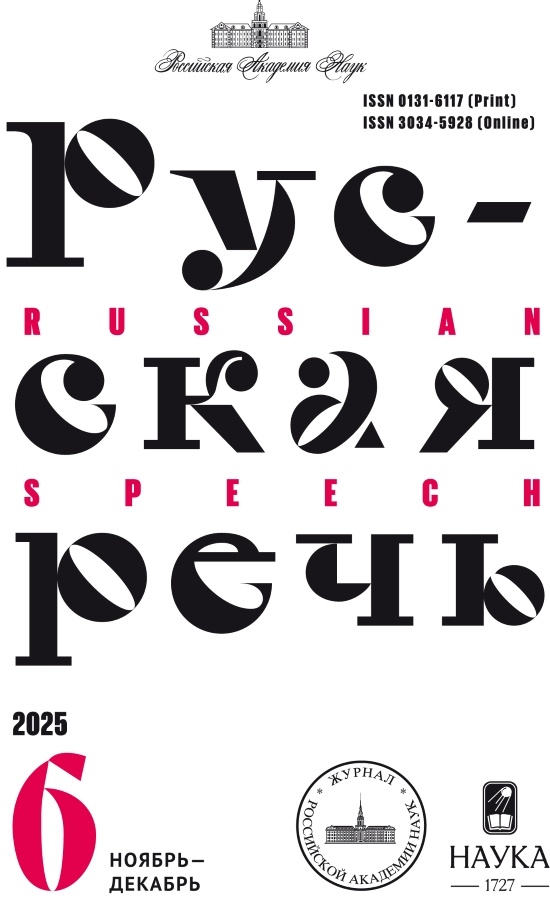Полисемия лексемы «хлеб» и ее реализация в русской народной загадке
- Авторы: Мещерякова О.А.1, Турко У.И.2
-
Учреждения:
- Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина
- Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
- Выпуск: № 5 (2024)
- Страницы: 84-95
- Раздел: Язык художественной литературы
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6117/article/view/266039
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0131611724050079
- ID: 266039
Полный текст
Аннотация
В настоящей работе исследуется полисемия лексемы хлеб, реализуемая в русской народной загадке. Материалом для анализа послужили паремии, зафиксированные в сборнике «Загадки», подготовленном В. В. Митрофановой. Анализируется характер использования многозначной лексемы хлеб как в отгадке, так и в тексте собственно загадки.
В ответной части загадки именование хлебобулочного изделия осуществляется с помощью прямого значения лексемы хлеб, при этом наиболее востребованными оказываются два основных лексико-семантических варианта: ‘пищевой продукт, выпекаемый из муки’; ‘зерновые (рожь, пшеница и т. п.) на корню’. Полисемией слова обусловлено распределение загадок с отгадкой хлеб по двум разделам сборника в соответствии с тематическим содержанием: «Пища, питье», «Пашня, покос, посев и обработка хлеба».
В вопросной части загадки лексема хлеб употребляется как в прямом, так и в переносном значении. Производное значение, возникающее на основе метафоры, обусловлено ассоциативными признаками, не являющимися существенными в семантическом плане для представлений о хлебе. Лексическая многозначность слова хлеб служит языковым средством реализации игрового характера процесса загадывания.
Особенности употребления лексико-семантических вариантов лексемы хлеб в вопросе и ответе загадки свидетельствуют о том, что полисемия выступает жанрообразующим свойством данного вида паремии.
Полный текст
Известно, что слово как единица лексического уровня русского языка может иметь не одно, а несколько значений, определенным образом связанных между собой. Подобное явление называется многозначностью, или полисемией [Шмелев 1997: 352]; для именования соответствующих лексем используются термины «многозначные слова», «полисеманты», а их отдельные значения чаще всего называются «лексико-семантическими вариантами» (ЛСВ), выступающими в качестве «простейшей единицы (элемента) смысловой структуры многозначного слова» [Новиков 1997: 455].
Необходимость выявления семантической структуры фольклорного слова определяет исследовательский интерес к многозначности слова в разных жанрах устного народного творчества. Русская народная загадка является одним из них.
Кроме «малой» формы, особенность загадки составляет ее двухчастная структура, обусловленная нацеленностью на вопросно-ответный диалог в игровой коммуникации. При этом между вопросной и ответной частью формируется «устойчивый репертуар семантических связей» [Солдаева 2018: 7]. На наш взгляд, формальная и содержательная стороны вопроса и ответа загадки тесно взаимосвязаны в силу кодовой организации паремии. Благодаря ей исходный денотат, то есть обозначаемый в отгадке предмет, идентичен преобразованному денотату в вопросной части, где тот же предмет «шифруется» посредством метафоры или олицетворения.
Кодирование и декодирование предметов внешнего мира базируется на общих знаниях, к которым относятся не только «типовые представления о предметах и событиях действительности» и не только «знания духовной сферы, миропредставлений, свойственных народной ментальности, знания из области народной поэзии, мифологии и т. п.», но и «знания о языке, образуемые знанием слов, их значений и т. п.» [Ковшова, Орлова 2020: 72–73]. Это формирует научный интерес к возможностям «поведения» многозначного слова в структуре загадки.
В данной статье мы обращаемся к слову хлеб как лексическому компоненту, используемому в русской народной загадке, с целью установления особенностей употребления лексико-семантических вариантов этой языковой единицы в структуре и семантике паремии.
Согласно «Большому толковому словарю современного русского языка», в лексеме хлеб выделяется семь значений, каждое из которых выступает самостоятельным ЛСВ: 1) ‘Пищевой продукт, выпекаемый из муки’; 2) ‘Тесто, приготавливаемое для выпечки’; 3) ‘Зерно, из которого приготовляется мука, идущая на выпечку такого продукта’; 4) ‘Зерновые (рожь, пшеница и т. п.) на корню’; 5) ‘Пища, пропитание’; 6) ‘Средства к существованию’; 7) ‘О самом важном, необходимом для существования кого-, чего-либо’ [Кузнецов 2000: 1444]. В основе развития полисемии лексемы лежит в первую очередь логическая цепочка, «схватывающая» производство продукта питания от выращивания растения до процесса изготовления продукта (ЛСВ 1–4). В то же время развитие значения обусловлено и оценочной деятельностью русского человека, в рамках которой обобщаются национальные представления о значимости хлеба (ЛСВ 5–7). Поэтому в данном случае следует говорить не только о метонимической, но и о символической модели формирования многозначного слова хлеб.
Материалом для анализа послужили паремии с лексемой хлеб из сборника «Загадки», изданного в рамках академической книжной серии «Памятники русского фольклора». Его составитель В. В. Митрофанова во «Введении» отмечала, что «по своему содержанию загадки касаются видимого, конкретного мира вещей и явлений, окружающих человека, причем вещей бытовых, “незначительных”, но близких и необходимых» [Митрофанова (сост.) 1968: 9]. Вполне закономерно, что в ряд таких предметов входит и хлеб.
Всего выделено 54 примера, где употребляется лексема хлеб. В 23 случаях слово употребляется в вопросной части загадки, а в 31 — в ее ответе.
Обращает на себя внимание тот факт, что отгадки с лексемой хлеб неоднородны по своей структуре. В одних случаях исходный денотат представлен отдельной лексической единицей, как правило, начальной формой имени существительного: (4162) 1 Бьют меня палками, Трут меня камнями, А всяк мне близок (Хлеб). В других — слово включается в контекст. Он может быть минимальным, если представлен словосочетанием: (2317) Стоит баба на току, полон рот табаку (Мешок с хлебом), или расширенным, если образуется сложной синтаксической конструкцией: (2396) Я, Петров, имею восемь углов, четыре уха и два брюха (Пещер из лык, в котором хлеб возят). Анализ однокомпонентных и многокомпонентных вариантов отгадки показал, что ответная часть, как правило, состоит из одного слова тогда, когда лексема реализует ЛСВ ‘пищевой продукт, выпекаемый из муки’. Это значение воспринимается языковым сознанием как главное, и форма такой отгадки не требует уточнения смысла посредством добавочных компонентов, поэтому контекст может отсутствовать.
Следует также отметить, что в русской культуре под готовым продуктом, обозначаемым словом хлеб, подразумевалось исключительно изделие из ржаной муки. Хлеб из пшеничной муки как объект загадывания требовал особой словесной формулы, в которой исходный денотат номинировался словосочетанием: (4235) Сито вито, золотом покрыто (Белый хлеб).
Высокий статус ЛСВ ‘пищевой продукт, выпекаемый из муки’ обусловлен не столько коммуникативным фактором, в первую очередь не столько частотностью употребления, сколько аксиологическими представлениями русского народа, учитывавшими сложившиеся в данной культуре и материальные, и духовные потребности человека. Именно в силу культурных традиций ржаной хлеб оценивался как более значимый для жизни человека продукт, чем пшеничный хлеб. Подтверждением тому служит и целый ряд пословиц, в которых противопоставление двух видов хлеба (белый хлеб в них называется калачом) выявляет более высокий ранг ржаного: Хлебушка калачу дедушка [Даль 1989: 278], Калач приестся, а хлеб никогда [Там же: 286].
Фактор культуры определяет и то, что печеный хлеб, хотя обозначается той же лексемой, что и тесто, и зерно, как предмет вещного мира является по отношению к ним высшей формой [Ляпин 2014]. Наивысшая ценность хлеба как продукта, прошедшего приготовление, связана во многом с сакральными смыслами выпекания, которое понималось как «таинственное действо (хлеб, подобно живому существу, растет, поднимается)» [Толстая 2012: 413] и ассоциировалось с зарождением нового.
Таким образом, лексема хлеб, употребленная вне контекста, реализует в ответной части загадки главный ЛСВ ‘пищевой продукт, выпекаемый из ржаной муки’, который в иерархии многозначного слова занимает первенствующее положение.
Вербальным маркером статуса неосновного, второстепенного ЛСВ, который реализуется лексемой хлеб в отгадке, выступает включение слова в минимальный или расширенный контекст.
Так, ЛСВ ‘зерновые (рожь, пшеница и т. п.) на корню’ реализуется при употреблении лексемы хлеб в отгадке-предложении Гром, град побил хлеб, которая идентифицирует образную часть загадки (297) Бежит бегун, ревет ревун, хочет миллион колоть.
Вербальное «окружение» обязательно для лексемы хлеб, если она употребляется в значении ‘зерно, из которого приготовляется мука, идущая на выпечку продукта’: (2395) Часть в сусек кладет, Часть взаймы дает, Часть обратно отдает (Мужик часть хлеба кладет в сусек, детей и отца кормит). Сусек — это место для хранения зерна или муки, и описание действия с хлебом кладет в сусек указывает на соответствующее значение слова хлеб, которое реализует второстепенный вариант многозначного слова.
Статусом второстепенного также наделяется ЛСВ ‘тесто, приготавливаемое для выпечки’. При реализации этого значения существительное хлеб употребляется как в единственном, так и во множественном числе, однако контекст обязателен в любом случае: (4169) Возьму пыльно, сделаю жидко, Брошу в пламень, будет как камень (Хлеб из муки, пирог); (4203) Полон хлев бесхвостых овец, Одна была с хвостом и та ушла (Хлебы посадили в печь, а лопату вынули).
Наряду с лексемой хлеб в отгадке могут использоваться синонимичные слова, именующие те же понятия, что и хлеб. В таких случаях хлеб реализует основное значение.
Например, в значении ‘тесто’ используется слово опара, что исключает возможность двусмысленного толкования слова хлеб, с помощью которого в данной загадке выражается основной ЛСВ: (4201) На озере на Ладожском, На устье на Волховском Вода с песком помутилася, Они свиданья убоялися, Из Ладожского выбиралися, О том люди догадалися, За орудие хваталися, Усмирять их собиралися, Усмирять их перестали, После вон таскать их стали, На площадку выводили, На базаре продавали, Что хотели, то и брали, А покупатели по необходимости покупали (Опара и хлеб).
Таким образом, полисемия слова хлеб в исходном денотате играет важную роль в обозначении хотя и смежных, но разных понятий. Иерархия лексико-семантических вариантов многозначного слова определяет разные структурные модели формулировок отгадки.
Полисемия лексемы хлеб, используемой в ответной части загадки, влияет на тематическую классификацию загадок.
Паремии с компонентом хлеб в отгадке включены составителем сборника в два разных раздела. Те, что реализуют ЛСВ ‘пищевой продукт, выпекаемый из муки’, или ‘тесто, приготавливаемое для выпечки’, помещены в раздел «Пища, питье»: (4160) Били меня, колотили меня, Во все чины производили, Да и за стол посадили (Хлеб); (4161) Режут меня, вяжут меня, Бьют нещадно, колесуют меня, Пройду огонь и воду и конец мой — огонь и зубы (Хлеб).
Загадки, которые шифруют представление о хлебе как о растении, отнесены к разделу «Пашня, покос, посев и обработка хлеба»: (2309) Потел, потел, в дыму закоптел (Хлеб в овине).
Подобное разделение свидетельствует о том, что многообразная и сложная семантическая структура лексемы хлеб реализуется и в загадке, отражающей фольклорную картину мира, под которой понимается «совокупность коллективных знаний, идей и представлений» [Голованова, Голованов, Казачук 2016: 37], зафиксированных в разнообразных жанрах устного народного творчества.
Кроме того, слову хлеб как обозначению исходного денотата присуще различение оттенков значения, не выделяемых в лексикографической практике словарей при описании значений лексемы.
Так, детализация процесса замешивания теста делает объектом загадывания начальный этап замеса: (4172) В Юрьевском, Афанасьевском Билася коза с козлом, Помешалася вода с песком (Хлебы замешивают). Слова вода и песок в преобразованной части, где словом песок кодируется «кулинарное» значение ‘сахар в мелких кристалликах’ [Кузнецов 2000: 827], создают образ продукта в жидком виде, соответственно лексема хлебы реализует представление о жидком тесте. Это говорит о существовании ЛСВ ‘забродившее жидкое тесто’, который свойственен лексеме хлеб при ее употреблении в паремии. Этот вариант реализуется в отгадке Хлебы замешивают. Она соответствует загадкам, которые акцентируют внимание на традиционном начальном поваренном этапе, сопровождавшем замес: (4171) В одной дежке две приспешки (Хлебы замешивают); (4173) На озере Ладожском, На море Мурманском Помутилась вода с песком, Поборолся Илья с Петром (Хлебы замешивают); (4174) Помутилася вода с песком, Побранилися Лука с Петром, А я без Федора и в суд нейду (Хлебы замешивают).
Также в отгадке можно отметить понятийную детализацию процесса обработки хлеба-растения. И если в узусе за словом хлеб стоит ЛСВ ‘зерновые (рожь, пшеница и т. п.) на корню’, то есть рожь, пшеница, растущие в поле, то в языке загадки выделяется ЛСВ ‘скошенные зерновые’. В результате лексема хлеб в исходном денотате обозначает растение, которое уже не «на корню», а срезано и готовится к обмолоту. (2316) На ладонке чирошок (Ворох хлеба на гумне). Здесь хлеб обозначает ‘срезанное и собранное зерновое растение, складируемое в скирды в специально отведенном месте, для его последующей обработки’. Другая загадка именует хлебом зерновые, скошенные и свезенные в специальную постройку, приспособленную для сушки снопов перед молотьбой: (2309) Потел, потел, в дыму закоптел (Хлеб в овине). Языковым показателем когнитивного явления понятийной детализации выступает употребление лексемы хлеб в составе словосочетаний Ворох хлеба на гумне, Хлеб в овине, где второй компонент на гумне, в овине указывает на ограниченное пространство, связанное с сельскохозяйственной обработкой зерновых. Словосочетание в ответной части загадки свидетельствует о взаимодействии «хлебной» и пространственной семантики. Именование мест, связанных с хранением и переработкой зерновых, обусловлено специфическими особенностями хлебного производства в стране. Лексемы, объединяющие пространственную и хлебную темы, создают контекст, указывающий на дополнительный ЛСВ, важный для фольклорной картины мира.
Эти примеры говорят о развитии многозначности лексемы хлеб в паремии, в частности в отгадываемом ответе. Усиление полисемии слова при его употреблении в отгадке связано с концептуализацией знаний, относящихся к особенностям «хлебного» производства, куда входит и хлебозаготовка, и хлебопечение. Дополнительные ЛСВ имеют терминологическое значение. Реализация их в ответной части говорит о широком распространении производственной культуры хлеба в повседневной жизни русского крестьянина.
В вопросной части активное использование лексемы хлеб как многозначного слова имеет разнообразные функции.
Такая лексема может служить подсказкой к загаданному образу, если употребляется в прямом значении. В этом случае слово называет детали житейской ситуации, знакомой отгадчику, и тем самым дешифрует образ, дает ключ к разгадке.
Например, то, как человек откусывает хлеб и как его пережевывает, воспроизводится в загадке о зубах: (1511) За белую поленницу хлеб кидают, Ей толкут, ей перетирают (Зубы). Хлеб реализует ЛСВ — ‘пищевой продукт, выпекаемый из муки’. Описание действий, производимых с хлебом, — кидают, толкут, перетирают, вкупе с прямым значением слова, ориентирует на ситуацию употребления пищи, декодируя образное содержание, обусловленное лексемой поленница, — ‘дрова, уложенные друг на друга правильными рядами’.
Путь к дешифрованию может быть указан лексемой хлеб, если она реализует и другой ЛСВ многозначного слова — ‘злаковые на корню’: (2134) Маленький, горбатенький все поле пробежал И весь хлеб повалял (Серп, жнут серпом). В контексте загадки, кроме слова хлеб в прямом значении, используется слово поле, также употребленное в денотативном значении. Две лексемы поле — хлеб образуют семантическую пару в загадываемой части и подсказывают отгадчику ситуацию уборки урожая зерновых. Как и в предыдущем примере, здесь употребляется прямое значение слова хлеб.
Однако часто многозначность лексемы выполняет противоположную прагматическую функцию — не помогает отгадывать, а запутывает отгадчика, ведь загадывание загадки есть игровой процесс. В этом случае паремия строится так, что отгадчику нужно решить, какое из нескольких прямых значений, имеющихся у слова, реализуется в загадке.
Так, при отгадывании загадки (2074) Что в хлебе родится, а есть не годится? (Василек или другой цветок во ржи) отгадчику нужно осуществить выбор между несколькими прямыми значениями слова хлеб: это продукт питания или злаковое растение? При этом другие компоненты загадываемой части поддерживают семантическую двуплановость слова хлеб. Глагол есть коррелирует со значением ‘продукт питания’, глагол родится — со значением ‘злаковое растение’. Так в содержании загадки осуществляется языковая игра, в которой многозначность слова выполняет жанрообразующую функцию.
Языковая игра, обусловленная многозначностью лексемы хлеб, отмечается и в других загадках.
(2869) Стучит, бренчит, сто коней бежит, Что есть хлеб в околотке, весь хлеб поест (Мельница). Паремия строится на соотнесении значений ‘пищевой продукт, выпекаемый из муки’ и ‘зерно, из которого приготовляется мука, идущая на выпечку хлебного продукта’. Выбор второго значения приводит к отгадке, а первый вводит в заблуждение, ориентирует на образ некоего ненасытного «чудища».
Употребление лексемы хлеб в загадываемой части, как и в отгадке, может быть обусловлено дополнительной, по сравнению с узусом, дифференциацией значения.
Например, в загадке (1751) Вырубил мужик одно деревце, из деревца сделал три дельца: перво дельце — соборный хлеб, другое дельце — полуночный свет, третье дельце — ах, хорошо (Береза и то, что из нее изготовляют) хлебом обозначается просфора — ‘хлеб, используемый в православном богослужении’. Языковым маркером формирования дополнительного значения выступает контекст, в котором существительное хлеб сочетается с прилагательным соборный. При этом лексема хлеб выполняет функцию кулинарного кода, и для декодирования смысла необходима актуализация культурных знаний. Выпекание литургического хлеба требовало прорисовки на хлебе различных религиозных символов — очертания креста, сокращенного написания имени Иисуса Христа IC XC и т. п. Они производились с помощью специальной печати из березы. Это и обусловило включение в загадку о дереве и его свойствах использование лексемы хлеб в новом ЛСВ, что позволяет говорить о терминологическом развитии значения — ‘литургический хлеб’.
В силу своей дискурсивной природы загадка реализует не только прямое значение. В загадываемой части у лексемы хлеб формируются коннотативные значения, призванные сформировать образное представление об объекте загадывания.
Так, анализ контекста лексемы в образной части загадки показывает, что слово хлеб включается в процесс метафоризации и на этом основании приобретает новые значения. Например, в загадке (1306) Хлеб на углу избы лежит, а в хлебе крыса сидит (Беременная женщина) хлеб реализует соматическое значение (от греч. sōma — ‘тело’), так как лексемой обозначен большой круглый живот беременной женщины. Формирование переносного значения связано с несущественными признаками, которые по своей семантической природе являются ассоциативными для основного значения слова, но при переносе «оказываются семантическим ядром» [Апресян 1995: 160] слова. Будучи несущественными, они в то же время многократно проявляют себя в языке, образуя коннотации [Там же], то есть дополнительные, сопутствующие значения. В данном случае перенос формируется на основе ассоциативного признака ‘форма и размер хлеба’, однако признать его случайным для фольклорной картины мира нельзя, так как он обусловлен культурологически. Внешний признак хлеба переносится на внешний облик беременной женщины, потому что хлеб традиционно был символом плодородия и одновременно «сугубо женским делом» [Толстая 2012: 412]. В русском фольклоре именно хлеб используется для описания беременности [Глянц, Пименова, Потапенко 2017: 33], и загадка является еще одним доказательством этого факта.
Метафорический тип переноса ‘часть хлеба — небесное светило’, формирующий коннотативное значение, основывается на сходстве формы и цвета краюшки хлеба и месяца. Подобное развитие значения лексемы хлеб присутствует в целом ряде загадок. (99) Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка, Собаки лают, достать не могут (Месяц); (100) За дедушкиной клетушкой висит хлеба краюшка (Месяц).
Примечательно, что в некоторых паремиях проявление ассоциативного значения лексемы хлеб обусловлено не отдельным компонентом загадываемой части, а образной ситуацией.
Например, в загадке (56) Раскину я рогожку, насыплю горошку, Поставлю квасу кадушку, положу хлеба краюшку (Небо, звезды, месяц, дождь) лексема хлеб в сочетании со словом краюшка представляет собой кулинарный код, благодаря которому шифруется представление о месяце. Сходство формы двух объектов — месяца и ломтя хлеба, отрезанного от края каравая, а также цветовая схожесть лежат в основе метафоры хлеба краюшка — месяц. Однако представление о загадываемом объекте рождается не из отдельного образа, а из всей представленной картины, в которую включена рогожка. Именно соединение двух образов — хлеба и скатерти — важно для реализации коннотативных значений ‘месяц’ и ‘небо’. Причем подобное соединение детерминировано культурологически, так как «никогда буханку не клали на голый стол без скатерти» [Хлебные традиции].
Таким образом, полисемия лексемы хлеб имеет большое значение для содержательного и структурного формирования загадки как жанра паремии. Используемое в обеих структурных частях, слово реализует различные лексико-семантические варианты, зафиксированные в лексикографической практике. Это позволяет охватить разные стороны русской жизни, в первую очередь те, что связаны с хлебным производством в крестьянском быту.
В ответной части загадка разграничивает главный и второстепенные смыслы лексемы хлеб, что определяет синтаксическую модель описания исходного образа. В загадываемой части употребление многозначного слова хлеб направлено на выполнение разнообразных функций, необходимых для осуществления игровой коммуникации. Важно и то, что включение в текст паремии слова хлеб во всем спектре его значений имеет культурологическое основание.
Источники
Даль В. И. Пословицы русского народа: в 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1989. 447 с.
Митрофанова В. В. (сост.). Загадки. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1968. 256 с.
1 Здесь и далее в скобках указан номер загадки, приведенный в источнике: Митрофанова В. В. (сост.). Загадки. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1968. 256 с.
Об авторах
Ольга Александровна Мещерякова
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина
Автор, ответственный за переписку.
Email: lameo56@yandex.ru
Россия, Ленинградская область
Ульяна Игоревна Турко
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
Email: selishchevskaya@mail.ru
Россия, Елец
Список литературы
- Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. 767 с.
- Глянц М., Пименова М. А., Потапенко В. В. Роль русской печи в жизни восточных славян // Национальные приоритеты России. 2017. № 5 (27). С. 30–36.
- Голованова Е. И., Голованов И. А., Казачук И. Г. Языковая картина мира vs. фольклорная картина мира: точки соприкосновения и различий // Научный диалог. 2016. № 8 (56). С. 34–45.
- Ковшова М. Л., Орлова О. С. К вопросу о семантической структуре загадки: когнитивный и культурологический комментарий как принцип исследования // Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2020. № 4 (4). С. 70–79.
- Кузнецов С. А. (ред.). Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. 1536 с.
- Ляпин Д. А. Путешествия в прошлое: очерки этнографии Верхнего Подонья. Кемерово: Азия-Принт, 2014. 144 с.
- Новиков Л. А. Семантическая структура слова // Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Издательский дом «Дрофа», 1997. С. 455–457.
- Солдаева А. А. Интертекстуальность русской традиционной загадки: лингвистический аспект: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2018. 25 с.
- Толстая С. М. Хлеб // Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти т. Т. 5. С (Сказка) — Я (Ящерица). М.: Международные отношения, 2012. С. 412–421.
- Хлебные традиции — Хлебные традиции и обычаи Славян [Электронный ресурс]. URL: https://sladik.net/prokhleb/prokhleb-traditsii-slavyan.php (дата обращения: 27.08.2024).
- Шмелев Д. Н. Полисемия // Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Издательский дом «Дрофа», 1997. С. 352.