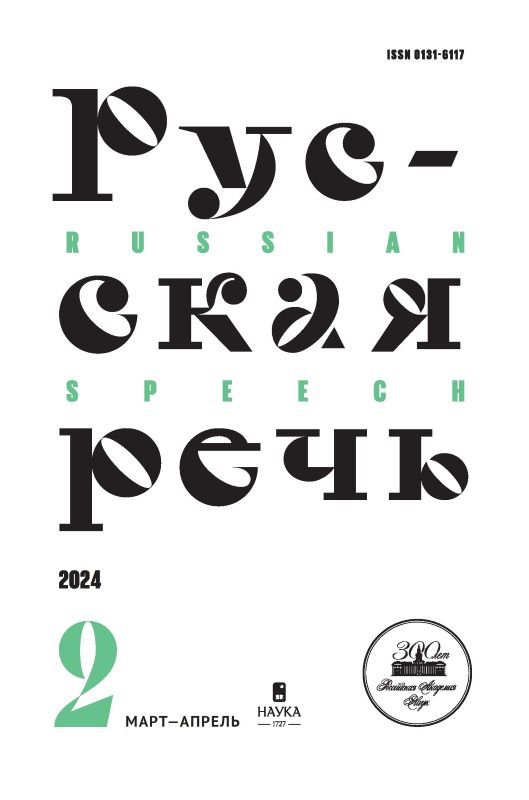“Oh, You, That in Sorrow You Grunble Against God in Vain, Man!..” Functions of the Lomonosov Quote in N. V. Gogol’s Comedy “The Inspector General”
- 作者: Vasilyev S.A.1
-
隶属关系:
- Moscow City University
- 期: 编号 2 (2024)
- 页面: 98-105
- 栏目: The Language of Fiction
- URL: https://journal-vniispk.ru/0131-6117/article/view/256110
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0131611724020085
- ID: 256110
全文:
详细
The attention of researchers has already been drawn to a quotation from “Ode Selected from Job” by M. V. Lomonosov, included in the replica of Khlestakov, flirting with Marya Antonovna. Yu. V. Mann identified its following functions: comedy due to the discrepancy between the topic of conversation and the content of the given poetic lines, as well as due to the situation that Khlestakov faced, as in a gymnasium exam; thought about the vicissitudes of human fate. Comparison of the content of this lyrical work, which was textbook-famous for the reader of the 19th century, with the Silent Scene, as well as with the later “Dénouement of the Inspector General”, also a Gogol text, allows us to take a fresh look at the role of the mentioned quotation. Synthesis of arts, allusiveness, rich symbolism of the Silent Scene, rich allegorical imagery of “Dénouement of the Inspector General” through associative connections with the spiritual ode of M. V. Lomonosov strengthen the eschatological and apocalyptic semantic plans of “The Inspector General”, emphasize the spiritual and moral issues, formulate their phased formulation and deepening. “Inspector General” in this aspect can be perceived not only as a satirical and socially accusatory work, but also — in the context of the later “Reflections on the Divine Liturgy” and “Selected Passages from Correspondence with Friends” — as a call to repentance and Christian renewal of life.
全文:
Ломоносовская цитата звучит из уст Хлестакова в XII явлении IV действия гоголевского «Ревизора», что является смелым авторским художественным решением и, на первый взгляд, абсолютно выпадает из контекста имеющей характер флирта беседы Хлестакова и Марьи Антоновны. Приведем небольшой фрагмент этого диалога:
«Марья Антоновна. Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много. <...> Какие-нибудь эдакие: хорошие, новые. <...>
Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: “О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!..” Ну и другие... теперь не могу припомнить, впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда... (Придвигая стул)» [Гоголь 2003: 65].
Ситуация ухаживания и даже предложения сватовства если и требует стихов, то, очевидно, совсем другого рода — любовных, каких и просит Марья Антоновна: элегии, мадригала, послания и т. д. Слова в обращении с дамами Хлестаков подбирает в кажущемся ему модном, а на деле в давно устаревшем ложном сентиментальном стиле. Однако неожиданно, и для самого Хлестакова прежде всего, из его уст звучит классическая, хрестоматийная духовная ода XVIII века — «Ода, выбранная из Иова» М. В. Ломоносова [Ломоносов 1959: 387–392]. Поразмышляем о ее функциях. Такого рода, на первый взгляд, частные вопросы, касающиеся иногда и рассмотрения отдельного слова [Васильев 2012], могут дать и дают важную информацию о писательском стиле.
К. С. Аксаков писал о широчайшей известности в начале XIX века ломоносовской оды: «... так нам знаком<ой>, так опрофанированн<ой> частыми повторениями и учебниками» [Аксаков 1981: 83]. Это подчеркнул Ю. В. Манн, считавший, что «...литературный пример рассчитан на легкую, мгновенную узнаваемость» [Манн 1987: 358].
Одна из функций цитирования оды Ломоносова состоит, по мнению Манна, в том, что «Хлестаков чувствует себя немножко как на экзамене» [Манн 1987: 358]. Перечень упомянутых Хлестаковым произведений образует очень пеструю картину, среди них знаменитые «Женитьба Фигаро», «Фрегат “Надежда”», «Юрий Милославский» и другие.
Строки из Ломоносова были не единственной поэтической цитатой в репликах Хлестакова. Как замечено, уже в следующем явлении, выпутываясь из очередной неловкой ситуации любовного объяснения, он упоминает Карамзина и цитирует стихотворение из его повести «Остров Борнгольм», посвященной теме запретной любви: «Для любви нет различия, и Карамзин сказал: “Законы осуждают”. Мы удалимся под сень струй» [Гоголь 2003: 66]. В этом вполне соответствующем развитию флирта контексте вдруг звучащее именно как цитата начало религиозной по своей проблематике ломоносовской оды представляет собой все же нечто особенное.
Ю. В. Манн указывает на еще одну, обобщенную, функцию ломоносовской цитаты в «Ревизоре»: «Ветхозаветная история о превратностях человеческой судьбы и могуществе высшей воли находит современное преломление в головокружительных подъемах и падениях...» [Манн 1987: 359], в частности в мнимом возвышении Хлестакова.
Если обратиться к творческой истории пьесы, то можно заметить, что в первой черновой редакции этой цитаты не было, появляется она в черновых набросках ко второй редакции, причем в соответствующем эпизоде используется другая фамилия главного действующего лица: Скакунов (что очень коррелирует с самохарактеристикой Хлестакова, у которого, по его выражению, «легкость необыкновенная в мыслях» [Гоголь 2003: 42, 44]). Во второй редакции пьесы стихи звучат после просьбы Марьи Антоновны записать что-нибудь ей в альбом. В первом издании «Ревизора» (1836) интересующие нас строки помещены в действии IV, явлении XI [Гоголь 2003: 415].
Ломоносовская цитата имеет не только достаточно очевидные сатирические, юмористические, пародийные функции, в частности разоблачение поверхностных культурных интересов дворянства. Это важный элемент создания характера Хлестакова, в котором, согласно авторскому указанию, нет стремления к сознательному обману, который идет на поводу ожиданий окружающих его действующих лиц и собственной фантазии.
Однако характер разбираемого фрагмента речи действующего лица — не просто упоминание или аллюзия, а точная цитата начала хрестоматийно известного произведения — позволяют связать этот образ, во-первых, с Немой сценой и, во-вторых, с гоголевской же «Развязкой “Ревизора”» (1846), по замыслу самого автора призванной дополнить уже известное читателю творение. О тесной связи последней (Немой) сцены «Ревизора» и «Развязки “Ревизора”», а также о принципиальной их значимости для понимания текста своей пьесы в октябре 1846 г. из Ниццы Гоголь писал И. И. Сосницкому, первому исполнителю роли городничего: «Обратите ваше внимание на последнюю сцену “Ревизора”. Обдумайте, обмыслите вновь. Из заключительной пиесы “Развязка Ревизора” вы постигнете, почему я так хлопочу об этой последней сцене и почему мне так важно, чтобы она имела полный эффект. Я уверен, что вы взглянете сами другими глазами на “Ревизора” после этого заключения, которого мне, по многим причинам, нельзя было тогда выдать и только теперь возможно» [Гоголь 2009: 410].
Над Немой сценой Гоголь интенсивно работал, готовя второе издание пьесы 1841 г., от нее, кстати, «Развязку “Ревизора”» отделяют всего несколько лет. В первом издании Немая сцена только упоминается, зато во втором — развернута с максимальной подробностью, с указанием ее длительности (почти полторы минуты).
Казалось, разоблачения лжеревизора и самобичевания городничего было бы вполне достаточно, как это реализовано в пьесе Г. Ф. Квитки-Основьяненко «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе» (1827, опубл. 1840). Однако Гоголь дает вторую, еще более сильную кульминацию, которая как бы выходит за рамки и текущей интриги, и даже земного мира. Застывших в ужасе чиновников сравнивают с героями античных мифов, встретившихся взглядом с Медузой Горгоной и, как следствие, окаменевших. Окаменение героев, по убедительному мнению Ю. В. Манна [Манн 1996: 213], имеет прямую параллель с вызвавшей восторг Гоголя знаменитой картиной К. Брюллова «Последний день Помпеи», о которой он подробно писал в статье для книги «Арабески», совпадающей по времени выхода с ранним этапом работы Гоголя над «Ревизором». А ведь упомянутая картина не просто изображает извержение вулкана и гибель знаменитого древнего города, но и воплощает тему трагической смены цивилизаций, культур, эсхатологическую проблематику. Еще одна закономерная ассоциация связана уже с христианской культурой и темой Страшного суда, на котором человек, как известно, уже не сможет оправдываться и должен будет принять решение о нем Творца. Не случайно городничий раскинул руки в виде креста (впрочем, этот образ имеет различные трактовки, вплоть до профанации распятия).
Все это тематически, мотивно, содержательно близко ломоносовской духовной оде, которую цитировал Хлестаков (начало предполагает обращение знающего человека к тексту целиком, как, например, начало молитвы «Отче наш...»). По мнению В. Л. Коровина, у Ломоносова «речь Бога... в целом организована по принципу шестоднева, рассказа о шести днях творения...» [Коровин 2015: 93], у него, «...как и в библейской книге, Бог убеждает Иова, обращаясь к его разуму и воображению, и тем укрепляет его пошатнувшуюся веру» [Там же: 98] (выделено автором. — С. В.).
Объективно выстраивающаяся ассоциация между одическим образом и тематически близкой к ней Немой сценой — важный элемент внутренней формы произведения (об этом термине см.: [Минералов 1999]), обогащающей его содержание. Бог в изображении Ломоносова именно призывает человека на суд, пока еще не Страшный, но такой, на котором он уже не может дать ответа, что красноречиво проявляется в главном синтаксическом приеме произведения: амплификации риторических вопросов. Вторая кульминация, в буквальном смысле поразительная (как художественное решение) и поражающая, как гром среди ясного неба, персонажей, и развязка намечены уже в четвертом действии через поэтическую ассоциацию духовной оды с Библией и, далее, с Апокалипсисом: «Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. <…> Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавесь опускается» [Гоголь 2003: 86].
Еще одна функция ломоносовской цитаты в «Ревизоре», с нашей точки зрения, сформировалась позже, при создании «Развязки “Ревизора”», развернувшей то, что потенциально содержалось в эпиграфе и в этом образе духовной оды. Подчеркнем, что это именно авторский текст, представляющий собой развитие замысла писателя о своем произведении, писавшийся в 1840-е годы. И ломоносовская цитата, и принципиально дополненная Немая сцена, и «Развязка “Ревизора”» очень хорошо вписываются в тот мировоззренческий и, как следствие, художественный поворот, который был характерен для Гоголя в 1840-е гг. и который привел к созданию таких произведений, как «Выбранные места из переписки с друзьями», «Размышления о Божественной литургии» и другие, реализующие ярко выраженное религиозное, православное начало.
В «Развязке “Ревизора”» устами Первого комического актера, отсылающего слушателя к эпиграфу пьесы «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», Гоголь дает ключ к новому прочтению пьесы, формирует аллегорически-символический ее план: город — душа человека, чиновники — человеческие страсти, ревизор — проснувшаяся совесть: «Ну, а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас? <...> взглянем... хоть сколько-нибудь на себя глазами того, кто позовет на очную ставку всех людей, перед которым и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои, да и посмотрим, достанет ли у кого-нибудь из нас тогда духу спросить: “Да разве у меня рожа крива?” <...> Что́ ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот Pевизор? Что прикидываться? Ревизор этот наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. <...> Хлестаков — щелкопер, Хлестаков — ветреная светская совесть, продажная, обманчивая совесть, Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей, страсти» [Гоголь 2003: 121–122]. Характерно, что в соответствии с формируемым религиозно-философским планом содержания пьесы слово «Ревизор» Гоголь написал с заглавной буквы, что передано в Полном собрании сочинений писателя. Призыв Первого комического актера, очевидно, в значительной степени тяготеющего в своих мыслях к alter ego автора, состоит в том, чтобы духовно очиститься как можно раньше, не дожидаясь роковой черты: «Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее» [Там же: 121].
Итак, к выделенным Ю. В. Манном функциям ломоносовской цитаты в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», в первую очередь комическим, а также к идее о превратностях бытия, можно добавить следующее.
Синтез искусств (живописность и скульптурность), аллюзивность (античные мифы и Библия), в целом богатая символика Немой сцены, насыщенная аллегорическая образность «Развязки “Ревизора”» (город — человеческая душа, чиновники — живущие в ней страсти, ревизор — проснувшаяся совесть) через ассоциативные связи с духовной одой М. В. Ломоносова усиливают эсхатологические и апокалиптические смысловые планы «Ревизора», акцентируют духовно-нравственную проблематику, формируют ее поэтапную постановку и углубление. «Ревизор» в этом аспекте вполне можно воспринимать уже не только как произведение сатирическое и социально-обличительное, но и — в контексте поздних «Размышлений о Божественной литургии» и «Выбранных мест из переписки с друзьями» — как призыв к покаянию и христианскому обновлению жизни, прямо сформулированный в словах Первого комического актера.
Источники
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. Т. 4. М.: Наука, 2003. 912 с.
Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 17 т. Т. XIII. М.; Киев: Издательство Московской Патриархии, 2009. 587 с.
Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 8. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 1280 с.
参考
- Aksakov K. S., Aksakov I. S. Literaturnaya kritika [Literary criticism]. Moscow, Sovremennik Publ., 1981. 383 p.
- Korovin V. L. [On the theological aspects of the “Ode chosen from Job” by M. V. Lomonosov]. Filaretovskii al’manakh. Iss. 11. Moscow, House of STOUH Publ., 2015, pp. 93–100. (In Russ.)
- Mann Yu. V. [Lomonosov in Gogol's Creative Mind]. Lomonosov i russkaya literatura. Moscow, Nauka Publ., 1987, pp. 351–371. (In Russ.)
- Mann Yu. V. Poetika Gogolya. Variatsii k teme [Gogol’s poetics. Variations on the theme]. Moscow, Coda Publ., 1996. 474 p.
- Mineralov Yu. I. Teoriya khudozhestvennoi slovesnosti [Theory of artistic literature]. Moscow, Vlados Publ., 1999. 356 p.
- Vasil’ev S. A. [Dubinnogolovaya: the fate of Gogol’s neologism]. Russkaya rech’, 2012, no. 2, pp. 8–10. (In Russ.)