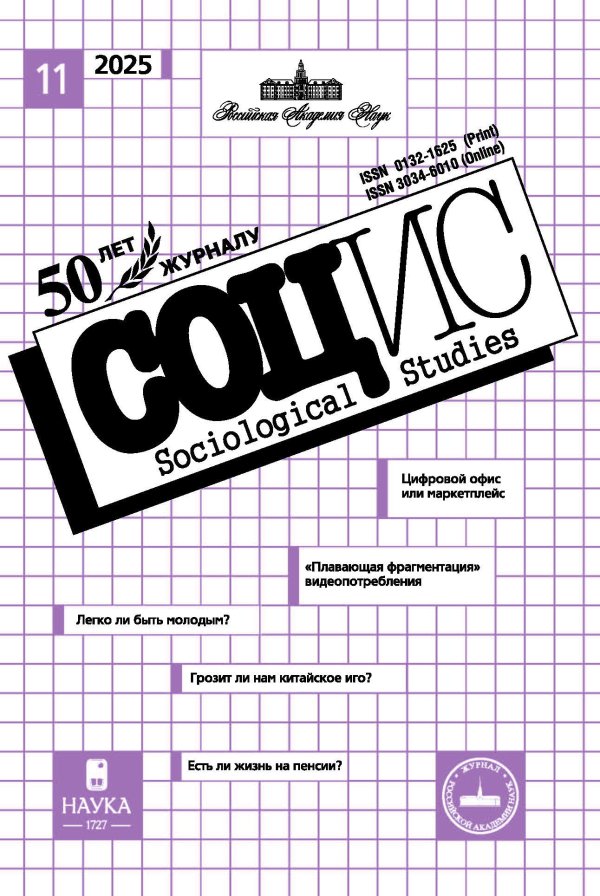Ценности: может ли их изучать наука? К истории, теории и методологии вопроса
- Авторы: Малинкин А.Н.1
-
Учреждения:
- Институт социологии ФНИСЦ РАН
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 128-138
- Раздел: ОСОБОЕ МНЕНИЕ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-1625/article/view/260212
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524040111
- ID: 260212
Полный текст
Аннотация
Рассматриваются место и роль ценностей в научном познании вообще и в социологии в частности. Ценности в свете политической социологии (политически-идеологические ценности) сопоставляются с ценностями самими по себе, которые в социологии знания предстают как феноменологически выявляемые первоначальные данности. Они образуют ядро мироощущения и мировосприятия каждого человека как личности. В трактовке ценностей самих по себе автор опирается на свою интерпретацию религиозно-философской аксиологии М. Шелера. Автор доказывает, что, хотя всякого рода оценочность подлежит исключению, «ценностная нейтральность» в социальном познании в принципе невозможна, поэтому необходимо стремиться к ее экспликации и артикуляции. Возможность научно-дискурсивного познания ценностей, равно как и попытки исследовать ценностное сознание эмпирически, автор ставит под сомнение.
Полный текст
Ценности бывают разные, и понимают их по-разному. Важно внести ясность в вопросы о том, какие бывают ценности, что такое ценности сами по себе и можно ли их изучать средствами науки? Мы рассмотрим их с теоретико-методологической точки зрения в двух аспектах: в свете политической социологии и социологии знания. В первом случае предметом анализа будут политически-идеологические ценности, во втором – ценности сами по себе и ценности в социально-научном познании. Первые сейчас на слуху и кажутся общепонятными. Вторые таковыми не кажутся. Они происходят из глубин человеческой природы. Если идти от простого к сложному, то начать следует с ценностей в политической идеологии.
Ценности в свете политической социологии. «Ценности социализма», которые во времена СССР соответствовали коммунистическому мировоззрению, лежали в основе «морального кодекса строителя коммунизма» и концепции «социалистического образа жизни». В рамках последней «ценности социализма» противопоставлялись «ценностям капитализма». Первые ассоциировались прежде всего с нашей страной, вторые – в первую очередь с Западом. Во времена перестройки благодаря М. С. Горбачёву утвердилась доктрина «общечеловеческих ценностей», основанная на «новом политическом мышлении». Она просуществовала, условно говоря, до 2007 г. (мюнхенская речь В. В. Путина).
Сегодня уже никто не говорит об «общечеловеческих ценностях» – речь идет о принципиально различных ценностях двух цивилизаций и культур, разделяющих мир на две части. Имеются в виду, с одной стороны, ценности западной цивилизации, или просто «западные ценности», с другой – традиционные ценности России как страны-цивилизации, или просто «российские ценности». Первые прокламируются как прогрессивные, либеральные, вне-религиозные, неогуманистические (трансгуманистические), вторые – как стабилизирующие, консервативные, религиозные (или имеющие религиозные корни), подлинно гуманистические (гуманистические в первоначальном европейском смысле). Формальная суть конфликта двух ценностных комплексов в том, что каждая из противоборствующих сторон настаивает на универсальной значимости своих ценностей, поэтому считает ложными сами основания ценностей оппонента и отвергает его аргументы как всего лишь пропагандистские.
Какой бы содержательный смысл ни вкладывался в «западные» и «российские» ценности, какая бы различная философия человека за ними не стояла, они представляют собой, с теоретико-методологической точки зрения, продукты интеллектуального творчества. Они суть рациональные конструкты – синтез результатов философско-исторических, социально-философских, научно-исторических, культурологических, национальнои социально-психологических и прочих изысканий. Эти плоды мыслительной работы сводятся в своего рода «ценностный индекс» специально для того, чтобы использовать его как средство идеологической борьбы. Это, собственно говоря, уже и не ценности, а рефлексии о коллективных ценностях (в данном случае национальных или цивилизационных) – рефлексии второго, третьего порядка и выше. Они имеют косвенное отношение к ценностям как таковым, т. е. к ценностям в их эпистемологически первоначальном смысле.
С одной стороны, они соответствуют принципам внутренней политики, выражают оценочную позицию правящих кругов государства по отношению к традициям и ментальности своего народа, к национальному культурному наследию, к определенным реалиям давней и недавней истории, актуальным процессам и явлениям общественной жизни. С другой стороны, они соответствуют во внешней политике национальным интересам государств (если таковые не подчинены интересам глобалистски ориентированных группировок и надгосударственных организаций), оценочным установкам правящих кругов по отношению к аналогичным конструктам идеологического противника, являются интеллектуальной реакцией на последние, которая облекается в квазиценностную форму. Таким образом, в политически-идеологическом поле мы имеем дело скорее с метафорическим употреблением слова «ценности».
Ценности в свете социологии знания. Ценности в их первичном, феноменологическом, смысле, могут принадлежать только человеку как индивидуальной личности. Они составляют ядровую часть мироощущения и мировосприятия каждого. Человек как личность пребывает в тотально ценностном мире, обычно не задумываясь над этим. Его восприятие, воображение, представления, мышление, действия, поступки изначально определяются социокультурными ценностными смыслами, которые обусловлены культурно-исторически – традициями, национальной ментальностью, воспитанием, особенностями социализации и т. д.
Любое социальное действие человека сопряжено с выбором – часто не осознаваемом из-за привычного автоматизма, – выбор же всегда есть следование тому или иному ценностному образцу или приоритету, осмысленному рационально, произвольному либо спонтанно принятому как нечто само собой разумеющееся и потому не требующее обоснований. В свою очередь, все ориентации, установки, ожидания, надежды, упования и т. п. либо прямо являются функциональными производными от ценностей и ценностных предпочтений, либо определяются ими опосредствованно через личностный выбор.
Человек является первоисточником всех ценностей и ценностных предпочтений, поэтому любая аксиология предполагает философскую антропологию и на ней базируется. Ценить и оценивать что-либо может лишь человек. Он – единственное существо, способное не только к сенсорному, чувственно-эмоциональному, интеллектуальному, но и к духовно-нравственному познанию и самопознанию, к артикуляции и символической фиксации его результатов.
Создателем одной из самых рафинированных аксиологических доктрин, в которой ценности рассматриваются как продукт спонтанного («естественного») познания человеком мира через эмоциональные переживания, по праву считается Макс Шелер.
В своем главном труде он противопоставляет этическому «формализму» И. Канта (абстрактному рационализму в этике) свою «материальную этику ценностей», обоснованную феноменологически. Согласно Шелеру, феноменология выявляет не только сущностную самобытность различных явлений эмоциональной жизни, но и ценности как феномены ценностного чувствования в их иерархической субординации, поэтому оказывается одновременно аксиологией. Ценностное чувствование понимается двояко: во-первых, как до-рефлексивное интуитивное (поэтому априорное) эмоционально-волевое влечение, тяготение к чему-либо; во-вторых, как точно такое же до-рефлексивное интуитивное (поэтому априорное) эмоционально-волевое предпочитание одного другому.
Аксиология Шелера – сложная иерархическая система, выстроенная по вертикали и по горизонтали. «Наиболее важные и основополагающие из всех априорных отношений, – писал он, – существуют между отношениями качественно различных систем материальных ценностей1, которые мы называем ценностными модальностями, – а именно в виде степенного порядка их значимости. Они образуют собственно материальное apriori нашего понимания того, что ценно и что предпочтительно. Факт их существования как раз и является самым убедительным опровержением кантовского формализма» [Scheler, 1980: 122]. Согласно Шелеру, существуют четыре иерархических уровня «ценностных модальностей» (в порядке возрастания):
Кроме того, ценности подразделяются в зависимости от их различных носителей. Располагаясь как бы по горизонтали, эти ценности образуют двойные и тройные иерархические подсистемы, внутри которых первые имеют более высокий ценностный статус по отношению ко вторым, вторые – по отношению к третьим (если они есть):
Подчеркнем: ценностные смыслы и предпочтения появляются до сознательного рационального выбора либо произвольного полагания. Когда мы говорим: это для меня святое, самое дорогое, это мне нравится, это я люблю, а то – нет, и т. п., мы фиксируем такие предпочтения в речи и благодаря этому уже частично их осознаем и осмысливаем. Между тем значительная часть наших ценностей и ценностных предпочтений остается на протяжении всей нашей жизни не осознаваемой и не осмысливаемой. Ценности и ценностные предпочтения в таком понимании спонтанно формируют нашу эмоциональную и душевную конституцию (то, что Августин называл «ordo amoris», а Б. Паскаль – ”ordre du coer“), в значительной мере предопределяют нашу судьбу. Чем более развит человек как личность, тем более содержательно богатыми и вместе с тем одухотворенными являются его потребности и стремления, чувства и эмоции, представления и мысли.
Ценности в их вторичном, культурно-историческом и социокультурном смыслах составляют ядро мировоззрения каждого человека как индивидуальной личности. Они необходимо взаимосвязаны с коллективной ментальностью – «общественным сознанием» на его низшем социально-психологическом уровне, или «коллективным бессознательным», – равно как и «общественным сознанием» на его высшем уровне. В первом случае ценности, ценностные предпочтения и установки впитываются, так сказать, с молоком матери, т. е. усваиваются бессознательно через психологическое заражение и подражание в процессе воспитания и социализации. Во втором случае они осваиваются путем научения в процессе образования и формирования личности через включение в традиционное наследие, представленное в виде символических форм культуры.
Ценности в научном познании. Ценности – как бы их ни понимали – имеют большое значение для научного познания. С одной стороны, через мировоззрение ученого, его личностные интересы, а также через приоритетные интересы общества в виде запросов экономической и политической практики они выполняют в научном познании важную селективную функцию: влияют на выбор (предпочтение) направления научного поиска, на выбор (предпочтение) тем и предметов исследований. Далеко не всегда ценности в этой своей функции осознаются и артикулируются самими учеными. Многие из них пребывают в иллюзии относительно своей якобы полной незаинтересованности и якобы стопроцентной объективности.
В действительности нет никакой ценностной нейтральности по отношению к описанному выше выбору, как ее вообще нет и не может быть в социальном познании. Благодаря М. Веберу в начале ХХ в. сложился и передается по традиции из поколения в поколение назидательный сказ, будто социальное познание становится подлинно научным только тогда, когда радикально зачищено от всех ценностей, а где ценностной нейтральности нет, там якобы нет подлинной научности, да и науки вообще. Этот миф, происходящий из позитивистской и неокантианской философии науки, под влиянием которой сложились взгляды М. Вебера, неоднократно подвергался критике, но до сих пор жив в силу авторитета его создателя.
Вера немецкого социолога в конструктивную мощь научной рациональности, которая, по его мнению, единственная гарантирует познанию достоверность, заслонила от него тот факт, что перенесенная им в виде норм научного этоса рациональная этика долга И. Канта фундирована в комплексе ценностных смыслов, которые специфичны только для Западной Европы Нового времени.
Фундаментальная иллюзия этой эпохи состояла в том, что интеллектуальные достижения ее ведущих мыслителей воспринимались ими и их последователями как якобы высшие достижения человечества, несомненно обладающие абсолютной значимостью для всех времен и народов. Эта иллюзия получила в XVI–XIX вв. широкое распространение в образованных слоях и правящих кругах Западной Европы. Она явилась ментальным источником предрассудка, согласно которому европейцу – испанцу, англичанину, голландцу, французу, бельгийцу, немцу и др. – благодаря якобы более высокому уровню его интеллектуального и цивилизационного развития предназначено господствовать над всем миром.
Этот европоцентристский предрассудок стал мировоззренческим основанием расизма (во всех его проявлениях вплоть до нацизма) – убеждения в прирожденном, данным от Бога превосходстве белой расы над остальными расами, западноевропейцев над славянами и др. Одним из его проявлений в сфере культуры явилась вера в разум, отвлеченный от своих культурно-исторических экзистенциальных (прежде всего религиозных) ценностных предпосылок. Вместо Бога «чистый разум» был объявлен творцом и законодателем мироздания, первоисточником всех императивов и норм. Человеческая культура была поставлена тем самым с ног на голову. Ибо в действительности ценности, выраженные в заповедях традиционных религий, всегда первичны – императивы и нормы вторичны. Каковы ценности, таковы императивы и нормы. Что касается человеческого познания, то «ценностная нейтральность» для него самоубийственна. Она так же не совместима с ним, как вакуум – с жизнью. Пуристское стремление освободить познавание мира от ценностей знаменует не начало познания, а его конец.
Выдающимся выразителем такого пуристского стремления был основатель «трансцендентальной феноменологии» как «строго научной» философии Э. Гуссерль. Он ввел в оборот понятие «редукция». Имеется в виду «нейтрализация», «неприятие во внимание», «логическое игнорирование», «вынесение за скобки», «элиминация» и т. п. Чего именно? Действительности как она есть, мира как реальности. Первая ступень трансцендентально-феноменологической редукции – выключение т. н. «естественной установки» (того, что мир есть, что он тут), свойственной людям как носителям обыденного сознания в повседневной жизни. Согласно Гуссерлю, надо исключить из «строго научного» познания, стремящегося к абсолютной вечной истине, все историческое и психологическое, ибо оно содержит в себе субъективное и относительное (в чем Гуссерль видел, с когнитивной точки зрения, лишь негативное), а следовательно, нечто оценочное и ценностное. Вторая и третья ступени феноменологической редукции, соответственно эйдетическая и трансцендентальная редукции, уносят нас в мир чистых сущностей. На третьей ступени происходит радикальное «очищение» имманентного опыта и выход к чистой «трансцендентальной субъективности» (возврат к «cogito ergo sum» Декарта на новом, более глубоком уровне).
Ясно, что вторая и третья ступени специфичны для философии. Но обращает на себя внимание тот факт, что в трактовке Гуссерля первая ступень феноменологической редукции очень похожа на то, что, с теоретико-методологической точки зрения, требуется для достижения позиции научного познавания как особого отношения к миру, а именно для психосоматической подготовки к научно-исследовательской работе. Такое совпадение отнюдь не случайно. Гуссерль, желавший и философию (в виде «трансцендентальной феноменологии») сделать «строгой наукой» по образцу математики, сформулировал главный смысл научной редукции. Что это? Говоря коротко, это конституирующая науку как форму культуры слепота по отношению к целостному человеческому бытию и избирательный подход к тому, что существует в действительности. Ответим на этот вопрос более подробно.
Исходный пункт научного познания – обыденное повседневное сознание. Научная редукция урезает саму форму нашего обыденного, ориентированного практически (а потому всегда ценностно) восприятия, сознания и мышления мира, подготавливая селекцию материала, который еще только сможет попасть в сферу нашего внимания и интереса. Прежде всего она элиминирует все, что нам не дано в ощущениях через органы чувств, а потому не поддается контролируемому восприятию, наблюдению, эксперименту. Игнорируется то, что имеет качественный характер и не поддается квантификации, что уникально, случайно и нерегулярно; что в той или иной мере душевно-эмоционально – прежде всего переживание ценностей и ценностных предпочтений. Исключается не только то, что имеет отношение к личности как духовному центру, но и вообще все, что связано с человеческой «субъективностью»; что допускает, помимо естественных причин, какие-то иные (здесь логика неумолимо железная: если причины не естественные, стало быть, они «сверхъестественные») и т. д. Позитивная наука как особый вид познания вообще стремится познать мир так, как если бы в нем не было человека и его личности.
Так научная редукция вырезает из бытийной целостности мира свой узкий сегмент. Она выстраивает на нем (как идеал) безличное тотально квантифицированное царство, где правят естественно-причинная необходимость и неотвратимо действующие законы, затем выдает свою картину мира за подлинную, а свое знание за единственно достоверное.
Что такое научная редукция, с методологической точки зрения? Научный объективизм с идеалом ценностной нейтральности. Но все, что делает человек, имеет прагматический смысл, даже пресловутое Кантово «целесообразное без цели». Научная редукция движима бессознательным стремлением человека как родового существа подчинить и контролировать все естественные процессы и явления: знать, чтобы предвидеть, а предвидеть, чтобы управлять и господствовать. Чтобы овладеть миром, надо преобразовать его силой – силой науки и техники, но для этого сначала надо обесценить его: убедить себя, что насилуемый мир не заслуживает любви, что его не жалко, что он заслуживает только ненависти и презрения. В этом – конечный смысл западноевропейской Реформации, которая вполне закономерно увенчалась эпохой Просвещения с культом чистого разума, научной рациональности и порождаемой ими техники.
Таким образом, в научной редукции мира заключена фундаментальная ценность, которой изначально руководствуется наука как форма человеческой культуры. Не зря основатель философии и науки Нового времени лорд-канцлер и пэр Англии Ф. Бэкон, а впоследствии и его секретарь Т. Гоббс так любили цитировать латинскую поговорку “ipsa scientia potestas est” («знание само по себе сила»). Они вкладывали в нее особый смысл. Насколько глубоко его понимают наши современники, которые в социологии хотят видеть ценностно-нейтральную науку?
Разумеется, субъективный произвол всякого рода, оценочная вкусовщина, профессионально-корпоративная тенденциозность, передергивание смыслов, ложь и лицемерие – будь то из соображений политкорректности либо корысти – должны быть исключены из научного познания. Воздерживаться от них является первым методологическим требованием в любом познании, не только социальном и социально-научном. Но исключать можно и должно только оценки – ценности исключить невозможно. Первые в виде артикулированных оценочных суждений либо предвзятости по умолчанию в форме субъективистских предпочтений лежат на поверхности научного дискурса или на небольшой его глубине, поэтому при адекватной методической установке сравнительно легко «вычисляются».
Вторые определяют направленность научного дискурса, лежат в самой его основе. На это справедливо указывал Г. Риккерт, писавший о принципиальном различии между ценностными суждениями, или оценками, и «отнесением к ценностям». Ценности поддаются выявлению с большим трудом, иногда остаются недоступными для теоретической рефлексии в течение длительных исторических периодов. То, что в философии науки со времен Т. Куна называют революционной сменой парадигм, происходит именно благодаря выявлению, осознанию и ревизии идейно-ценностных (мировоззренческих) оснований научных дискурсов.
На наш взгляд, аналогичное имел в виду и К. Мангейм в своей концепции «социологической функционализации», когда писал о «чудесной особенности социологического мышления» – способности создавать новые теоретические синтезы посредством интерпретации старых теорий. По его мнению, историческая дистанция позволяет впервые осознать и осмыслить те «смысловые бытийные предпосылки» старых теорий, которые при их возникновении были не очевидны, что позволяет включить их как часть в новые социологические теории, покрывающие более широкие зоны и/или более глубокие пласты социальной реальности. Эта своеобразная «социология социологии» обеспечивает, по его мнению, прирост знания в теоретической социологии. Такой тип истолкования «духовных образований» (идей, смыслов, ценностей) исторического прошлого он называл «социологическим квазиобъяснением», т. е. истолкованием под видом объяснения [Мангейм, 2022: 700–701].
С другой стороны, ценности и ценностные предпочтения сами являются темой исследований и предметом изучения. Речь идет, в частности, об исследовании ценностных оснований науки как формы человеческой культуры и научного познания как вида когнитивной деятельности человека в философии (религиоведение, этика, эстетика), в теории и истории науки, в социальной философии, в культурологии, в социологии науки, в социологии познания и знания. Групповые ценности и ценностные предпочтения, коллективное ценностное сознание, его состав и структуру исследуют в эмпирической социологии. Во всех такого рода дискурсах необходима критическая рефлексия в отношении ценностных оснований собственной мировоззренческой и исследовательской позиции.
Так, одним из примеров критической социологической рефлексии являются размышления С. Ю. Демиденко о «противоречиях ценностных позиций» социологов по отношению к СВО. Она констатирует реальную проблему: война Запада против России на Украине вынуждает делать выбор в пользу западных либо российских ценностей, вовлекая социологов в политически-идеологическое противостояние. Она также обращается к мировому опыту анализа «научного этоса» (Роберт Мертон, Бернард Барбер) и приходит к выводу: «…этос науки – это, скорее, некая идеальная модель (идеальный тип), к которой нужно стремиться, но использовать которую не всегда возможно» [Демиденко, 2023: 427].
Здесь не место критике идеалистически-рационалистической нормативистской концепции научного этоса Мертона. Тем более что выдвинутое им позднее (совместно с Элинор Г. Барбер3) понятие «социологической амбивалетности», на наш взгляд, релятивизирует ее и ставит под сомнение. Концепцию же Б. Барбера трудно воспринимать всерьез. Императивы Мертона, первоисточником которых со всей очевидностью являлась искренняя вера в моральную добродетель рациональности, Барбер «дополнил» своим императивом: «вера в моральную добродетель рациональности». Причем этот императив он провозгласил в книге, опубликованной всего через семь лет после краха Третьего рейха. А ведь ученые в нем руководствовались именно такой верой, сохраняя при этом «эмоциональную нейтральность» (второй «дополнительный» императив Барбера). В частности, и тогда, когда ставили в концлагерях чудовищные, но рационально обоснованные научные эксперименты над заключенными4.
«Беспристрастность позиции – это то, к чему должен стремиться социолог при проведении исследования и анализе данных, – пишет Демиденко. – Однако если в получаемых редакцией текстах статей преобладают оценочные суждения, речи об объективности и норме эмоциональной нейтральности уже не идет. Замысел исследования и его интерпретация также могут зависеть от ценностной позиции социолога. Возможно ли в этом случае оставаться на этой нейтральной позиции? Возможна ли она вообще? Ведь выбор фокуса исследовательского интереса также во многом субъективен и определяем целым рядом параметров: от степени приверженности отрефлексированным ценностным ориентациям, до конъюнктурного соглашательства с интересами заказчика проводимого исследования» [там же: 428] (Курсив наш. – Прим. А.М.). С этим нельзя не согласиться5. Жаль только, что прямые вопросы, которые ставит автор, хотя и не остаются в контекстуальном смысле чисто риторическими, не получают таких же прямых ответов.
Ценности в социологии. В рамках социально-научного подхода к ценностям как предмету исследования предпринимаются попытки их выявления с целью последующего осмысления. Но то, что при этом «выявляется», оказывается, с нашей точки зрения, рационально-мыслительным конструктом, имеющим весьма опосредованную связь с реальной действительностью. Рационализация нерационального, квантификация социальных качеств и сущностей происходит с необходимостью, так как у научного познания в принципе нет доступа к тому пласту бытия, на котором формируются ценностное чувствование человека и комплексы его ценностных предпочтений, трансформируются ценностное сознание людей и соответствующие ему установки. Понимание, осмысление и истолкование чувственно-эмоциональных переживаний, душевно-духовных устремлений и ментальности людей заменяются рациональным конструированием социальной реальности. За всем этим стоит укоренившаяся в социальной мысли и особенно в социологии дурная традиция недооценки нерациональной сферы человеческого существования – интуиции, чувств, душевных движений, манифестаций воли, всякого рода эмоционально-волевых комплексов и т. п.
Как завещал изобретатель социологии О. Конт, «социальная физика» должна работать с фактами и только с фактами. Поэтому социологи вынуждены обращаться к той единственной фактичности, которая, по их предположению, содержит ценностные смыслы, – к фактичности естественного разговорного языка. Все методики эмпирического исследования ценностей (в т. ч. известная методика Ш. Шварца, разработанная в начале 1990-х) базируются на работе с языком. Для этого ученые отождествляют смыслы слов и выражений, отобранных ими с помощью оценки экспертов из предварительного списка, с теми ценностными смыслами, которые их самих интересуют, а потом отождествляют эти слова и выражения с определенными этическими, социально-научными и социально-философскими понятиями, соответствующими их теоретическим концепциям [Базовые ценности, 2003: 16–21].
Остальное – дело техники: по определенной выборке проводятся массовые опросы посредством интервью или анкет, в вопросах которых фигурируют ключевые слова и выражения, обозначающие ценности. В ходе статистической и математической обработки полученной информации производится ее дальнейшая квантификация (например, в случае наличия «открытых» вопросов, а также с целью получения средних величин, индексов, распределений внутри различных вопросных блоков и т. п.). Таким образом, психологические реакции респондентов на предложенные им языковые «символы» понятий интерпретируются социологами как «ценности». Но ценности ли это?
Типичный пример социологического исследования ценностей и интерпретации его результатов представлен в коллективной монографии «Базовые ценности россиян…»6. Что же имеется в виду под «базовыми ценностями»? «…Под базовыми ценностями подразумеваются либо достаточно абстрактно выраженные представления о том, что наиболее желательно и эмоционально привлекательно (способно соответствовать идеальному состоянию бытия людей), либо столь же эмоционально привлекательный – и как раз в силу этого предпочитаемый – модус поведения или способ действий (к примеру, моральные ценности добра и справедливости)» [Базовые ценности, 2003: 19]. Надо ли говорить о том, что, по меньшей мере, тройное опосредствование социальной реальности научно-рациональным конструированием приводит к реификации ценностей и создает другую, альтернативную реальность? В структурном отношении ситуация аналогична той, что выражена в лозунге «Ударим автопробегом по бездорожью!»: строительство дорог подменяется спортивным соревнованием. Зато люди заняты.
Проблема не в том, что получаемая социологами информация о ценностях вообще лишена смысла, – он, конечно, имеется, просто не совсем ясно, какой именно и как он соотносится с действительностью, – а в том, что ценности остаются скрытыми за теми рациональными конструкциями, которые искусственно создают в своих профессиональных интересах социологи. Здесь, как и во многом другом, принципиально важна мера, в какой социологи действительно познают ценности. Но, если верно, что язык не столько открывает истину, сколько скрывает ее, это тем более верно, когда вопрос о ценностях переводится с естественного разговорного языка на искусственную научную терминологию.
Социологи и социальные психологи игнорируют тот факт, что некоторые сферы человечески-личностного и группового социокультурного бытия недоступны для эмпирического исследования и дискурсивного познания вообще. Ценности относятся как раз к такой сфере. Они просто исчезают, аннигилируются при попытке проникновения в них извне. Стремление изучить их «качественными» методами тоже часто не достигает цели. Исследования ценностей посредством традиционной анкетной технологии могут привести лишь к сомнительным результатам, которые по большому счету никому не нужны, кроме самих социологов. Результаты могут считаться достоверными, но область социальной значимости этой достоверности ограничивается узким профессиональным кругом.
Политики, хозяйственники, «простые» люди и все, кто не входит в указанный круг, не понимают и не обязаны понимать язык социальной науки, особую социологическую терминологию. Их интересуют конечные выводы, которые позволяют увидеть и понять в обществе то, что сами они не видели и понять не могли, что можно использовать на благо народу и государству. Но выводы социологов зачастую тривиальны. Они представляют собой перевод общеизвестного с разговорного языка на мудреный профессиональный сленг, который изобилует латинизмами, англицизмами, германизмами и прочими «волшебными» словами, некритически заимствованными у социологов Запада, которые с 1960-х гг. задают нам направления эмпирических исследований и ценностно-значимые образцы теоретическо-социологического мышления. То, что социологи и социальные психологи приписывают россиянам наличие у них каких-то «базовых» ценностей – например, числом десять – или рассказывают о том, как менялись эти «базовые» ценности на протяжении последних 15 лет, ничего не меняет в жизни и сознании «простых» россиян. Они об этом ничего не знают и скорей всего никогда не узнают. Впрочем, как и большинство лиц, наделенных государством полномочиями принимать хозяйственные и политические решения.
Уходя от простой очевидности социальных феноменов в зону научно-рационального мышления, ученые-социологи обычно сразу приступают к объяснению того, что сначала надо еще выявить, осмыслить и понять. Одно из двух: либо они объясняют то, чего на самом деле не понимают, – либо втайне от самих себя исходят из данности ценностных смыслов как феноменов, присутствующих в их подсознании благодаря включенности в традиционную ментальность своего народа. В первом случае мы имеем дело с «ученым невежеством» (не в смысле docta ignorantia Николая Кузанского), во втором – с криптометафизикой социологии как позитивной науки7, т. е. с ее конститутивным пороком, воспроизводящим родовую травму8. Ни то ни другое не вселяет надежд на изменение роли социального познания в жизни современного российского общества.
Заключение. Обыденное сознание не проводит различие между политически-идеологическими «ценностями» и ценностями в их первоначальном, человеческо-личностном смысле, поэтому без сомнения принимает за национальные или цивилизационные ценности все, что таковым объявляют с высоких политических трибун, а это, в свою очередь, – за ценности в подлинном смысле слова. Гуманитарнои социально-научное познание отталкивается от обыденного сознания и критикует его, однако руководствуется той фундаментальной ценностью, которая присуща любому научному познанию (см. выше). Поэтому оно также не проводит различий между ценностями как таковыми и ценностями в «метафорическом» смысле и прагматично исходит из того понимания предмета («ценности»), которое задают актуальные потребности общественной жизни.
Если представители гуманитарной или социальной науки пытаются провести указанное выше различие, то они сталкиваются с проблемой идентичности своей дисциплины как именно научной. Ведь теоретическое осмысление проблемы ценностей выводит за границы науки в сферы философии (философии познания и знания, философии человека, истории и культуры, социальной философии и т. д.), даже мифа и религии. Впрочем, это совершенно не смущает подавляющее большинство эмпирических (и не только эмпирических) социологов, ментально приверженных сциентистской парадигме, заданной О. Контом. Ибо их учитель создал доктрину, которая изначально была нашпигована криптометафизикой и потому не случайно, а закономерно – в обратном порядке эволюции человеческого ума, согласно «закону трех стадий», – завершилась созданием гуманистического эрзац-религиозного «альтруистического» культа Верховного Существа (Человечества).
«…Конт, все время сознательно или бессознательно ориентировавшийся на католическую религиозно-институциональную “модель”, парадоксальным образом сближается с кальвинизмом, – отмечает Ю. Н. Давыдов сущностную черту позитивизма Конта, на которую мало кто обращал внимание. – Во всяком случае, его – имманентный, земной – Бог требует от приверженца “позитивистской религии” абсолютной самоотверженности, полнейшего отказа от нравственной самостоятельности. И некоего морального фатализма, который можно сравнить разве лишь с тем, какого требовал от приверженца аскетического протестантизма трансцендентный Бог Ж. Кальвина» [Давыдов, 2002: 130–131].
Не удивителен тот факт, что сегодня ничто не мешает социологам, прикрываясь «научностью» своей дисциплины, писать что угодно без какой-либо мало-мальски серьезной теоретико-методологической рефлексии. Например – создавать квазинаучные ценностно-фундированные мифы, преисполненные историческим фатализмом: как тут не вспомнить «теорию цивилизационных матриц» Запада и России, которым неявно приписывается как нечто изначально и навечно данное, соответственно мужское и женское начала. Или – развивать социальную философию, которая отрицает у человека наличие духа и духовности как чего-то специфически человеческого, соответственно, элиминирует личность, да и вообще человека как субъекта социального действия, для чего реанимирует давно отвергнутые учения «зоологической социологии» и апеллирует к новейшим тенденциозным исследованиям западных ученых в области социобиологии и этологии социальных животных. И все это называется «социологией».
Сто лет назад Н. А. Бердяев писал: «Мы живем в эпоху обнажений и разоблачений. Обнажается и разоблачается и природа гуманизма, который в другие времена представлялся столь невинным и возвышенным. Если нет Бога, то нет и Человека – вот что опытно обнаруживает наше время» [Бердяев, 1994: 413]. Первая четверть XXI в. с еще большей очевидностью подтверждает то, что на историческом опыте ХХ в. обнаружил выдающийся русский мыслитель.
1 Под «материальностью» ценностей имеется в виду их душевно-духовная определенность, наполненность конкретным содержанием.
2 Подробнее см.: [Малинкин, 2024: 46–56].
3 Супругой упомянутого выше Бернарда Барбера.
4 Тем же занимались и японские ученые. Их научные разработки также перешли в руки ученых США, которые по сей день продолжают их во множестве секретных лабораторий, размещенных во всех странах бывшего СССР, особенно в большом количестве (известно о 30) на Украине.
5 Демиденко вполне оправданно ссылается на книгу Л. Г. Ионина о М. Вебере, в которой он пытается выявить подлинные человеческо-личностные мотивы создания немецким социологом доктрины прогрессирующей тотальной рационализации жизни (на Западе). Но и внимательное изучение наследия М. Вебера в оригинале приводит Ионина к нетривиальному выводу, основанному, очевидно, на его концепции «новой магической эпохи»: «Вебер пишет: “Люди знают или верят”. Это значит, что расколдовывание основано на вере, на которой, собственно, основана и магия, являющаяся главной мишенью для расколдовывателей» [Ионин, 2022: 223].
6 Критический анализ содержания этой книги не входит в наши задачи.
7 Под «позитивной наукой» имеется в виду наука, идеальным образцом-моделью для которой служит естествознание (science).
8 «Главное содержание социологии исчерпывалось тем, что можно было бы назвать, с одной стороны, социальной философией, каковой, по преимуществу, оказался у О. Конта раздел социологии, посвященный социальной статике, а с другой – философией истории, которой едва ли не исчерпывается раздел, посвященный социальной динамике» [Давыдов, 2002: 131].
Об авторах
Александр Николаевич Малинкин
Институт социологии ФНИСЦ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: lo_zio@bk.ru
кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы / Отв. ред. А. В. Рябов, Е. Ш. Курбангалеева. М.: Дом интеллектуальной книги, 2003.
- Бердяев Н. А. Новое средневековье // Философия творчества, культуры и искусства в двух томах. Т. 1. / Вступ. статья, составление, прим. Р. А. Гальцевой. М.: Искусство; ИЧП «Лига», 1994.
- Давыдов Ю. Н. Конт и умозрительно-спекулятивная версия позитивной науки об обществе (Конт и Гегель) // История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 1. / Отв. ред. и сост. Ю. Н. Давыдов. М.: Канон + ОИ «Реабилитация», 2002. С. 63–140.
- Демиденко С. Ю. Вопросы этики и ответственности социолога в контексте противоречия ценностных позиций (на примере отношения к СВО) // Вестник УдГУ. Социология. Политология. Международные отношения. 2023. Т. 7. Вып. 4. С. 425–434. doi: 10.31857/S013216250028531-7.
- Ионин Л. Г. Драма жизни Макса Вебера. М.: Дело, 2022.
- Малинкин А. Н. Комментарии // Макс Шелер. Мысли о политике и морали. О национальных идеях великих наций / Пер. с нем., прим. и ком., сопровод. ст. А. Н. Малинкина. М.; СПб.: ЦГИ, 2024. С. 39–88.
- Мангейм К. Идеологическая и социологическая интерпретации духовных образований // Звучащие смыслы: диалог с миром. Культурологический альманах / Под ред. С. Я. Левит. М.; СПб.: ЦГИ, 2022. С. 694–719.
- Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus // Gesammelte Werke. Bd. 2. Bern, München: Francke Verlag, 1980.