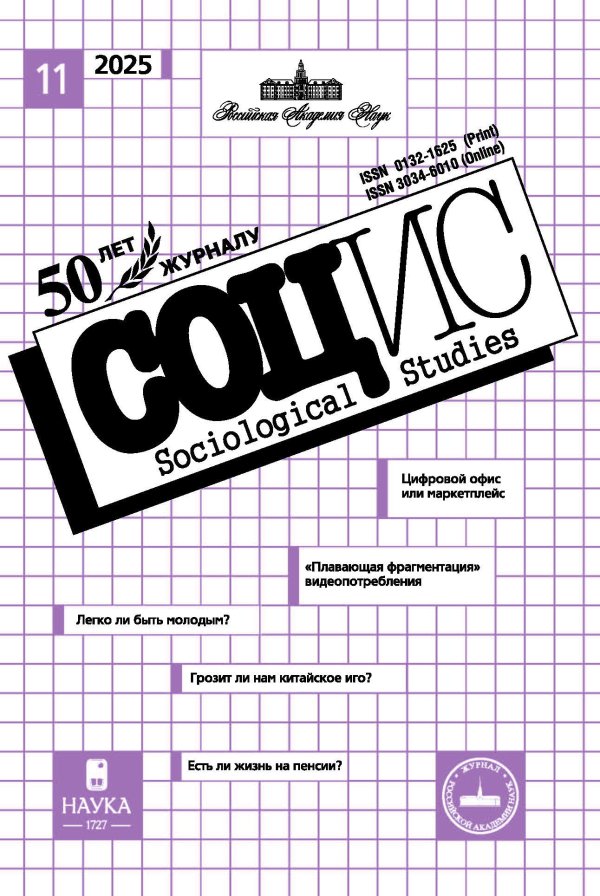Занятость в личном подсобном хозяйстве: этнорегиональные особенности (на примере Хакасии)
- Авторы: Лушникова О.Л.1
-
Учреждения:
- Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 153-159
- Раздел: ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. ЗАМЕТКИ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-1625/article/view/260259
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524040143
- ID: 260259
Полный текст
Аннотация
В условиях высокой безработицы на селе занятость в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) становится альтернативой работы по найму. При этом роль ЛПХ в разных природно-климатических, экономических и социокультурных условиях неодинакова. В статье сравниваются практики ведения ЛПХ в Хакасии как полиэтничном регионе для выявления этнорегиональных особенностей домашнего подворья. В качестве исследуемых при помощи социологического опроса (566 респондентов) этнических групп выбраны проживающие в сельской местности русские, хакасы и шорцы. Наиболее активными в ведении ЛПХ оказались хакасы, меньше всех вовлечены шорцы, русские занимают «серединное» положение. Дифференциация домашних подворий связана не только с разными природными зонами проживания (хакасы тяготеют к степной зоне, шорцы живут исключительно в таежной), но и с этническими различиями мотивов и институциональных условий ведения этого хозяйства. Русские сельчане чаще рационально ориентированы на самообеспечение продуктами питания, в то время как хакасы и шорцы крупное домашнее подворье чаще ведут «по привычке» или осознанно как элемент традиционного образа жизни. Различия ЛПХ у сельчан Хакасии оказываются следствием переплетения влияния трех факторов – разных природных зон проживания, различных этнокультурных традиций и неодинакового правового статуса этнических групп.
Ключевые слова
Полный текст
Роль домашнего подворья в современных социально-экономических условиях остается существенной. Исследования доказывают, что сельские домохозяйства способствуют самозанятости населения [Великий, Шабанов, 2019], служат источником дохода [Шабанов, 2018б], а в условиях безработицы даже помогают сельчанам выжить [Жалсанова, 2018]. Однако масштабы ЛПХ зависят от разных факторов, включая этнотерриториальные особенности [Игошева, 2020: 73]. В частности, некоторые народы России сохраняют традиционные виды хозяйствования – оленеводство (якуты), пантовое мараловодство (алтайцы), яководство (тувинцы) и др. В современной научной литературе такую хозяйственную деятельность называют «этнической экономикой» [Иванова, 2018] или «этноэкономикой» [Бакшеев, 2016], подразумевая воспроизводство и развитие исторически сложившихся хозяйственных практик в новых социально-экономических условиях.
Этнические различия хозяйственно-экономической деятельности отчетливо проявляются в условиях полиэтничности. Например, сравнительное исследование практик трудового поведения русских и татар выявило более высокую активность последних в сельском хозяйстве [Габдрахманова, 2021]. Проведенное автором исследование в Хакассии также подтвердило наличие этнических особенностей ведения хозяйства среди основных этносов региона [Лушникова, 2022].
Целью данной статьи является сравнение практик ведения личного подсобного хозяйства в условиях полиэтничности представителями трех этнических групп Хакасии – русских, хакасов и шорцев. Эмпирическую базу исследования составили материалы социологического опроса в сельских населенных пунктах Хакасии в июне 2023 г.
Изначально планировалось опросить одинаковое количество представителей каждого этноса, но при поиске респондентов-шорцев возникли трудности. Оказалось, что значительная часть шорцев, зарегистрированных в сельской местности, фактически проживают в городах или даже в других регионах. Это связано с тем, что, согласно законодательству, претендовать на получение различных льгот и мер поддержки как представители коренного малочисленного народа могут только шорцы, проживающие в сельской местности. В ходе опроса удалось опросить всего 186 шорцев; исходя из этого, было опрошено по 190 русских и хакасов; общая выборка составила 566 человек. Проводился уличный опрос и опрос по месту жительства, также использовался метод «снежного кома» (преимущественно для поиска респондентов-шорцев).
Общая характеристика региона. Хакасия относится к дотационным регионам России с высокой долей (30% населения) проживающих в сельской местности. Хозяйства населения (к числу которых относятся и ЛПХ) производят значительный объем всей сельскохозяйственной продукции региона: 94% картофеля, 69% скота и птицы, 68% молока, 77% овощей (по данным 2022 г.).
В Республике Хакасия проживает более 100 национальностей, но большинство составляют русские (82% в 2020-х гг.), в основном потомки приехавших в 1920–1960-е гг. Активная русская миграция привела к интенсивной ассимиляции коренных народов и сокращению их относительной численности: хакасы составляют примерно 12% населения, шорцы – 0,3%. В сельской местности доля русских заметно меньше, но и среди сельчан они составляют большинство, преобладают села с этнически смешанным населением (хотя в «шорских» селах есть улицы, где живут только шорцы).
Основная часть хакасов и шорцев проживает на территории двух удаленных от столицы республики районов – Аскизского и Таштыпского. Эти районы значительно различаются друг от друга географическими характеристиками: Аскизский район преимущественно представлен степной местностью, а 80% площади Таштыпского района занимает тайга. Хакасы в основном расселены в степной местности, а шорцы – в таежной. Русских в этих сельских районах проживает относительно немного: в Таштыпском районе – примерно столько же, сколько и хакасов, а в Аскизском – почти вдвое меньше.
Шорцам как представителям коренного малочисленного народа, в соответствии с российским законодательством, отведены территории традиционного природопользования, где им разрешено вести промысловую деятельность круглый год (собирательство дикоросов, охоту, ловлю рыбы). Кроме того, проживающие в сельской местности шорцы имеют право на социальную пенсию (13,5 тыс. руб. в начале 2020-х гг.) по старости (женщины по достижении 50 лет, мужчины – 55 лет), но претендовать на нее могут только безработные.
Практики ЛПХ. Ориентация на личные хозяйства – наиболее адекватный в сложившихся социально-экономических условиях способ адаптации сельского населения [Бушуева, 2014; Нечипоренко, 2013]. Ведение ЛПХ – привычный для сельского образа жизни вид деятельности; он не связан с кардинальными изменениями (например, переездом) и имеет потенциал стать альтернативой наемному труду.
Однако разные этнические группы региона отличаются очень разной степенью хозяйственной активности на личном подворье (рис. 1).
Рис. 1. Хозяйственная активность хакасов, русских и шорцев, % опрошенных
Наименее активны в ведении ЛПХ проживающие в таежной местности шорцы: 19,9% из них вообще не имеют хозяйства, еще 38,7% опрошенных занимается только огородным выращиванием овощей. Среди русских число сельчан, ориентирующихся исключительно на огороднические практики, примерно такое же (32,1%), но больше половины опрошенных русских, помимо овощеводства, также занимается скотоводством (59,5%). Хакасы – жители степных территорий – оказались наиболее активными: среди них удельный вес занимающихся одновременно разведением скота и выращиванием овощей – 68,9%.
Подворье хакасов можно считать наиболее разнообразным и доходным: половина из них имеет в своем хозяйстве несколько видов скота (рис. 2).
Рис. 2. Соотношение респондентов, не имеющих скота и имеющих разное количество видов скота, % опрошенных
Среди опрошенных русских только чуть больше трети имеют разнообразное подворье животных, а среди шорцев – меньше четверти.
При опросе мы предлагали респондентам назвать количество имеющихся в их хозяйстве голов скота, однако на этот вопрос ответили только 46,5% всех опрошенных. Учитывая это, мы не можем делать однозначных выводов о разности масштабов ЛПХ, но и полученные данные показывают сильные различия разных этнических групп. Так, хозяйство шорцев в среднем насчитывает лишь 1,7 голов скота, русских – 3,8 голов, а хакасов – 8,5 голов различных видов животных.
Огородничество – менее хлопотное по сравнению с содержанием скота занятие, и большая часть опрошенных, независимо от национальности, выращивает овощи на своем приусадебном участке. Вместе с тем некоторые различия между представителями разных этнических групп все же есть. Так, меньше всего вовлечены в овощеводческие практики шорцы: 19,9% из них не занимаются выращиванием овощей. Низкую активность шорцев можно объяснить, во-первых, географическими особенностями мест их проживания (тайга, горы), ограничивающими возможности овощеводства; во-вторых, ориентацией на занятия промыслами. Наиболее существенный доход шорцам приносит собирательство ягод и ореха: в урожайные годы на вырученные от сдачи дикоросов деньги можно прожить весь год. Хороший доход приносит охота, но этим промыслом занимаются относительно немногие (24,2% шорцев).
Мотивы и институциональные условия ведения ЛПХ. Результаты исследования показали, что подворье сельчан носит преимущественно натуральный характер. Они разводят скот и выращивают овощи, чтобы «обеспечить себя продуктами питания», именно этот рациональный мотив приоритетен (от 88,5% у русских до 67,8% у шорцев) во всех трех группах (табл.). В то же время у хакасов и шорцев второй по приоритетности мотив – «по привычке» (86,6% и 72,0% соответственно), среди русских его называли лишь половина (50,3%) респондентов. Аналогичные различия наблюдаются с сознательной ориентацией на образ жизни предков: для всех сельчан такая мотивация относительно второстепенна, но у хакасов и шорцев высокая «ценность земли и скота» как мотив вести ЛПХ встречается вдвое чаще (33,0% и 29,5% соответственно), чем у русских (16,1%). Надо иметь в виду, что мотивы «по привычке» и «так делали мои предки» – это в сущности, разные формы выражения зависимости от предшествующего исторического развития, когда новые поколения «по инерции» копируют образ жизни предков.
Таблица
Мотивы ведения ЛПХ, % ведущих хозяйство (допускалось до трех ответов)
Мотивы | Русские | Хакасы | Шорцы |
Обеспечиваю себя продуктами питания | 88,5 (1) | 79,9 (2) | 67,8 (2) |
Нравится работать на земле и ухаживать за животными | 60,9 (2) | 49,7 (3) | 54,4 (3) |
Привык, всю жизнь занимаюсь [таким] хозяйством | 50,3 (3) | 86,6 (1) | 72,0 (1) |
Для меня это источник дохода, «живых» денег | 31,6 (4) | 24,0 (5) | 22,8 (5) |
Земля и скот для меня ценность: так делали мои предки, и я буду | 16,1 (5) | 33,0 (4) | 29,5 (4) |
Это натуральные, экологичные продукты | 11,5 (6) | 17,3 (6) | 6,0 (7–8) |
Другие мотивы | 6,3 (7) | 10,1 (7) | 6,0 (7–8) |
Затруднившиеся ответить | 4,0 (8) | 1,1 (8) | 11,4 (6) |
Примечание. В скобках указаны ранги ответов.
Независимо от этничности, владельцы сельских подворий не часто склонны рассматривать ЛПХ в качестве источника дохода: лишь 26,3% всех респондентов удается получать «живые» деньги от сбыта выращенной на личном подворье продукции. При этом из тех, кто продает эту продукцию, большинству (54,8%) вырученных средств хватает только на мелкие покупки. Низкая товарность ЛПХ связана с нехваткой денег на покупку кормов и сена (33,5%), отсутствием времени (20,3%), слабым здоровьем (15,5%), трудностями сбыта (8,0%) и другими причинами. Это объясняет низкую мотивацию сельчан расширять свое подворье: две трети (65,1%) имеющих ЛПХ не планируют в будущем его увеличивать, а среди тех, кто выразил такое желание, лишь треть предпринимала конкретные действия для развития подворья.
Некоторые сельчане считают, что их семья могла бы прожить только за счет своего хозяйства, – 30,8% шорцев, 26,8% хакасов и 23,0% русских. При этом у русских уровень материального положения отрицательно коррелирует с разведением скота (r = −0,207** по Пирсону). Это можно объяснить тем, что ведение хозяйства для русских сельчан является скорее вынужденной мерой из-за низких заработков или отсутствия постоянной работы, а потому не способствует повышению достатка, но свидетельствует о его низком уровне. Вероятно, проживающие в селах Хакасии русские в вопросах занятости и заработков ориентируются в основном на поиск постоянной работы (в крайнем случае – сезонных или случайных заработков), которые в большей мере влияют на их благополучие, нежели на занятость в ЛПХ.
Хакасы наиболее активны в ведении ЛПХ: большинство из них занимается не только огородничеством, но и разводит скот, причем чаще всего нескольких видов. Материальное благополучие представителей этой этнической группы положительно коррелирует с количеством содержащегося на подворье скота (r = 0,280** по Спирмену). В то же время позволить себе жить только за счет ЛПХ могут лишь крупные скотовладельцы, которых насчитывается всего 17,0% от числа указавших количество голов скота респондентов-хакасов.
Шорцы меньше всех заняты в ЛПХ: по сравнению с другими этническими группами они меньше разводят скот, меньше выращивают овощи. Поэтому, на первый взгляд, их самая высокая частота готовности прожить только за счет личного хозяйства вызывает сомнение. Однако, во-первых, шорцы активно занимаются промысловой деятельностью, которая тоже служит им источником пропитания и «живых» денег. Во-вторых, больше половины опрошенных шорцев – неработающее население (55,4%), а, как доказывают исследования, наличие основной работы ведет к сокращению приусадебной сельскохозяйственной деятельности [Шабанов, 2018а: 34]. В этом смысле у шорцев больше свободного времени, чтобы заниматься хозяйством. Материальный достаток шорцев существенно коррелирует с типичной для них овощеводческой деятельностью (r = 0,327** по Пирсону). Следует также отметить распространенную среди шорцев практику неофициального трудоустройства, которая позволяет им и работать, и получать социальную пенсию по старости (она назначается только безработным). Вполне вероятно, наличие дополнительного источника дохода в виде пособия, наряду с «серой» зарплатой, тоже в значительной мере повышает возможность домохозяйства шорцев жить за счет ЛПХ. Готовность шорцев жить только за счет собственного хозяйства связана и с пространственными особенностями мест их расселения: в основном это – удаленные таежные территории с узким рынком труда и ограниченными возможностями занятости. Вероятно, выбор такого ответа объясняется не столько готовностью к активному хозяйствованию, сколько низкой оценкой иных источников и средств существования.
Выводы. Итак, исследование показало, что этнические группы, населяющие сельские местности Республики Хакасия, отличаются неодинаковой активностью в ведении ЛПХ. Хакасы демонстрируют наиболее высокую вовлеченность: они и выращивают овощи, и разводят скот, причем имеют разнообразное и многочисленное хозяйство. Шорцы, напротив, меньше других заняты в ЛПХ: меньше держат скота, меньше занимаются овощеводством, что объясняется и географическими условиями мест их проживания, и «отвлекающей» ориентацией на промысловые практики. Проживающие в республике русские занимают «серединное» положение.
Несмотря на высокую роль личных подворий для сельчан, вряд ли можно говорить о замене «современной» работы по найму на «традиционную» занятость в ЛПХ. Хотя хакасы наиболее активно занимаются разведением скота, но и среди них прожить за счет собственного подворья могут только немногие. Шорцы же в основном живут за счет промысловой деятельности, которая приносит им заработок, в том числе за счет льгот коренного малочисленного народа. Проживающие же в регионе русские вообще в целом ориентированы на поиск «реальной» работы. Русские сельчане даже в условиях безработицы реже готовы заниматься личным хозяйством (в отличие от хакасов), больше готовы к вахтовой работе, переезду в другое село или город. Сельчане-хакасы гораздо менее миграционно активны, больше ориентируются на стратегии, связанные с местом своего проживания. Но чтобы жить только за счет ЛПХ, нужно, чтобы им занималась вся семья, а сельская молодежь всех этнических групп стремится уехать в город. Все активно ведущие ЛПХ респонденты-хакасы, которые встречались во время полевого исследования, были пожилого возраста.
Как видим, различия ЛПХ у сельчан Хакасии являются следствием переплетения влияния трех факторов – разных природных зон проживания, различных этнокультурных традиций и неодинакового правового статуса этнических групп. В силу высокого оттока молодежи из села в город практики ЛПХ развиваются в Хакасии в режиме суженного воспроизводства.
***
Исследование выполнено за счет гранта РНФ, проект № 23-28-00307.
Acknowledgments. The study was funded by the RSF, project No. 23-28-00307.
Об авторах
Ольга Леонидовна Лушникова
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
Автор, ответственный за переписку.
Email: oltolt@mail.ru
кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора экономики и социологии
Россия, АбаканСписок литературы
- Бакшеев С. Л. К понятию сущности и места этноэкономики в экономике региона // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. Т. 26. № 5. С. 146–150.
- Бушуева О. Н. Место ЛПХ в адаптивных моделях поведения сельского населения в современной России // Наука и общество. 2014. № 1 (16). С. 99–102.
- Великий П. П., Шабанов В. Л. Особенности аграрной самозанятости. Опыт социологического исследования самостоятельного хозяйствования сельских семей // Историческая и социально-образовательная мысль. 2019. Т. 11. № 4. С. 105–121.
- Габдрахманова Г. Ф. Смыслы и практики повседневного трудового поведения сельских русских и татар // Экономика и организация промышленного производства (ЭКО). 2021. № 2 (560). С. 85–103.
- Жалсанова В. Г. Личное хозяйство сельских жителей: способ выживания или способ развития? (по материалам социологических исследований в Республике Бурятия) // Социодинамика. 2018. № 9. С. 1–7.
- Иванова М. В. Этническая экономика: подходы к определению // Труды КолНЦ РАН. 2018. Т. 9. № 7–14. С. 6–13.
- Игошева М. А. Экономический ресурс этнической идентичности в условиях современных миграционных процессов // Философская мысль. 2020. № 7. С. 72–84.
- Лушникова О. Л. Этнические особенности ведения хозяйства, или у кого больше скота? // Социологические исследования. 2022. № 6. С. 77–87.
- Нечипоренко О. В. Подсобные хозяйства сельского населения в контексте практик социальной адаптации // Вестник НГУ. Сер.: Философия. 2013. Т. 11. № 2. С. 86–92.
- Шабанов В. Л. Ресурсы сельских домохозяйств как фактор производственного потенциала АПК // Островские чтения. 2018а. № 1. С. 31–35.
- Шабанов В. Л. Трансформация ЛПХ как источника занятости и доходов сельского населения // Экономика сельского хозяйства России. 2018б. № 7. С. 79–84.