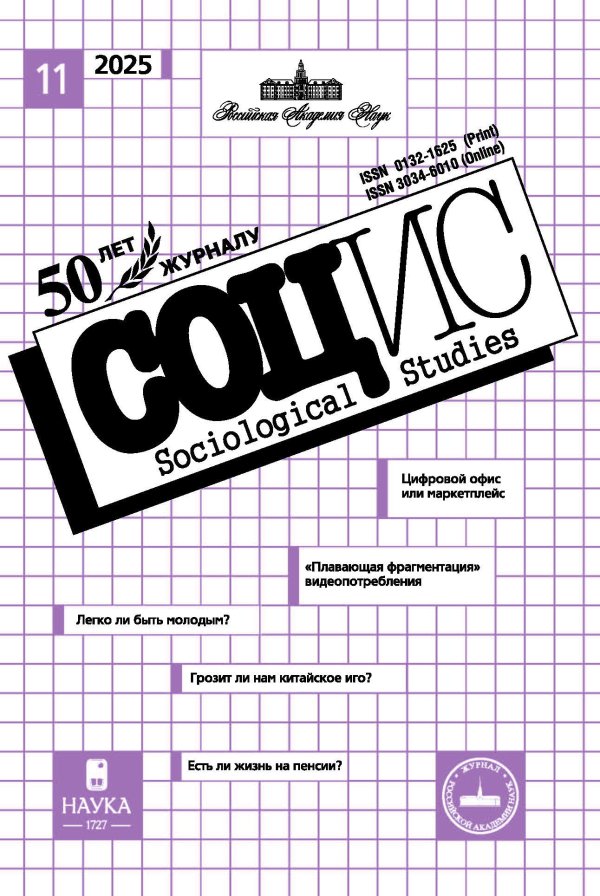Социальные исследования финансов как новый вектор для социологического изучения современного общества
- Авторы: Смелова А.А.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Выпуск: № 8 (2024)
- Страницы: 22-36
- Раздел: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-1625/article/view/271195
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524080029
- ID: 271195
Полный текст
Аннотация
Статья представляет новое для российской социологии направление – социальные исследования финансов. В его рамках ведется работа по формированию научных понятий и проблем, поиску новых инструментов познания общества. Целью статьи выступает исследование социологической перспективы изучения финансов: как социологи видят предмет своего научного поиска и сопутствующие ему теоретические проблемы. Становление этого направления на Западе протекает уже более 20 лет, поэтому каждое десятилетие выделено в отдельный исследовательский этап, для которого проведен аналитический обзор ключевых социологических научных трудов европейских социологов из специализированных выпусков академических журналов. Выявлены круг актуальных исследовательских вопросов и теоретических проблем, их эволюция и степень изученности. Сделан вывод о том, что изучение социологических проблем финансов – ключ к пониманию устройства современного общества в силу оказываемого ими трансформирующего влияния на всех уровнях – от государственного и организационного до индивидуального.
Полный текст
За последние 20 лет в российской социологии появились многочисленные исследования финансового поведения населения. Они носят преимущественно прикладной характер, охватывая тему финансиализации1 повседневности2. ИСЭПН ФНИСЦ РАН (А. В. Ярашева, О. А. Александрова, Н. В. Аликперова и др.) и Аналитический центр НАФИ регулярно публикуют результаты социологических исследований финансового поведения россиян: мониторинг уровня финансовой грамотности, эмпирические данные о сберегательных, инвестиционных и потребительских стратегиях населения, модели трудового поведения, динамику использования страховых инструментов как технологии обеспечения финансовой безопасности домохозяйств, а также оценки влияния цифровизации на развитие рынка финансовых продуктов и услуг в России, и др. В то же время сфера финансов оставляет широкое поле для исследований. Данная статья призвана расширить представления об исследовательских рамках для социологов и представителей других социальных наук аналитическим обзором социологических теоретических проблем исследований финансов3, а также привлечь внимание к динамично развивающемуся направлению социологической науки. Как происходило становление направления «социальные исследования финансов» и какой предмет изучения выбирают социологи? Какие теоретические социологические проблемы в области финансов им удалось выделить? Обо всем этом пойдет речь далее.
Институциональное оформление социальных исследований финансов. Социальные исследования финансов как научное направление вместе с сообществом ученых социальных и гуманитарных наук начали формироваться с конца 1990-х гг., когда финансы превратились в самодостаточный и ключевой сектор экономики, где создавалась большая часть добавленной стоимости, не связанный ни с производством товаров, ни с их дистрибуцией. В 2000 г. академическое движение объединяется в Ассоциацию социальных исследований финансов в Париже с целью привлечь ученых со всего мира. И это удается сделать. Социальные исследования финансов превращаются в междисциплинарную (cross-disciplinary) область исследований благодаря работам ученых из международной политической экономии, социально-экономической географии, антропологии и социологии, математических наук, поведенческой экономики, правовых исследований, культурологии, исследований науки и технологий и др.
Первоначально финансы были предметом изучения международных политэкономов, затем ими заинтересовались ученые из других дисциплин. Поворот к междисциплинарности в развитии предмета финансов объяснялся необходимостью выйти за рамки дисциплинарных течений с их строго очерченным кругом проблем и методов решения, шифров научных специальностей, рубрик академических журналов и научных жанров, а также необходимостью найти новый источник конструктивной критики и обновления исследовательской программы. Цель социальных исследований финансов заключалась в развитии исследовательского интереса у широкой аудитории ученых во всем мире. Обсуждение проблем проходило на специализированных дискуссионных площадках (в т. ч. онлайн), публикации научных результатов появлялись в новых академических журналах. Междисциплинарный подход способствовал тому, что знания о финансах, с одной стороны, быстро накапливались в результате действия синергетического эффекта от сотрудничества ученых, а с другой – быстро проникали в различные дисциплины и субдисциплины, наполняя их новым проблемным содержанием.
Немаловажно, что междисциплинарный подход позволил сделать открытым для определения и интерпретации само ключевое понятие «финансы». Напомним, что в экономической науке под финансами понимается совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных (государственных) и децентрализованных (корпоративных и частных) денежных средств, а также кредитных и инвестиционных инструментов для всех трех субъектов – государства, организаций и домохозяйств. В целом понятия, используемые в этой области, были заимствованы из финансовой практики и превращены в научные термины путем добавления общенаучной терминологии, разработанной в философии. Финансы, благодаря теоретической поддержке ученых, превратились в социальный инструмент управления глобальной экономикой (этому способствовали практики международного кредитования, интернационализации валюты, разных форм инвестирования и др.). Задача социальных и гуманитарных ученых заключалась в «оправдании финансов» (термин Р. Шиллера), создании их положительного образа, в представлении их как источника устойчивого развития общества.
Первые тематические социологические статьи по финансам появляются на страницах журналов Politix, Socio-Economic Review и Economic Sociology. European Electronic Newsletter. Последний уже 20 лет публикует специальные выпуски, посвященные исследованиям не только финансов, но денег и налогов, под редакцией таких ученых, как Дж. Хейлброн (J. Heilbron), Й. Беккерт (J. Beckert), Н. Бандель (N. Bandelj), А. Менникен (А. Mennicken), Н. Додд (N. Dodd), Р. Диас-Боун (R. Diaz-Bone), З. Варга (Z. Vargha), А. Рона-Тас (А. Rona-Tas). В свет выходит коллективная монография «Социология финансовых рынков» [Knorr-Cetina, Preda, 2005], затем – «Оксфордская хрестоматия по социологии финансов» [Knorr-Cetina, Preda, 2012].
Влиятельными оказываются труды М. Аболафия «Создание рынков: оппортунизм и сдерживание на Уолл-стрит» [Abolafia, 2001], Д. Маккензи «Двигатель, а не камера: Как финансовые модели формируют рынки» [MacKenzie, 2006] и «Рынки в движении: экономическая социология финансового кризиса в США» [Loundsbury, Hirsch, 2011]. В 2018 г. увидел свет коллективный труд «Становление финансов: перспективы социальных наук» [Chambost et al., 2018].
Помимо вышеперечисленных, ключевые социологические работы по финансам были написаны таким учеными, как О. Годешо (O. Godechot), Ф. Муниеса (F. Muniesa), В. А. Лепине (V. A. Lepinay), Д. Бьюнза (D. Beunza), Д. Старк (D. Stark), Э. Эспозито (Е. Esposito), А. Лангеноль (А. Langenohl) и др.
В рамках социологического направления можно выделить ряд относительно самостоятельных субдисциплин – фискальную социологию, изучающую налоговую политику государства, социологию денег, предметом которой являются валюты, экономическую социологию, рассматривающую финансовую подсистему (финансовый рынок и его финансовые инструменты) как подчиненную производственной подсистеме, и социологию финансов, исследующую финансовую подсистему как самостоятельную сферу, не подчиненную производству.
Появление и развитие исследовательского интереса к финансам: что изучают социологи? Первый классический социологический труд, посвященный феномену финансового рынка, был написан М. Вебером («Биржа» – «Die Börse» (1896), в русском переводе «Биржа и ее значение» (1897), «Биржа и биржевые сделки» (1897)). В центре его исследования – фондовая биржа, которую он понимал как средство власти в экономической борьбе между государствами, цена на рынке является результатом этой борьбы. Одним из наиболее важных моментов в биржевой торговле Вебер назвал рациональную спекуляцию a la baisse (игра на понижение), т. н. дешевую покупку и дорогую продажу, совершаемую в разное время в расчете получить прибыль. Первым объектом спекулятивной сделки выступила валюта (точнее бумажные деньги, банкноты, государственные ренты и колониальные бумаги). Гигантских масштабов спекулятивная деятельность достигла позднее – в период постройки железных дорог, под дело которых были выпущены ценные бумаги.
После Вебера начала оформляться новая европейская традиция социологического исследования финансов. Так, термин «финансовая социология» был использован австрийским экономистом Р. Гольдшайдом (R. Goldscheid) в его работе «Staatssozialismus oder Staatskapitalismus» (1917). Он поддерживал, наряду с уже состоявшейся дисциплиной финансовой экономики (Finanzwissenschaft), наукой о сборе налоговых отчислений, появление новой дисциплины – финансовой социологии (Finanzsoziologie), дающей широкую перспективу для общества в целом. Финансовая социология как научная дисциплина возникает в Австрии и Германии после поражения в Первой мировой войне для решения экономико-политических проблем, вызванных ограничением военной силы и финансовой власти. В качестве своей предметной области она обозначает исследование борьбы за власть между различными социальными группами, их способы конкуренции, формулирования интересов и противостояния им, их отношения к государству и госслужащим. Она рассматривает финансовые перспективы разных социальных слоев и возрастов, ищет типологии групповых интересов и их изменения в условиях институциональной динамики. Как отмечает Г. Кольм (G. Colm) в работе «Проблема финансовой социологии» («Probleme der Finanzsoziologie» (1936)), финансовая социология – это подлинная социология, поскольку исследует истинные интересы и мотивы действий людей, причем государственный бюджет является главным фокусом и основой политического процесса. Финансовая социология начала XX в. связана с именами таких ученых, как Дж. Лэндманн (J. Landmann), Х. Джект (H. Jecht), Г. Кольм, В. Парето, Дж. О'Коннор (J. O'Connor), Ф. К. Манн (F. K. Mann) и др. [Blomert, 2001]. Главный вопрос, который стоял перед финансовой социологией, заключался в поиске внешних и внутренних источников финансирования бюджета государства для поддержания государственной власти в стране.
В 1970–1980-е гг. интерес социологов к государственным (публичным) финансам вновь усиливается благодаря кризису социальной политики государства всеобщего благосостояния, когда в капиталистических развитых странах встает вопрос о совместимости принципов рыночной экономики и социальной поддержки широких слоев населения со стороны государства. Поэтому тема фискального кризиса становится ключевой [O’Connor, 1973; Block, 1981], как и проблематика трансформации системы налогообложения капиталистических государств, ее влияние на структуру государственной власти [Peacock, Wiseman, 1979; Campbell, 1993]. В 1990-е гг. усиливается тема социологического анализа подоходного налога (отметим, что после финансового кризиса 2008 г. самым сложным и дискуссионным среди политиков стран G20 и МВФ был вопрос глобального банковского налога, который так и не был решен, но оставлен на усмотрение национальных государств) и налоговых лазеек в законодательстве [Allen, Campbell, 1994; Roberts, Hite, Bradley, 1994; Campbell, 1996]. Это касается как капиталистических, так и посткоммунистических стран [Новикова, 2005].
В XXI в. социологи4 продолжили исследовать связь между государственными финансами и более широким социальным порядком. Дисциплина стала фокусироваться на таких вопросах, как роль государства в спорах о национальных приоритетах и бюджетных планах, субсидиях и налогах, тарифах и даже условиях, при которых частные банки могут ссужать деньги у центральных банков (например, исследования С. Куинн (S. Quinn), Г. Хюрлиманна (G. Huerlimann), Й. Пацевича (J. Pacewicz), М. Прасада (M. Prasad). Изучалось, как государственные финансы могут усиливать или уменьшать неравенство, укреплять или разрушать социальные иерархии; создавать целые социальные классы или отдельных политических субъектов и формировать представления граждан о естественных основах солидарности и т. д.
Важно отметить, что в современной европейской научной литературе активнее используется термин не «финансовая социология», а «фискальная социология», чтобы разграничить предмет исследования – публичные финансы или государственный бюджет для фискальной социологии и корпоративные и частные финансы для социологии финансов (подробнее см. выпуски Economic Sociology. European Electronic Newsletter – Taxing Inequality and Fiscal sociology (2020) и Sociology of Finance (2001), Economic Sociology and Sociology of Finance (2007), Sociology of Money and Finance (2010), Economic Sociology of Finance (2013)). В отличие от фискальной социологии, социология финансов5 фокусирует внимание на логике частных финансов и финансовом рынке как внешнем источнике поддержания стабильности домохозяйств и власти корпораций.
В 1980-е гг. американские экономсоциологи занялись изучением финансов как сферы, подчиненной производству. Их интересовали проблемы социальной структуры финансового рынка, системы отношений «фирма-банк», поиска контрагентов и доступа к кредиту (напр., см. исследование рынка ценных бумаг В. Бейкера, 1981, 1984). Другая часть американских экономсоциологов, начиная с 1990-х гг. во главе с В. Зелизер, а затем и ее поcледователями в лице Ф. Верри (F. Wherry) и Н. Бандель (N. Bandelj), занялась изучением «множественности денег». Социологи стали рассматривать деньги не как посредника в товарообмене, а как инструмент социализации. Изучались включенность разных социальных групп в денежную культуру, отношение к использованию безналичных денег и взятию денег в долг у банков как цивилизованной практики в современном обществе.
Концепцию «множественности денег» развили и европейские социологи – в частности, Н. Додд (N. Dodd). В отличие от Зелизер, которая занималась выявлением социальных смыслов унифицированных по форме денег, Додд утверждал наличие в обществе неунифицированных форм денег. Его центральной идеей становится появление новых форм денег, возникших в результате развития финансовой системы (международной деятельности банков и других финансовых организаций) и разрушения принципа однородности, свойственного национальным валютам (вследствие социальных практик пользователей). По его мнению, эпоха, в которой деньги определялись государством, подходит к концу. Появляется идея об альтернативных видах денег: деньги могут быть организованы группами, небольшими сообществами, нациями, группами наций, частными организациями, в зависимости от того, для чего они необходимы. Ценность этих денег будет зависеть от того, какой ценностью обладают те или иные социальные отношения (внутри группы, сообщества или между странами). Поскольку социальным отношениям присуща динамика, то такая же динамика будет свойственна и деньгам. Вне социального контекста, сами по себе деньги ценности не имеют [Dodd, 2014]. Одни формы денег будут предназначены для противодействия формам социальной и финансовой изоляции, другие – для объединения в сообщества или для обхода ограничений, выдвигаемых надзорными структурами – банками, корпорациями и государствами. В будущем ожидается появление все новых и новых форм денег. Уже есть примеры криптовалют для сообществ, выступающих за расширение прав и возможностей этнических и религиозных групп, за устойчивое/ ответственное потребление, за зеленую повестку на планете Земля и др. (напр., ChristCoin, Bitcoen, VeganNation, SolarCoin, EverGreenCoin, TreeCoin и др.). Подобная логика прослеживается и в сообществах любителей компьютерных игр и цифровой одежды. Обладание криптовалютой (и ее количество) становится критерием деления на бедных и богатых внутри этих сообществ. В этой связи интересна идея А. Хейза (А. Hayes) о криптовалютах как закрытых социальных мирах со своей внутренней социальной дифференциацией. Следует упомянуть о появлении цифровых валют ЦБ, которые будут использоваться как социальная технология, создающая новые способы интеграции и координации между членами сообщества как на уровне страны, так и на международном уровне. По мнению Додда, со временем это будет способствовать преодолению разделения мира на отдельные национальные государства и регионы с их различными денежными режимами. А в конечном итоге развитие этого процесса должно привести к созданию универсальных мировых цифровых денег. Поэтому начавшийся процесс денежной деглобализации – выпуска цифровых валют ЦБ является еще одной фазой экономической глобализации, управляемой США.
Социологов финансов интересует другой вопрос – они рассматривают финансы через призму систем знания и информации, а также технологий, их конструирующих. Прежде всего, речь идет о финансовой информации, которая содержится в ценах и не только помогает принимать решения участникам финансовых рынков для совершения сделок, но и подталкивает всю финансовую систему к дальнейшим финансовым сделкам в рамках рыночного обмена. Поэтому сущностью финансовых рынков с их спекулятивным «изобилием» и волатильностью6 является быстрый поток информации, организованный в единую коммуникационную систему посредством ИКТ.
Финансовые рынки, по сути, являются информацией7. Примерами являются фондовые индексы, котировки, рейтинги, различная финансовая отчетность, финансовые новости и их комментарии, мнения финансовых аналитиков и трейдеров, экспертные оценки информационных агентств, банковские трансакции др. Финансовая информация постоянно изменяется, не имеет устойчивых механизмов и моделей. Участники рынка непрерывно обмениваются информацией для поддержания деловых связей. Этот социальный обмен может быть основан как на принципах реципрокности (например, когда информация преподносится партнеру в качестве подарка), так и рыночного обмена (в случае с покупкой аналитического отчета от международных поставщиков финансовой информации Bloomberg и Thompson Reuters или российских – РБК и Прайм). Эта перспектива влияет на понимание социологами современности – когда реальность начинает маркироваться новостями. Поэтому финансовый рынок – это «разворачивающаяся структура, не тождественная сама себе» [Кнорр-Цетина, Брюггер, 2005: 447]. Знание о финансовом рынке – это знание о направлении цены на финансовые активы (ценные бумаги, сырье, валюту и др.). Отметим, что знание о рынке – средство построения отношений в финансовой системе. Потоки знаний о финансах отображают финансовый мир глобальной социальной формы, который сформировался в результате отрыва финансовой подсистемы от локальных (национальных) производственных экономик и их включения в систему глобальных финансов. Весь финансовый мир порождается информацией и знанием и не существует вне «рынка-на-экране».
«Рынок-на-экране» представляет собой рефлексивный механизм, который визуализирует потоки финансовой информации и презентует их профессиональной аудитории рыночных игроков. Использование ИКТ помогает передать сообщения из одной части света (одной фондовой биржи) в другую посредством кодирования и декодирования сообщения. Сообщение будет передано без ошибок, в неизмененном виде, т. к. ИКТ не требуют проведения языкового перевода из-за использования двух языков – математики (статистики/программирования на Python или R) и английского (аналитический язык, активно использующий редуцированные формы слов). Именно финансы превращают их в ключевые языки глобальной социальной коммуникации, демонстрируя на мониторах ИКТ одновременно на всех фондовых биржах мира ценовое состояние рынка (например, сырьевые индексы, котировки биржевых товаров, валют и ценных бумаг, процентные ставки ЦБ и др.).
«Рынок-на-экране» трансформирует связи между людьми в процессе обмена рыночной информацией и знанием, включая в коммуникацию неживых объектов – ИКТ; так он порождает постсоциальные отношения [Кнорр-Цетина, Брюггер, 2005; MacKenzie, 2021]. Неживые объекты финансового рынка – ИКТ вроде технологий «голосового брокера», телефонов с экраном, мультимониторов для трейдинга, алгоритмов, запущенных на компьютерных серверах торговых фирм, информационно-аналитических систем: Reuters, Bloomberg, Tenfore и др. – действуют глобально и способствуют изменениям в экономике разных стран, обеспечивая возможность социального взаимодействия субъектов в обход «старым» социальным структурам. ИКТ помогают обойти традиционные институты цензуры, экспертизы, создавая символическую интеграцию в глобальном финансовом мире.
Так финансовые ИКТ формируют глобальный финансовый рынок. Он включает властные отношения и отношения эксплуатации в новом объектно-центрированном пространстве. Информация приобретает форму цены финансового актива. Социологи финансов утверждают, что цена является перформативным конструктом, она формируется не благодаря объективному фактору – соотношению сил спроса и предложения саморегулирующегося рынка, как это представлено в господствующей неоклассической экономической теории, а в результате влияния ряда субъективных факторов – мнений, прогнозных оценок, ожиданий, как правило, доминирующих участников рынка (включая транснациональные корпорации и правительства стран глобального Севера). Подобная «цена» помогает доминирующим участникам устанавливать субъективные (низкие) цены и извлекать финансовую прибыль из экономик стран (глобального Юга), а с ней и их богатство «мирным» путем8.
В связи с подобным определением финансового рынка следует упомянуть, что первые работы по социологии финансов сосредотачиваются вокруг истории формирования финансовой информации и знания (появления финансово-статистических бюллетеней, журналов книг финансовых чартистов (специалистов по техническому анализу рынка), рекламных объявлений ценных бумаг, прайс-листов, фондовых индексов (А. Преда), бухгалтерской отчетности (М. Капрон (M. Capron), Э. Кьяпелло (E. Chiapello), Б. Колассе (B. Colasse)). Далее социологи исследуют роль технологий в конструировании финансовых рынков: технологий коммуникации (тиккера (A. Преда), телеграфа, компьютера, роботов-трейдеров (искусственного интеллекта) (Д. Бьюнза и Д. Старк), технологии алгоритмического управления и автоматизированной высокочастотной торговли (Д. Маккензи) др.).
Три волны социологических исследований финансов: ключевые исследовательские вопросы и проблемы. Временные границы первой волны9 социологических исследований финансов можно отнести к концу 1990-х гг. и до первой половины 2010-х гг. В этот период социологи стали изучать финансы через призму концепции «перформативности», исследуя потенциал влияния научных теорий и финансовой информации на социальное конструирование глобальной экономики (а по сути, и всего мирового порядка, возглавляемого страной-гегемоном США). Перформативность была призвана объяснить социальные процессы формирования финансового рынка (как глобального механизма интеграции), его координацию, механизмы внутренней нестабильности, процесс ценообразования на международных рынках, повторяющиеся кризисы рыночной системы и роль финансов в этом процессе, и др. (см. [Лаундсбери, Хирш, 2011, Смелова, 2014; Аболафия, 2020]). Особое внимание уделялось проблемам внедрения в финансовую практику теоретических моделей, в то же время эмпирическая детализация экономик разных стран внимания не получила. Глобальный финансовый рынок (а он в одночасье был признан глобальным – см.: [Knorr-Cetina, Preda, 2005]) представлялся как универсальный механизм, существующий вне истории, политики, культуры, демографических различий и пр. Вопросы, волновавшие социологов, были связаны с возможными усовершенствованиями в архитектуре глобальной экономики, а затем с причинами и последствиями финансового кризиса 2008 г. В фокусе исследовательского внимания находились вопросы: что такое финансовый рынок как социальный конструкт? Что такое спекуляция как вид социального действия? Как этот вид деятельности отделился от азартных игр в истории экономики, утратил черты девиантности и стал легитимным типом социального действия, вокруг которого стали выстраиваться другие нормативные категории? Как финансовые инвестиции стали ключевым социальным институтом капитализма? Является ли мировой финансовый кризис социально сконструированным [Knorr-Cetina, Preda, 2005]?
Теоретическая заслуга социологов заключалась во включении социальных субъектов (трейдеров, спекулянтов, финансовых инженеров, финансовых журналистов и аналитиков и др.) и нечеловеческих субъектов, или актантов (теоретических моделей, технологий ИИ и алгоритмического управления и др.) в абстрактные финансовые модели рынков. Социальные субъекты привносят свои интерпретации рыночной реальности в общественные представления о движении финансового рынка, разрабатывают и внедряют нормативные модели оценки рисков, производят финансовые новости, влияющие в т. ч. и на маркетинг финансовых продуктов и услуг. Следуя логике Б. Латура, создание знания о финансовом рынке стало представляться как результат взаимодействия актантов и субъектов посредством «перевода» технической информации [De Goede, 2005].
Понимание финансов социологами как перформативной практики предполагало, что сами материальные структуры финансовых рынков, включая цены, издержки и капитал, стали рассматриваться как дискурсивно сконструированные. К примеру, социолог Е. Эспозито рассматривала ключевые для финансового рынка категории «риск» и «неопределенность» (термины, активно используемые Ф. Найтом, Э. Гидденсом, У. Беком, Д. Харви) через призму перформативности [Esposito, 2011; 2013]. С этой перспективы неопределенность может быть измерена посредством математических расчетов и превращена в риск, оцениваемый финансовыми инженерами банка, а затем покрываемый посредством создания сбалансированного портфеля ценных бумаг с единственной целью – гарантированного получения ожидаемой прибыли инвестором в будущем. Отметим, что модели управления рисками исходят из понимания будущего, опирающегося на предписание модели будущего, которое, по сути, является настоящим. Предсказанное будущее может произойти (тогда это считается барнсианской перформативностью (термин Д. Маккензи)10, а может и не произойти (тогда речь идет о контрперформативности). Как показал социолог В. Лепинэ, когда прогнозы, основанные на оценках крупных банков и крупных инвесторов (владельцев крупного капитала), не сбываются, в глобальной экономике разворачиваются крупные социетальные кризисы [Lépinay, 2011].
Заметим, что эти последствия укоренены в особом типе социального времени, в рамках которого финансовый рынок существовал в конце XX – начале XXI в. Этот тип можно описать как время, утратившее свою хронологическую последовательность и ставшее множественным, вобрав в себя время экономик разных стран. Его главной характеристикой стала асинхронность. Причиной этого выступает изменчивость, или, по определению экономистов, волатильность, не только количественная (которую можно математически измерить и выразить, например, в рыночных ценах), но и качественная (ее сложно измерить, но можно выразить, например, в потребительских эмоциях). Именно волатильность – подлинный источник прибыли инвесторов, использующих деривативные11 инструменты (например, фьючерсы или форварды) для игры на финансовых рынках разных стран. Инвесторы зарабатывают капиталы на будущем времени, – которое еще не наступило или, возможно, никогда не наступит, если строго ожидать событий в соответствии с (проданной) прогнозной моделью будущего. Таким образом, как отмечает А. Лангеноль, социологическая перспектива финансов позволяет увидеть временное измерение экономических процессов как проекцию решения действующим субъектом проблем «неопределенности» и «ожиданий»[12], существующих в его социологическом воображении, и понять мотивы инвестиционных решений на финансовом рынке [Langenohl, 2018].
Вторая волна социологических исследований финансов инициирована появлением профильного академического журнала «Finance and Society», который быстро обрел статус ключевой площадки междисциплинарных исследований в области финансов. Вопросы, поднимаемые учеными в 2010-е гг., касались соединения общих положений неолиберализма с концепцией финансиализации: детализацией финансовых инструментов и практик, финансовых инфраструктур и множественности финансовых субъектов, действующих в рамках открытой мировой экономики. Хотя понятие «финансиализации» вошло в академическую науку еще в середине 2000-х гг. благодаря работе экономиста Г. Криппнер [Krippner, 2005], социологи подошли к исследованию этого феномена только в середине 2010-х гг. В частности, они исследовали, как меняется капиталистическая система под влиянием финансиализации, т. е. что происходит при возрастании роли финансового капитала в «развитых англоговорящих странах» и мире в целом, и совместимо ли это с развитием демократии или нет. Тема финансов стала рассматриваться в паре и взаимовлиянии с этикой долга, временем и его восприятием, технологиями безопасности, литературой, искусством и др.
Одной из самых ярких социологических идей этого периода стало использование странами глобального Севера финансов в качестве технологии международной безопасности. Первоначально они выступали инструментом борьбы с терроризмом на глобальном уровне – благодаря контролю над финансовыми операциями (путем замораживания активов и блокировки счетов, отслеживания благотворительных пожертвований и переводов в криптовалюте и др.) происходило регулирование социальных границ включения или исключения из глобального финансового пространства террористических организаций. В дальнейшем, перекрывая доступ к капиталам глобального Севера, финансовые институты, вроде МВФ и Всемирного банка, могли финансово изолировать целые социальные группы, сообщества и даже страны13.
Другой пример – использование финансов как технологии социальной безопасности (или финансового страхования от социальных рисков). Гражданин может застраховать свое финансовое будущее с помощью накопительных пенсионных программ, страховых программ, сберегательных или инвестиционных продуктов; международный трейдер может купить валютные фьючерсы, чтобы защитить себя от рисков колебания валюты. В социологическом смысле секьюритизация представляет собой процесс, в ходе которого финансовые активы (ссуды, ипотека и задолженность по кредитным картам) перепродаются на финансовых рынках, превращаясь в социальные ценные бумаги [De Goede, 2017]. Таким образом, финансовая индустрия обеспечивает социальную безопасность от неопределенного будущего, изобретая в то же время новые неопределенности, от которых необходимо страховаться.
Третья волна социологических исследований финансов после 2020 г. призвана решить новые задачи. Актуальны вопросы: почему финансовые рынки порождают нестабильную динамику и неравномерные модели распределения? Как общества будут справляться с растущей эксплуатацией и усиливающейся социальной дифференциацией? Как будут формироваться глобальные цепочки создания богатства? Наконец, каким образом возможно пересечение логики финансов с другими логиками – логиками цифровизации и криптосферы, логиками экологизации (изменения климата, неравных географических условий для добычи полезных ископаемых и утилизации отходов), логиками национальных правительств и новых методов ведения войн (к примеру, финансовых) [Samman et al., 2022]. И, кстати, совместимы ли вообще война и социально-экономическое развитие (что ранее отрицал неолиберализм)?
Представляя современную модель глобальной экономики, социологи обращают внимание на то, что она опирается не только на финансовые рынки, но и на центральные банки, правительства и государственные финансовые учреждения, использующие рыночную логику частного финансового сектора (например, речь идет о выпуске государством облигаций или цифровых валют ЦБ) (подробнее о зарождающемся направлении социальных исследований центрального банкинга см.: [Coombs, Thiemann, 2022; Wansleben, 2023])14 и др.). Финансовая политика становится в один ряд (если не выше) с фискальной политикой государства. С одной стороны, это свидетельствует о превращении государства в центр финансиализации, а с другой – само государство становится объектом финансиализации. Ключевая категория этой политики – финансовый долг (заемные средства), который распределяется по всем ступеням общества, а степень равномерности такого распределения становится исследовательской проблемой. Теперь целью государства является наличие конкурентоспособного государственного долга, соглашений о более выгодных условиях кредитования и более низких процентных ставках.
Интересно, что глобальная финансовая экономика постоянно осуществляет мониторинг своих реальных и потенциальных угроз (альтернативных финансовых идей или знания), приводящих ее к дестабилизации. Они могут быть инициированы, например, оспариванием легитимности существующего мирового порядка другими странами-претендентами, изменениями в социальных системах, вызванных в т. ч. технологическими инновациями, войнами, культурными фрагментациями и др. [Samman et al., 2022]. Борьба с этими альтернативами осуществляется в декларировании «открытости» к новым сценариям развития (таким как появление цифровых технологий и цифровых валют ЦБ, региональных валютных инициатив или корпоративных платежных систем) и их «встраивании» в существующую глобальную финансовую систему для ее пролонгации и повышения жизнеспособности.
Одной из таких больших угроз становится быстрое накопление финансового капитала в странах глобального Севера без привязки к реальной экономике и его невостребованности странами глобального Юга15. Возможным выходом становится глобальная популяризация экологической проблематики и появление так называемых зеленых финансов (например, зеленых облигаций16, направленных на сохранение биоразнообразия и стимулирование экологически чистых технологий производства). К слову, в XIX–XX вв. подобные кредиты давались на проведение индустриализации экономики «развивающихся» стран. Сегодня логика кредитования сохраняется, но цели меняются. На повестке дня европейского академического сообщества стоит вопрос о работе с критикой проблемы конструирования зеленых финансовых продуктов на основе доллара США, созданных для стран глобального Юга. Почему игнорируется возможность создания зеленых финансовых продуктов на основе национальных валют или почему именно частные инвесторы и управляющие банков превращаются в «эпистемологических хранителей» (термин Д. Габор), получая «право» создавать локальные зеленые финансовые инструменты [Gabor, 2021]; как они могут ограничить роль правительств стран глобального Юга в процессе снижения рисков для инфраструктурных активов, и как это сказывается на упрощении выхода на финансовые рынки этих стран?
Еще одна угроза связана с появлением цифровых технологий и, соответственно, новой элиты, способной капитализировать эти цифровые технологии. Последнее время все чаще говорят о финтехкапитализме, платформенном, алгоритмическом капитализме. Появляются исследования о финтех явлениях, вроде «апплеизации финансов» – «appleization of finance» (речь идет о корпоративных платежных системах – ApplePay, GooglePay, AliPay и др.) [Hendrikse, Bassens, Meeteren, 2018]. Однако вопрос о поглощении финансового капитала цифровыми технологиями все еще открыт. Цифровые технологии и криптовалюта, бесспорно, стали драйвером развития финансового капитализма, они продвинули финансиализацию повседневности на системный уровень, утвердив принципы процента и ренты в глобальной экономике. Особую роль в этом процессе, конечно, сыграли новые СМИ, которые обеспечили широкий охват населения и легкость проникновения финансовых идей в мировоззрение людей (например, идеи ответственности индивида за свое финансовое будущее – см. программы финансовой грамотности, инициированные Всемирным банком).
Наконец, есть угрозы, связанные с появлением войн и непрогнозируемых социально-экономических изменений. Они также могут нивелироваться посредством финансовых инструментов – ограничения использования международных межбанковских систем передачи финансовой информации, платежных систем, финансовых резервов, запрета на покупку ценных бумаг военных корпораций и инвестирования в технологии двойного назначения, и др. Степень и масштаб использования финансов как технологии борьбы с экзогенными и эндогенными шоками зависят от точности и полноты представления карты финансовой власти в глобальной экономике (стран глобальных Севера и Юга), с учетом ее динамики во времени и пространстве. Для этого необходимо уметь выявлять силу финансовых связей и их потенциал действия [Samman et al., 2022]. Однако это еще только исследовательская задача на ближайшую перспективу.
В третью волну также появляются исследования, посвященные ассетизации (assetization) – процессу превращения материальных и нематериальных благ в финансовые активы (financial assets). Заметим, в исследованиях по финансиализации часто отмечается, что для развития системы глобального финансового капитализма требуется создание новых финансовых активов как источника накопления богатства в обществе. Однако сами активы и процесс их создания экономистами не изучались. Первые социологические работы по ассетизации появились в 2020 г. [Birch, Muniesa, 2020; Adkinset al., 2020], в них высказывалась идея, что главным объектом, ради которого субъекты вступают во взаимодействие на финансовых рынках, является не рыночный товар, а актив. Под активом понимается объект, который позволяет своему собственнику сохранять ценность17 и извлекать долгосрочную экономическую ренту за счет владения и контроля, а не за счет прибыли от рыночного обмена (продажи). Примерами активов являются финансовые и юридические объекты (права собственности), цифровые данные, криптовалюты и NFT (невзаимозаменяемые токены), инфраструктурные и природные объекты, недвижимость18, инновации, общественные блага, «монетизируемые социальные проблемы», а также люди и их знания и умения. Отметим, что эти объекты не являются простыми товарами (если посмотреть с марксистских позиций – они не имеют какой-либо явной потребительской ценности, отдельной от их меновой стоимости). Они не являются также общим платежным средством. Процесс преобразования объектов в активы выстраивает мосты между индустриальным и финансовым капитализмом, между финансовым и цифровым капитализмом [Langley, Leyshon, 2017], используя методы финансовой оценки. Между финансами и активами существует особая социальная взаимосвязь, которую еще предстоит исследовать.
Заключительные рассуждения. В начале XXI в. финансы претендуют на то, чтобы стать ключом к пониманию устройства общества, анализу его проблем и поиску инструментов познания. Включенность в финансовый рынок утверждается в качестве главного признака цивилизованности для любого государства и его народа. А распространение финансовой логики за пределы финансового рынка заставляет любое общество играть по правилам финансов.
Междисциплинарный дискурс социальных исследований финансов, вобрав в себя методологический потенциал социальных и гуманитарных наук, помог социологам (фискальным социологам, социологам денег, экономсоциологам и социологам финансов) дать ответы на ключевые вопросы о современном устройстве общества: о сущности социального действия как рационального и укорененного в финансовой культуре стран глобального Севера; о сущности социального времени как неопределенного, асинхронного, создающего добавленную стоимость; о факторах статичного (устойчивого) и динамичного воспроизводства общества – капитале и активах; о характере знания в обществе – сконструированного социальными субъектами: изменчивого, создающего ценность и имеющего цену; о связанности финансовых пространств национальных государств в единую глобальную финансовую систему посредством цен, устанавливаемых на финансовом рынке. Наконец, это вопросы о структуре мировой экономики – об отрыве сферы финансов от реальной производственной экономики и увеличении их социального влияния в обществе. Встает проблема социальной структуры глобального финансового рынка, в которой особую роль играют страны – обладатели большого финансового капитала (глобальный Север) и страны-получатели капитала (глобальный Юг); ключевой институт – ЦБ, создающий новые способы социальной интеграции и координации между участниками глобального финансового рынка. Важно понимание появления субъектов, выпускающих новые валюты и социальные ценные бумаги; развертывания конкуренции стран за лучшие соглашения о госзаймах с международными финансовыми институтами и за лучшие инвестиционные условия для обеспечения устойчивости госбюджетов; и даже оценка потенциала финансов – стать новой технологией социальной безопасности для мира, способной заменить военные технологии безопасности вроде ядерного оружия как оружия сдерживания.
Интересно, что универсальность полученных знаний об обществе обеспечивается использованием математических методов (теории вероятности при изучении распределения рисков и финансовых ресурсов, математического моделирования – для редукции качественного многообразия социальных процессов и статистики – для создания утраченной материальности в экономике). Финансовые инновационные инструменты представляются как лишенные социального контекста, авторов и географии происхождения, когда маскируется тот факт, что каждый из них был создан как «политический» проект. Частные финансы выходят из-под контроля государства, что усиливает положение частных инвесторов, банков и корпораций на международной арене. Поведение людей определяется логикой банковских продуктов и услуг, в основе которых заложены финансовые категории «риска», «неопределенности», «волатильности», «ожиданий», «безопасности» и др.
Социологический анализ изучения финансов позволяет понять, что главное в финансовой экономике – это не максимизация прибыли, и не прибыль как таковая (деньги). Намного важнее оказывается социологическая интерпретация финансового капитала как источника социальной власти. Впрочем, понятие «капитала» социологами постепенно дополняется понятием «актива» – объекта, обладающего высокой финансовой оценкой и превращающего своего собственника в рантье только за счет владения им и контроля. Поэтому финансовый капитализм предстает как модель устойчивого (т. е. замкнутого) воспроизводства социальной власти, не предполагающая дальнейшего общественного развития. Таким образом, социальные исследования финансов как междисциплинарная область знания вносят свой вклад в развитие социологической дискуссии о том, что такое общество в его современной форме.
1 Под финансиализацией понимается социетальный процесс изменений в экономической, политической, социальной, культурной и других сферах жизни в результате распространения логики финансов за пределы финансового рынка (подробнее см.: [Mader et al., 2021]).
2 См. исследования социологов Д. О. Стребкова, О. Е. Кузиной, Д. В. Моисеевой, Н. В. Халиной, П. М. Козыревой, Н. Е. Тихоновой, Г. Г. Силласте, Ю. А. Кораблина, П. В. Разова и др., а также психологов О. С. Дейнека, О. В. Медяник и др.
3 Для подготовки данного обзора проанализировано более 100 научных статей: Socio-Economic Review – 21 статья за период 2005–2024 гг..; Economic Sociology. European Electronic Newsletter – 36 статей за период 2001–2024 гг.; Finance and Society – 44 статьи за период 2015–2024 гг. и монографий – [Knorr-Cetina, Preda, 2005; 2012; Loundsbury, Hirsch, 2011], а также статьи из других академических журналов.
4 Тема фискальной социологии подробно рассмотрена в профессиональных обзорах российских исследователей Е. Г. Новиковой, А. Г. Саниной, П. А. Захарьина и др.
5 В европейской академической литературе используется термин «sociology of finance», что можно перевести с английского языка как «социология финансов». Термина «financial sociology», который можно было бы перевести как «финансовая социология», нет. В русскоязычной академической литературе термин «финансовая социология» используют социологи из Финансового университета при Правительстве РФ для описания финансового поведения российского населения в рамках методологии экономической социологии (например, Финансовая социология: учебное пособие / под ред. А. В. Новикова, А. В. Ярашевой. М.: Финансовый университет, 2016).
6 Показатель изменчивости цены.
7 «Все здесь – это информация», «Что мы действительно продаем, так это информацию» [Кнорр-Цетина, 2012: 606].
8 Особенно актуальным этот тезис звучит при социологическом анализе цен на российские углеводородные ресурсы.
9 Понятие «волна» выбрано для обозначения концентрации статей и монографий по обсуждаемой проблеме, тем не менее спад публикационной активности еще не означает полное угасание интереса к проблеме и ее окончательное научное решение.
10 Согласно классификации Д. Маккензи, можно выделить три уровня перформативности в зависимости от их силы действия: первому уровню соответствует общая перформативность, второму – эффективная, а на третьем находятся барнсианская перформативность и контрперформативность. Общая перформативность – аспект экономической науки (теория, модель, концепция, программа, материальное устройство и т. д.). Он инкорпорируется в реальную экономику, делая ее более управляемой. Эффективная перформативность как подмножество общей перформативности – это практическое использование какого-либо аспекта экономической науки, которое делает возможным появление определенных экономических процессов в нестандартных или отклоняющихся условиях и изменяет ход их протекания, с тем чтобы внедрение теории, концепции, модели и др. принесло материальную выгоду. Барнсианская перформативность названа в честь социолога-конструктивиста Б. Барнса, который подчеркивал в социальной жизни центральную роль самоподтверждающихся циклов обратной связи, или так называемых самоисполняющихся пророчеств (в терминологии Р. Мертона). Такие «пророчества», верования, убеждения и др. встраиваются в инфраструктуру финансовых рынков и определяют его работу по заданному сценарию. Они могут быть инкорпорированы в технологические системы, алгоритмы, материальные устройства и др. и в таком случае имеют эффект даже при скептическом отношении субъектов, принимающих решения. Такие «пророчества» должны приносить выгоду своим создателям и вводить в заблуждение тех, кто их использует, даже разобравшись в деталях «пророчества» [MacKenzie, 2006].
11 Дериватив – производный, или вторичный финансовый инструмент, состоящий из базового актива и условий по сделке с этим активом. Выпускается на основе первичного финансового инструмента, позволяет получить прибыль, не владея (первичным) базовым активом. В качестве базового актива могут выступать ценные бумаги, сырьевые товары, валюта и др.
12 Например, инфляционные ожидания Центробанка или ожидаемая доходность ценных бумаг.
13 Например, с 2014 г. Россия подвергается ряду запретов и ограничений со стороны стран глобального Севера во главе с США в финансовой сфере, среди которых: полный запрет на новые инвестиции в РФ, а также на прямые и непрямые операции с российским золотом; ограничения на предоставления займов и инвестиционных услуг для российских банков («Сбербанка России», ВТБ, «Газпромбанка», Внешэкономбанка (название изменено с 2018 г. на ВЭБ.РФ), «Россельхозбанка»), приостановка участия РФ в G8, заморозка резервов ЦБ РФ, находящихся в банках стран G7, что составляет половину резервов ЦБ; отключение части российских банков от системы SWIFT (ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» ВТБ, «Россия» и ВЭБ.РФ; ограничение возможности российских компаний вести расчеты в долларах, евро, фунтах и иенах; запрет на сделки с облигациями российского федерального займа на вторичном рынке; приостановка работы на территории РФ карт платежных систем Visa, Mastercard и American Express, выпущенных зарубежными банками или российскими банками за границей, невозможность их использования на сайтах зарубежных интернет-магазинов; отказ от обработки карт платежной системы МИР банками ряда стран (частично – Турцией, Вьетнамом, Таджикистаном, Казахстаном; полностью – Узбекистаном, Арменией, Кыргызстаном); коллективное игнорирование публичных выступлений представителей РФ на заседаниях стран Большой двадцатки, Всемирного банка и МВФ; помимо этого Банк международных расчетов приостановил доступ ЦБ РФ к своим услугам, Всемирная федерация бирж исключила Московскую биржу из своего состава, Международная ассоциация рынков капитала приостановила членство российских организаций в деятельности рабочих групп, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития (основное кредитное учреждение Всемирного банка), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций прекратили реализацию своих программ в РФ и др.
14 Л. Ванслебен представляет социологический взгляд на усиление роли центробанков в обществе: находясь внутри национального государства, они выступают центральной организацией проведения денежно-кредитной политики, необходимой для развития глобального рынка капитала и глобальной экономической системы в целом. Они проводят «интенсивные политические эксперименты», вроде введения гибких обменных курсов валют или таргетированной инфляции. При этом возникает проблема согласования противоречивых интересов: представителей экспортных секторов экономики, выступающих за стабильный обменный курс в сочетании с низкой инфляцией; банков, требующих стабильной инфляции и стабильных ставок рефинансирования; участников финансовых рынков, ожидающих высокой инфляции для обеспечения прибыльности по своим активам; работающего населения, теряющего в результате дезинфляционной политики ЦБ свои трудовые доходы и вынужденного обращаться к кредитам. Такой социологический ракурс способствует повышению интереса исследователей к политике, проводимой ЦБ РФ. (Дезинфляция – термин, используемый для описания случаев замедления скорости инфляции, т. е. темпов роста общего уровня цен на товары и услуги в валовом внутреннем продукте. Дезинфляция обычно управляется инструментами денежно-кредитной политики ЦБ, но также может быть вызвана ростом производительности или технологий. Дезинфляционная политика способна подрывать социальную силу трудящегося населения и укреплять структурную власть капиталистов).
15 Это одна из причин смены парадигмы для промышленного сектора. «Коричневые» технологии индустриально развитых стран вынужденно заменяются дорогостоящими «зелеными» технологиями.
16 В России рынок зеленых облигаций развивается с 2018 г. Первый выпуск был организован компанией «Ресурсосбережение ХМАО», ежегодно на платформе ИНФРАГРИН публикуется список 75 компаний – лидеров отрасли.
17 Здесь «ценность» понимается в самом широком социологическом смысле, в значении накопленного в обществе материального и нематериального богатства, индивидом или организациями.
18 Примером экономики активов выступают инвестиции в жилую недвижимость, основанные на кредите. Покупка жилья выступала способом сохранения накопленного богатства и стимулом для экономической активности при переезде в крупные города с высоким спросом на рабочую силу. Процесс демократизации кредитования с низкими процентными ставками по ипотечным кредитам и организованное сокращение запасов социального жилья способствовали расширению приобретения жилья за счет заемных средств и росту цен на недвижимость. Невозможность обслуживать свой долг со стабильным падением трудовых доходов привела к тому, что массовые покупатели ипотечного жилья вынуждены перепродавать ставшие «токсичными» активы банкам и инвестиционным компаниям. Это привело к перераспределению активов в пользу банков и новому социальному неравенству: образовались слои, лишенные права собственности на жилье, и, как следствие, на накопленные ими сбережения или наследуемую недвижимость как базу их актива.
Об авторах
Алёна Андреевна Смелова
Санкт-Петербургский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: a.a.smelova@spbu.ru
кандидат социологических наук, доцент кафедры экономической социологии
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Кнорр-Цетина К. Эпистемика информации: модель потребления // Экономическая социология: теория и история / Под ред. Ю. В. Веселова, А. Л. Кашина. СПб.: Нестор-История, 2012. (перевод). С. 605–632 [Knorr-Cetina K. (2012) The Epistemic of Information: A Consumption Model. In: Economic Sociology: Theory and History. Ed. by Yu. V. Veselov, A. L. Kashin. St. Petersburg: Nestor-Istoriya: 605– 632 (In Russ.)]
- Кнорр-Цетина К., Брюггер У. Рынок как объект привязанности: исследование постсоциальных отношений на финансовых рынках // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 2. С. 29–49 (перевод). [Knorr-Cetina K., Bruegger U. (2005) The Market as an Object of Attachment: Exploring. Postsocial Relations in Financial Markets. Ekonomicheskaya sociologiya [Economic Sociology]. Т. 6. No. 2: 29–49. (In Russ.)]
- Козырева П. М. Финансовое поведение в контексте социально-экономической адаптации населения (социологический анализ) // Социологические исследования. 2012. № 7. С. 54–66. [Kozyreva P. M. (2012) Financial behavior in the context of socio-economic adaptation of the population (sociological analysis). Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies]. No 7: 54–66. (In Russ.)]
- Новикова Е. Г. Фискальная социология: опыт западных исследований налогообложения // Экономическая социология. 2005. Т. 6, № 1. С. 95–103. [Novikova E. G. (2005) Fiscal Sociology: The Experience of Western taxation studies. Ekonomicheskaya sociologiya [Economic sociology]. Vol. 6. No. 1: 95–103. (In Russ.)]
- Смелова А. А. Экономическая социология финансового кризиса // Теория и практика общественного развития. 2014. No. 2. С. 104–108. [Smelova A. A. (2014) Economic Sociology of Financial Crisis. Teoriya i praktika obschesvennogo razvitiya [Theory and Practice of Social Development]. No. 2: 104– 108. (In Russ.)]
- Abolafia M. Y. (2001) Making Markets: Opportunism and Restraint on Wall Street. Harvard University Press.
- Abolafia M. Y. (2020) Stewards of the Market: How the Federal Reserve Made Sense of the Financial Crisis. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Adkings L., Cooper M., Konings M. (2020) The Asset Economy: Property Ownership and the New Logic of Inequality. Polity.
- Allen M. P., Campbell J. L. (1994) State Revenue Extraction from Different Income Groups: Variations in Tax Progressivity in the United States, 1916 to 1986. American Sociological Review. Vol. 59. No. 2: 169–186.
- Birch K., Muniesa F. (eds) (2020) Assetization: Turning Things into Assets in Technoscientific Capitalism (Inside Technology). The MIT Press.
- Block F. (1981) The Fiscal Crisis of the Capital State. Annual Review of Sociology. Vol. 7: 1–27.
- Blomert R. (2001) Sociology of Finance – Old and New Perspectives. Economic Sociology European Electronic Newsletter. Vol. 2. No. 2: 9–14.
- Campbell J. L. (1993) The State and Fiscal Sociology. Annual Review of Sociology. Vol. 19: 163–185.
- Campbell J. L. (1996) An Institutional Analysis of Fiscal Reform in Postcommunist Europe. Theory and Society. Vol. 25. No. 1: 45–84.
- Chambost I., Lenglet M., Tadjeddine Y. (eds) (2018) The Making of Finance: Perspectives from the Social Sciences. Routledge.
- Coombs N., Thiemann M. (2022) Recentering Central Banks: Theorizing State-economy Boundaries As Central Bank Effects. Economy and Society. Vol. 51. No. 4: 535–558.
- Dodd N. (2014) The Social Life of Money. Princeton University Press.
- Esposito E. (2011) The Future of Futures: The Time of Money in Financing and Society. Edward Elgar Publ.
- Esposito E. (2013) The Structures of Uncertainty: Performativity and Unpredictability in Economic Operation. Economy and Society. Vol. 42 (1): 102–129.
- Gabor D. (2021) The Wall Street Consensus. Development and Change. Vol. 52. No. 3: 429–459.
- de Goede M. (2005) Resocialising and Repoliticising Financial Markets: Contours of Social Studies of Finance. Economic Sociology European Electronic Newsletter. Vol. 6. No. 3: 19–28.
- de Goede M. (2017) Financial Security. Finance and Society. Vol. 3. No. 2: 159–72.
- Hendrikse R., Bassens D., Meeteren M. (2018) The Appleization of finance: Charting incumbent finance’s embrace of FinTech. Finance and Society. Vol. 4. No. 2: 159–180.
- Knorr Cetina K., Preda A. (eds) (2005) The Sociology of Financial Markets. Oxford University Press.
- Knorr-Cetina K., Preda A. (eds) (2012). The Oxford handbook of the sociology of finance. Oxford University Press.
- Krippner G. (2005) The Financialization of the American Economy. Socio-Economic Review. No. 3: 173–208.
- Langenohl A. (2018) Sources of Financial Synchronism: Arbitrage Theory and the Promise of Risk-Free Profit. Finance and Society. Vol. 4. No. 1: 26–40.
- Langley P., Leyshon A. (2017) Platform Capitalism: The Intermediation and Capitalization of Digital Economic Circulation. Finance and Society. Vol. 3. No. 1: 11–31.
- Lépinay V. A. (2011) Codes of Finance: Engineering Derivatives in a Global Bank. Princeton University Press.
- Loundsbury M., Hirsch P. M. (eds) (2011) Markets on Trail: The Economic Sociology of the US Financial Crisis. Emerald.
- MacKenzie D. (2006) An Engine, Not a Camera. How Financial Models Shape Markets. The MIT Press.
- MacKenzie D. (2021) Trading at the Speed of Light: How Ultra Fast Algorithms Are Transforming Financial Markets. Princeton University Press.
- Mader P., Mertens D., van der Zwan (eds) (2021) The Routledge International Handbook of Financialzation. Routledge.
- O’Connor J. (1973) The Fiscal Crisis of the State. St. Martin’s Press.
- Peacock A. T., Wiseman J. (1979) Approaches to the Analysis of Government Expenditures Growth. Public Finance Quarterly. Vol. 7. No. 1: 3–23.
- Roberts M. L., Hite P. A., Bradley C. F. (1994). Understanding Attitudes Toward Progressive Taxation. Public Opinion Quarterly. Vol. 58. No. 2: 165–190.
- Samman A., Boy N. et al. (2022) After the boom: Finance and society studies in the 2020s and beyond. Finance and Society. Vol. 8. No. 2: 93–109.
- Wansleben W. (2023) The Rise of Central Banks: State Power in Financial Capitalism. Harvard University Press.