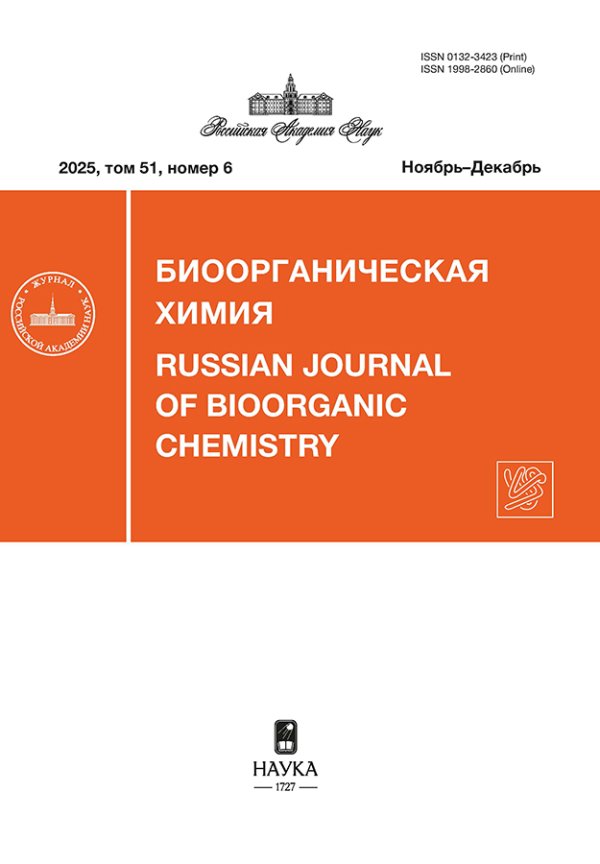Hybrid antimicrobial coating based on conjugate of hyaluronic acid with peptide LL-37 for PEO-modified titanium implants
- Authors: Parfenova L.V.1, Galimshina Z.R.1, Gil’fanova G.U.1, Alibaeva E.I.1, Pashkova T.M.2, Kartashova O.L.2, Farrakhov R.G.3, Aubakirova V.R.3, Parfenov E.V.3
-
Affiliations:
- Institute of Petrochemistry and Catalysis of Russian Academy of Sciences
- Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
- Ufa University of Science and Technology
- Issue: Vol 50, No 2 (2024)
- Pages: 101-110
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-3423/article/view/258813
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324020011
- EDN: https://elibrary.ru/ONSMFD
- ID: 258813
Cite item
Full Text
Abstract
A conjugate of hyaluronic acid and antimicrobial peptide LL-37 was synthesized for the first time. The hybrid compound was tested as an antimicrobial organic coating for titanium samples with an inorganic sublayer obtained by plasma electrolytic oxidation (PEO) of the surface. As a result of in vitro studies, the antibacterial effect of the hybrid molecule within the inorganic PEO coating was established, which consists of a significant (p < 0.05) suppression of the ability of Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium and Escherichia coli to form biofilms. The presented approach can be utilized for the subsequent design and development of non-fouling antimicrobial coatings to decrease the risk of infectious diseases caused by bacteria when using implants.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Титан (Ti) и его сплавы – самые востребованные материалы для ортопедии и травматологии благодаря биоинертности, легкости, прочности и способности к остеоинтеграции [1–3]. Тем не менее появление в организме имплантата может вызывать реакцию на инородное тело, острое и хроническое воспаление, приводить к развитию грануляционной ткани и фиброзной инкапсуляции [4, 5]. В связи с этим в мировой практике для обеспечения биосовместимости имплантатов широко разрабатываются методы, связанные с изменением архитектуры и состава поверхностного слоя с целью придания устройствам свойств костной ткани и клеточных мембран – так называемый биомиметический подход. Такое моделирование свойств поверхности достигается как за счет физико-химических методов формирования покрытий, приближающих фазовый состав и трехмерную структуру поверхностного слоя к минеральным компонентам и морфологии человеческой кости, так и за счет нанесения органической матрицы, содержащей фрагменты, осуществляющие различные функции. Происходит широкомасштабный поиск вариантов покрытий – неорганических, органических и комбинированных – для обеспечения заданных биологических свойств поверхности [6, 7].
Помимо биосовместимости для имплантатов важны антибактериальные свойства, наличие которых снижает вероятность проведения повторной хирургической операции, связанной с возможным инфицированием при установке устройства или после операции [8, 9]. Бактерии, принадлежащие к так называемой панели ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и виды Enterobacter), становятся все более распространенными и устойчивыми к традиционным антибиотикам и поэтому представляют собой особенно опасную группу [10]. Для обеспечения антимикробных свойств поверхности, как правило, используют противомикробные и необрастающие материалы, которые либо высвобождают компоненты, уничтожающие патогены при контакте, либо предотвращают их прикрепление и образование биопленки [11]. Среди антимикробных средств в последнее время значительный интерес вызывают антимикробные пептиды (АМП) – молекулы-эффекторы врожденной защиты животных, растений и микроорганизмов, которые проявляют активность против бактерий, устойчивых к антибиотикам и находящихся в биопленках, а также вирусов, грибков и паразитов [12, 13]. Отмечается высокий потенциал их использования для модификации поверхности медицинских устройств [14, 15].
Так, многофункциональный пептид LL-37 из группы кателицидинов, обнаруженный у человека, с антибактериальной, противовирусной и иммуномодулирующей активностью [16–18] был иммобилизован на поверхности титана, в результате чего был достигнут антимикробный эффект [19], а также показана способность мезенхимальных стволовых клеток к остеогенной дифференцировке и образованию новой кости in vivo [20].
В качестве необрастающей основы для титановых имплантатов могут быть использованы полисахариды, в частности гиалуроновая кислота (ГК) [21], способная в значительной степени снижать адгезию и развитие патогенов на поверхности. Кроме того, ГК обладает ценными характеристиками: биосовместимостью, влагоудерживающими и репаративно-регенеративными свойствами, способностью образовывать высоковязкие гидрогели [22–24]. ГК принимает участие в большинстве биологических процессов: подвижности клеток, пролиферации, организации тканей, заживлении ран, ангиогенезе и морфогенезе, развитии скелета, его росте и реконструкции [25]. Благодаря взаимосвязи с различными рецепторами, такими как CD44 и TSG-6 (белок гена-6, стимулируемый фактором некроза опухоли), ГК является ключевым регулятором воспаления: она создает перицеллюлярное покрытие, которое не только защищает клетки от медиаторов воспаления, но и действует также как иммуносупрессор, предотвращающий доступ к лигандам и ингибирующий фагоцитоз макрофагами и моноцитами [26, 27].
В продолжение наших исследований по созданию биологически активных органических покрытий на основе олигопептидов и полисахаридов для металлических имплантатов [21, 28–30], целью представленной работы стал синтез конъюгата ГК с антимикробным пептидом LL-37 для модификации неорганического пористого оксидного подслоя, полученного в результате плазменно-электролитического оксидирования поверхности крупнозернистого (КЗ-Ti-ПЭО) и наноструктурированного титана (нано-Ti-ПЭО), а также изучение антибактериального действия комбинированного органо- неорганического покрытия в отношении Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium и Escherichia coli.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В работе синтезирован новый органический материал, который содержит в своем составе антимикробный олигопептид LL-37 и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту (<0.1 MДa). Для функционализации природного полисахарида использовали дигид-разид 4,4′-дитиодимасляной кислоты, который был предварительно получен из 4,4′-дитиодимасляной кислоты в две стадии с высоким выходом (92%). При добавлении 2 экв. EDC к смеси ГК и дигидразида, взятых в мольных соотношениях 1 : 2, в воде и поддержании рН среды в пределах 4.7–4.8 образуется кросс-сшитый полисахарид, в котором степень прев- ращения СООН-групп ГК в амидные достигает значения ~16–18%. Для получения производных ГК с концевыми SH-группами (III) к реакционной массе добавляли восстанавливающий реагент DTT – дитиотреитол (реагент Клеланда) [31–33].
Для получения гибридной молекулы ГК–LL-37 предварительно синтезировали малеимидсодержащий конъюгат (IV) реакцией LL-37 с N-ε-малеимидо-капроил-оксисукцинимидным эфиром (EMCS) в соотношении 1 : 1 в смеси вода–ацетон (4 : 1), образование конъюгата проходило в течение 2 ч (схема 1). Полученный конъюгат (IV) использовали в дальнейшем синтезе без очистки. Как известно [18], LL-37 содержит в структуре 37 а.о., среди которых присутствуют 6 лизиновых фрагментов, несущих в положении С6 первичные –NH2-группы, которые, по-види- мому, вступали в реакцию с EMCS, что приводило к получению амида (IV).
Схема 1. Синтез гибридной молекулы (V) на основе гиалуроновой кислоты и антимикробного пептида LL-37: i – EDC, H2O, pH 4.75, 18–20°С, 2 ч; ii – DTT, H2O, pH 7→8.5, 18–20°С, 24 ч; iii – ацетон–H2O, pH 7, 18–20°С, 2 ч; iv – ГК-SH (III), H2O, pH 4.75→7, 36–38°С, 2 ч.
Гибридную молекулу на основе ГК и АМП LL-37 (V) получали по реакции Михаэля, где ГК-SH (III) и N-малеимидное производное LL-37 (IV) были взяты в соотношении 9 : 1 соответственно. Реакция проходила при 36–38°С в течение 2 ч, очистку полученного продукта проводили с помощью диализа в течение 5 сут.
Структура синтезированных новых производных установлена при помощи 1Н-ЯМР-спектроскопии (рис. 1). В спектре 1H-ЯМР соединения EMCS–LL-37 (IV) кроме сигналов олигопептида наблюдали сигналы протонов двойной связи малеимидного фрагмента в области 6.75 м.д., а также характерные триплетные сигналы протонов алкандиильной части линкера C1H2 и C5H2 при 2.28 и 3.45 м.д. соответственно.
Рис. 1. 1H-ЯМР-спектры соединений (III–V) и антимикробного пептида LL-37 в D2O: (а) – гибридная молекула ГК–LL-37 (V); (б) – ГК-SH (III) (DS = 15%); (в) – конъюгат EMCS–LL-37 (IV); (г) – пептид LL-37.
В спектре 1H-ЯМР гибридной молекулы (V) присутствовали уширенные сигналы, принадлежащие как полисахаридной части, так и олигопептидному фрагменту. При этом в спектре отсутствовал сигнал малеимидной группы при 6.75 м.д., что свидетельствует о полноте протекания реакции между соединениями (III) и (IV) (рис. 1).
Органический слой формировали на ПЭО-моди- фицированной поверхности крупнозернистого и наноструктурированного титана путем физико-химической адсорбции конъюгата (V) из раствора.
Антибактериальное действие покрытий и их влияние на способность бактерий формировать биопленки изучали с использованием тест-культур S. aureus P 209, E. faecium Ef79OSAU, P. aeruginosa ATCC 27853 и E. сoli ATCC 25922 (табл. 1). Эксперименты in vitro показали, что ПЭО-покрытие не оказывает прямого бактерицидного действия на тест-штаммы. Исходные ГК и LL-37 снижают адгезию грамположительных и грамотрицательных бактерий на поверхности КЗ-Ti-ПЭО и нано-Ti-ПЭО на 17.4–45.5%. Исключения составили тест-штаммы E. faecium и P. aeruginosa, степень их адгезии на модифицированном ГК и LL-37 наноструктурированном титане практически не отличалась от образцов без органического покрытия, а в случае ГК на нано-Ti-ПЭО количество адге- зированных клеток P. aeruginosa увеличивалось на 15.4%.
Таблица 1. Влияние органических покрытий ГК, LL-37 и ГК–LL-37 (V) на адгезию микроорганизмов на поверхности ПЭО-модифицированного крупнозернистого (КЗ-Ti-ПЭО) и наноструктурированного (нано-Ti-ПЭО) титана
Образец | S. aureus (Р 209) | E. faecium (Ef79OSAU) | P. aeruginosa (ATCC 27853) | E. coli (ATCC 25922) | ||||
КЗ-Ti-ПЭО | нано-Ti-ПЭО | КЗ-Ti-ПЭО | нано-Ti-ПЭО | КЗ-Ti-ПЭО | нано-Ti-ПЭО | КЗ-Ti-ПЭО | нано-Ti-ПЭО | |
Без органического покрытия | 4.6 ± 0.06 | 4.2 ± 0.11 | 3.14 ± 0.12 | 2.66 ± 0.08 | 3.6 ± 0.15 | 3.9 ± 0.09 | 3.9 ± 0.23 | 3.8 ± 0.19 |
ГК | 3.8 ± 0.08** (–17.4%) | 3.2 ± 0.23* (–23.8%) | 2.56 ± 0.14* (–18.5%) | 2.4 ± 0.05 (–0.1%) | 2.4 ± 0.09* (–33.3%) | 4.5 ± 0.12 (+15.4%) | 2.85 ± 0.23* (–26.9%) | 2.07 ± 0.12* (–45.5%) |
LL-37 | 3.3 ± 0.13** (–28.3%) | 3.4 ± 0.13* (–19.0%) | 2.45 ± 0.23 (–21.9%) | 2.45 ± 0.15 (–0.03%) | 2.6 ± 0.04* (–27.8%) | 3.4 ± 0.34 (–0.03%) | 2.16 ± 0.04* (–44.6%) | 2.4 ± 0.03* (–36.8%) |
ГК–LL-37 (V) | 2.3 ± 0.08** (–50.0%) | 3.1 ± 0.11* (–26.2%) | 1.9 ± 0.12** (–39.5%) | 2.2 ± 0.13* (–17.3%) | 2.4 ± .07* (–33.3%) | 3.3 ± 0.08 (–15.4%) | 2.32 ± 0.07* (–40.5%) | 1.94 ± 0.06** (–48.9%) |
Приведены значения оптической плотности и процент изменения оптической плотности относительно контрольного образца без органического покрытия. * p < 0.05; ** p < 0.001 (достоверность различия признаков в контроле и опыте).
Влияние ГК на поверхности ПЭО-модифицированного титана на способность микроорганизмов формировать биопленки может быть связано с увеличением гидрофильности поверхности за счет создания гидратной оболочки в результате адгезии полисахарида [34–36]. Эффект LL-37 может заключаться как в мембранной активности, так и в его способности действовать непосредственно на внутриклеточные мишени, в первую очередь на нуклеиновые кислоты (ДНК или РНК) [17].
Покрытие ГК–LL-37 (V) подавляло адгезию всех изученных тест-штаммов на поверхности КЗ-Ti-ПЭО и нано-Ti-ПЭО. Наибольший ингибирующий эффект был показан образцами КЗ-Ti-ПЭО и нано-Ti-ПЭО в отношении S. aureus и E. coli (на 48.9–50.0%).
Синергетический эффект, достигаемый от химического связывания LL-37 с ГК, следует отметить для обоих типов металлических образцов в отношении образования биопленок (адгезии) S. aureus, E. faecium, а также P. aeruginosa и E. coli на наноструктурированном титане.
Таким образом, ингибирующее действие конъюгата ГК–LL-37 (V) на способность микроорганизмов к формированию биопленок может быть обусловлено как барьерным эффектом полисахарида, так и ингибирующими свойствами АМП, активность которого не снижается при связывании с полисахаридной основой.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для синтеза конъюгата ГК–LL-37 (V) использовали следующие реагенты: коммерчески доступную низкомолекулярную гиалуроновую кислоту (<0.1 MДa), олигопептид LL-37 трифторацетат (Bachem, Великобритания), ε-аминокапроновую кислоту (98.5%, Merck, Германия), малеиновый ангидрид (>98%, Acros, Бельгия), N-гидрокисукцинимид (NHS, >98%, Acros), дициклогексилкарбодиимид (DCC, 99%, Acros), реагент Клеланда (DTT, 98%, Abcr), 4-аминобутановую кислоту (>99%, Acros). Дигид-разид 4,4′-дитиобутановой кислоты получали по методу Vercruysse et al. [33], SH-ГК (III) – по известной методике Shu et al. [37]. EMCS синтезировали согласно методу Nielsen et al. [38].
Спектры 1H-ЯМР регистрировали на спектрометре AVANCE-500 (Bruker, Германия; рабочая частота 500.17 MГц). В качестве растворителя использовали D2O. Образцы готовили в стандартной ампуле диаметром 5 мм. Химические сдвиги атомов водорода приведены в шкале δ (м.д.) относительно тетраметилсилана (ТМС).
Синтез конъюгата EMCS–LL-37 (IV). Олиго- пептид LL-37 (5 мг, 0.001 ммоль) растворяли в 0.62 мл воды при pH 7. При интенсивном перемешивании к раствору LL-37 добавляли эквимольное количество EMCS 0.36 мг (0.001 ммоль), растворенного в 0.14 мл ацетона. Реакционную массу перемешивали при комнатной температуре в течение 2 ч, далее сушили. Получили соединение EMCS–LL-37 (IV) в виде белого порошка. Спектр 1Н-ЯМР (500.17 MГц, D2О, δ, м.д., J, Гц): 0.68–0.98 (м, CH2, CH3 (Lys, Ile, Val), LL-37), 1.04–4.65 (м, CH, CH2, LL-37), 2.28 (т, C1H2, J 5.0, EMCS), 3.45 (т, 2H, C5H2, J 7.2, EMCS), 6.75 (c, 2H, C6H2, EMCS), 6.99–7.34 (м, C6H5 (Phe), LL-37).
Синтез гибридной молекулы ГК–LL-37 (V). К раствору 4.8 мг SH-производного ГК (III) в 0.8 мл бидистиллированной воды (0.009 ммоль, 10 мМ) при pH 7 (pH был скорректирован добавлением 0.1 M раствора NaOH) порционно добавляли предварительно приготовленный раствор конъюгата (IV) (0.001 ммоль растворяли в 0.8 мл бидистиллированной воды). Реакционную массу перемешивали в течение 1–2 ч при 36–38°С, затем переносили в диализную ленту и проводили диализ против раствора дистиллированной воды с NaCl (100 ммоль NaCl в 1 л раствора) в течение 1 сут с последующим диализом против дистиллированной воды в течение 2 сут, затем сушили при пониженном давлении. Соединение (V) получали с количественным выходом в виде бесцветной пленки. Спектр 1Н-ЯМР (500.17 MГц, D2О, δ, м.д.): 0.73–0.98 (м, CH2, CH3 (Lys, Ile, Val), LL-37), 1.75–4.60 (м, CH, CH2, LL-37), 1.94 (s, C11H3), 2.16–2.29 (м, C1H2), 2.36–2.57 (м, C10H2), 2.58–2.78 (м, C6H2, C8H2), 3.02–4.60 (м, C5H2, C7H, CH (ГК)), 7.11–7.36 (м, C6H5 (Phe), LL-37).
Подготовка ПЭО-модифицированных металлических образцов. В качестве материала подложки использовали титан Grade 4 (ASTM F67). Химический состав Ti Grade 4: Fe – 0.15, C – 0.05, O – 0.36, N – 0.007, H – 0.002, Ti – остаток. Наноструктурирование титана (нано-Ti) осуществляли путем интенсивной пластической деформации [39] методом равноканального углового прессования (РКУП-С) с последующей вытяжкой [40]. В результате получили титановые стержни диаметром 8 мм. Далее из стержня вырезали диски толщиной 0.5 мм. Образцы крупнозернистого титана (КЗ-Ti) вырезали из стержней того же диаметра. Далее из стержня вырезали диски толщиной 0.5 мм.
Перед обработкой ПЭО образцы шлифовали на наждачной бумаге SiC зернистостью 600, 1000, 2000 до получения значения шероховатости Ra < 0.15 мкм. Затем образцы промывали в дистиллированной воде, очищали в изопропиловом спирте с помощью ультразвуковой ванны в течение 5 мин и сушили на воздухе при комнатной температуре. Плазменно-электролитическое оксидирование проводили на автоматизированном оборудовании пиковой мощностью 50 кВт в импульсном биполярном режиме при управлении напряжением [28–30]. Параметры процесса ПЭО поддерживали на заданном уровне с точностью ±2%. Процесс ПЭО проводили в 10-литровом стеклянном сосуде, снабженном теплообменником из нержавеющей стали. Детали обработки ПЭО представлены в табл. 2. В качестве держателя образца использовали проволоку из титанового сплава марки Grade 2 диаметром 1 мм. Образец крепили к петле диаметром 8 мм на конце держателя.
Таблица 2. Режим обработки ПЭО
Состав электролита | Положительный импульс | Отрицательный импульс | Частота, Гц | Т, °C | Продолжительность, мин | ||
напряжение, V | рабочий цикл, % | напряжение, V | рабочий цикл, % | ||||
20 г/л Na3PO4·12 H2O | 470 | 51 | 40 | 26 | 300 | 20 | 5 |
Влияние образцов титана с ПЭО-покрытиями на способность бактерий формировать биопленки. Образцы титана с ПЭО-покрытием очищали ультразвуком в течение 10 мин в 95%-ном этаноле и промывали деионизированной водой, сушили на воздухе и стерилизовали автоклавированием при 134°С. Для нанесения органического покрытия металлические образцы помещали в чашку Петри с раствором ГК, LL-37 или ГК–LL-37 (V) с концентрацией 1 мг/мл, стерилизовали фильтрованием через фильтр СА 0.22 мкм. Через 3 ч образцы сушили на воздухе в ламинарном боксе.
Тест-культуры S. aureus P 209, E. faecium Ef79- OSAU, E. coli ATCC 25922 и P. aeruginosa ATCC 27853 выращивали на агаре Мюллера–Хинтона (HiMedia, Индия) при 37°С в течение 18–24 ч, затем готовили взвесь микроорганизмов в физиологическом растворе плотностью 0.181, 0.184 и 0.228 (для грамотрицательных бактерий E. coli и P. aeruginosa использовали одну оптическую плотность – 0.228) соответственно. Значения оптической плотности штаммов определяли при помощи спектрофотометра STAT FAX 2100 (Awarenes Technology, США) при длине волны 492 нм.
В лунки полипропиленового планшета с образцами титана с ПЭО-покрытием и без него вносили по 100 мкл бактериальной взвеси. Отдельный ряд в планшете занимали лунки со взвесью тест-штаммов без образцов титана, что служило контролем роста культуры. В другой ряд добавляли стерильный бульон Мюллера–Хинтона (HiMedia, Индия) в качестве контроля стерильности и холостой пробы для сканирования лунок. Планшеты инкубировали при 37°С. Через 18–24 ч образцы Ti осторожно промывали физиологическим раствором, а затем для определения количества прикрепившихся бактериальных клеток на поверхности титана окрашивали 0.1%-ным раствором генцианвиолета (Химреактивснаб, Россия). Далее клетки разрушали спиртом, измеряли оптическую плотность красителя, выходящего из разрушенных клеток, и определяли способность бактерий формировать биопленки по методике O’Toole et al. [41].
Статистический анализ результатов проводили с помощью пакета программ Microsoft Excel 2007. Значимость различий средних величин показателей оценивали с помощью методов вариационной статистики (t-критерий Стьюдента). Все эксперименты проводили в трех повторах. Статистически значимыми считали отличия при p < 0.05.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получено EMCS-производное олигопептида LL-37, которое затем конъюгировали с SH-модифицирован- ной гиалуроновой кислотой с получением нового гибридного соединения ГК–LL-37. Полученный конъюгат ГК–LL-37 был испытан в качестве органического покрытия для ПЭО-модифицированного крупнозернистого и наноструктурированного титана. На основе исследований in vitro установлен антибактериальный эффект гибридной молекулы в составе неорганического ПЭО-покрытия, заключающийся в значимом (p < 0.05) подавлении способности S. aureus, P. aeruginosa, E. faecium и E. coli формировать био- пленки. Представленный подход может быть использован для последующего дизайна и разработки необрастающих антимикробных покрытий для снижения риска возникновения инфекционно-воспалительных заболеваний бактериальной природы при использовании имплантатов.
БЛАГОДАРНОСТИ
Структурные исследования проведены в Региональном Центре коллективного пользования “Агидель” Уфимского федерального исследовательского центра РАН.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Работа выполнена в рамках государственного задания Института нефтехимии и катализа Уфимского федерального исследовательского центра РАН (№ FMRS-2022-0081).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит описания исследований с участием людей или использованием животных в качестве объектов.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Сокращения: АМП – антимикробный пептид; ГК – гиалуроновая кислота; КЗ-Ti – крупнозернистый титан; нано-Ti – наноструктурированный титан; ПЭО – плазменно-электролитическое оксидирование; LL-37 –антимикробный пептид семейства кателицидинов; EDC – 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид; DTT – дитиотреитол; EMCS – N-ε-малеимидокапроил-оксисукцинимидный эфир.
About the authors
L. V. Parfenova
Institute of Petrochemistry and Catalysis of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: luda_parfenova@ipc-ras.ru
Russian Federation, 450075, Ufa, prosp. Oktyabrya, 141
Z. R. Galimshina
Institute of Petrochemistry and Catalysis of Russian Academy of Sciences
Email: luda_parfenova@ipc-ras.ru
Russian Federation, 450075, Ufa, prosp. Oktyabrya, 141
G. U. Gil’fanova
Institute of Petrochemistry and Catalysis of Russian Academy of Sciences
Email: luda_parfenova@ipc-ras.ru
Russian Federation, 450075, Ufa, prosp. Oktyabrya, 141
E. I. Alibaeva
Institute of Petrochemistry and Catalysis of Russian Academy of Sciences
Email: luda_parfenova@ipc-ras.ru
Russian Federation, 450075, Ufa, prosp. Oktyabrya, 141
T. M. Pashkova
Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: luda_parfenova@ipc-ras.ru
Russian Federation, 460000, Orenburg, ul. Pionerskaya, 11
O. L. Kartashova
Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: luda_parfenova@ipc-ras.ru
Russian Federation, 460000, Orenburg, ul. Pionerskaya, 11
R. G. Farrakhov
Ufa University of Science and Technology
Email: luda_parfenova@ipc-ras.ru
Russian Federation, 450076, Ufa, ul. Zaki Validi, 32
V. R. Aubakirova
Ufa University of Science and Technology
Email: luda_parfenova@ipc-ras.ru
Russian Federation, 450076, Ufa, ul. Zaki Validi, 32
E. V. Parfenov
Ufa University of Science and Technology
Email: luda_parfenova@ipc-ras.ru
Russian Federation, 450076, Ufa, ul. Zaki Validi, 32
References
- Elias C.N., Lima J.H.C., Valiev R., Meyers M.A. // JOM. 2008. V. 60. P. 46–49. https://doi.org/10.1007/s11837-008-0031-1
- Geetha M., Singh A.K., Asokamani R., Gogia A.K. // Prog. Mater. Sci. 2009. V. 54. P. 397–425. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2008.06.004
- Chen Q., Thouas G.A. // Mater. Sci. Eng. R Rep. 2015. V. 87. P. 1–57. https://doi.org/10.1016/j.mser.2014.10.001
- Franz S., Rammelt S., Scharnweber D., Simon J.C. // Biomaterials. 2011. V. 32. P. 6692–6709. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2011.05.078
- Zhou G., Groth T. // Macromol. Biosci. 2018. V. 18. P. 1800112. https://doi.org/10.1002/mabi.201800112
- Meyers S.R., Grinstaff M.W. // Chem. Rev. 2012. V. 112. P. 1615–1632. https://doi.org/10.1021/cr2000916
- Zhang B.G.X., Myers D.E., Wallace G.G., Brandt M., Choong P.F.M. // Int. J. Mol. Sci. 2014. V. 15. P. 11878. https://doi.org/10.3390/ijms150711878
- Han A., Tsoi J.K.H., Rodrigues F.P., Leprince J.G., Palin W.M. // Int. J. Adhesion Adhesives. 2016. V. 69. P. 58–71. https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2016.03.022
- Chouirfa H., Bouloussa H., Migonney V., Falentin- Daudré C. // Acta Biomater. 2019. V. 83. P. 37–54. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2018.10.036
- Rice L.B. // J. Infect. Dis. 2008. V. 197. P. 1079. https://doi.org/10.1086/533452
- Pringle N.A., Dube A., Adam R.Z., D’Souza S., Aucamp M. // Materials. 2021. V. 14. P. 3167. https://doi.org/10.3390/ma14123167
- Wang J., Dou X., Song J., Lyu Y., Zhu X., Xu L., Li W., Shan A. // Med. Res. Rev. 2019. V. 39. P. 831–859. https://doi.org/10.1002/med.21542
- Mahlapuu M., Håkansson J., Ringstad L., Björn C. // Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016. V. 6. P. 194. https://doi.org/10.3389/fcimb.2016.00194
- Riool M., de Breij A., Drijfhout J.W., Nibbering P.H., Zaat S.A.J. // Front. Chem. 2017. V. 5. P. 63. https://doi.org/10.3389/fchem.2017.00063
- Costa B., Martínez-de-Tejada G., Gomes P.A.C., Martins M.C.L., Costa F. // Pharmaceutics. 2021. V. 13. P. 1918. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13111918
- Mookherjee N., Brown K.L., Bowdish D.M.E., Doria S., Falsafi R., Hokamp K., Roche F.M., Mu R., Doho G.H., Pistolic J., Powers J.-P., Bryan J., Brinkman F.S.L., Hancock R.E.W. // J. Immunol. 2006. V. 176. P. 2455–2464. https://doi.org/10.4049/jimmunol.176.4.2455
- Duplantier A.J., van Hoek M.L. // Front. Immunol. 2013. V. 4. P. 143. https://doi.org/10.3389/fimmu.2013.00143
- Neshani A., Zare H., Eidgahi M.R.A., Kakhki R.K., Safdari H., Khaledi A., Ghazvini K. // Gene Rep. 2019. V. 17. Р. 100519. https://doi.org/10.1016/j.genrep.2019.100519
- Gabriel M., Nazmi K., Veerman E.C., Amerongen A.V.N., Zentner A. // Bioconjug. Chem. 2006. V. 17. P. 548–550. https://doi.org/10.1021/bc050091v
- He Y., Mu C., Shen X., Yuan Z., Liu J., Chen W., Lin Ch., Tao B., Liu B., Cai K. // Acta Biomater. 2018. V. 80. P. 412–424. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2018.09.036
- Parfenova L.V., Galimshina Z.R., Gil’fanova G.U., Aliba- eva E.I., Danilko K.V., Pashkova T.M., Kartashova O.L., Farrakhov R.G., Mukaeva V.R., Parfenov E.V., Nagumo- thu R., Valiev R.Z. // Surf. Interfaces. 2022. V. 28. P. 101678. https://doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101678
- Volpi N., Schiller J., Stern R., Soltés L. // Curr. Med. Chem. 2009. V. 16. P. 1718–1745. https://doi.org/10.2174/092986709788186138
- Brubaker C.E., Messersmith Ph.B. // Langmuir. 2012. V. 28. P. 2200–2205. https://doi.org/10.1021/la300044v
- Schante C., Zuber G., Vandamme Th. // Carbohyd. Pol. 2011. V. 85. P. 469–489. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2011.03.019
- Bastow E.R., Byers S., Golub S.B., Clarkin C.E., Pitsilli- des A.A., Fosang A.J. // J. Cell. Mol. Life Sci. 2008. V. 65. P. 395–413. https://doi.org/10.1007/s00018-007-7360-z
- Day A.J., de la Motte C.A. // Trends Immunol. 2005. V. 26. P. 637–643. https://doi.org/10.1016/j.it.2005.09.009
- Stern R., Asari A.A., Sugahara K.N. // Eur. J. Cell. Biol. 2006. V. 85. P. 699–715. https://doi.org/10.1016/j.ejcb.2006.05.009
- Parfenov E.V., Parfenova L.V., Dyakonov G.S., Danil- ko K.V., Mukaeva V.R., Farrakhov R.G., Lukina E.S., Valiev R.Z. // Surf. Coatings Technol. 2019. V. 357. P. 669–683. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.10.068
- Parfenova L.V., Lukina E.S., Galimshina Z.R., Gil’fano- va G.U., Mukaeva V.R., Farrakhov R.G., Danilko K.V., Dyakonov G.S., Parfenov E.V. // Molecules. 2020. V. 25. P. 229. https://doi.org/10.3390/molecules25010229
- Parfenov E.V., Parfenova L.V., Mukaeva V.R., Farrak- hov R.G., Stotskiy A., Raab A., Danilko K.V., Nagumo- thu R., Valiev R.Z. // Surf. Coatings Technol. 2020. V. 404. P. 126486. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126486
- Pouyani T., Prestwich G.D. // Bioconjug. Chem. 1994. V. 5. P. 339. https://doi.org/10.1021/bc00028a010
- Varghese O.P., Sun W., Hilborn J., Ossipov D.A. // J. Am. Chem. Soc. 2009. V. 131. P. 8781. https://doi.org/10.1021/ja902857b
- Vercruysse K.P., Marecak D.M., Marecek J.F., Prest- wich G.D. // Bioconjug. Chem. 1997. V. 8. P. 686–694. https://doi.org/10.1021/bc9701095
- Hu X., Neoh K.-G., Shi Z., Kang E.-T., Poh C., Wang W. // Biomaterials. 2010. V. 31. P. 8854. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2010.08.006
- Chua P.H., Neoh K.G., Shi Z., Kang E.T. // Biomed. Mater. Res. A. 2008. V. 87A. P. 1061–1074. https://doi.org/10.1002/jbm.a.31854
- Lv H., Chen Z., Yang X., Cen L., Zhang X., Gao P. // J. Dent. 2014. V. 42. P. 1464–1472. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2014.06.003
- Shu X.Z., Liu Y., Luo Y., Roberts M.C., Prestwich G.D. // Biomacromolecules. 2002. V. 3. P. 1304–1311. https://doi.org/10.1021/bm025603c
- Nielsen О., Buchardt O. // Synthesis. 1991. V. 10. P. 819–821. https://doi.org/10.1055/s-1991-26579
- Gunderov D.V., Polyakov A.V., Semenova I.P., Raab G.I., Churakova A.A., Gimaltdinova E.I., Sabirov I., Segura- do J., Sitdikov V.D., Alexandrov I.V., Enikeev N.A., Vali- ev R.Z. // Mater. Sci. Eng. A. 2013. V. 562. P. 128–136. https://doi.org/10.1016/j.msea.2012.11.007
- Dyakonov G.S., Zemtsova E., Mironov S., Semenova I.P., Valiev R.Z., Semiatin S.L. // Mater. Sci. Eng. A. 2015. V. 648. P. 305–310. https://doi.org/10.1016/j.msea.2015.09.080
- O’Toole G., Kaplan H.B., Kolter R. // Ann. Rev. Microbiol. 2000. V. 54. P. 49–79. https://doi.org/10.1146/annurev.micro.54.1.49
Supplementary files