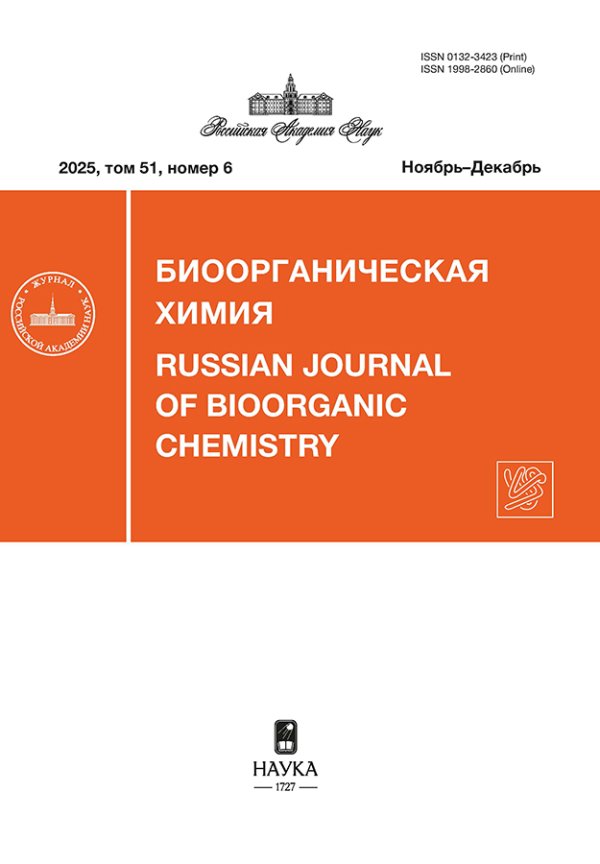Novel BRICHOS-related defensin-like antimicrobial peptide from the marine polychaeta Arenicola marina
- Authors: Safronova V.N.1, Panteleev P.V.1, Kruglikov R.N.1, Bolosov I.A.1, Finkina E.I.1, Ovchinnikova T.V.1
-
Affiliations:
- Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 50, No 3 (2024)
- Pages: 203-217
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-3423/article/view/261461
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324030016
- EDN: https://elibrary.ru/OAMNAL
- ID: 261461
Cite item
Full Text
Abstract
To date, polychaetes remain a poorly studied class of invertebrate animals in the context of clarification of their immune system functioning and, in particular, of antimicrobial peptides (AMPs) biodiversity. AMPs, also known as host defense peptides, play a key role in host protection from various pathogens and regulation of the species composition of symbiotic microbes. The study of biosynthesis of AMPs in polychaetes has revealed an interesting pattern, namely so-called BRICHOS domain in the precursor proteins of a number of such peptides. The conserved structure of this domain allows to perform a bioinformatic search for AMP precursors in polychaete transcriptomes. In this work, we found and studied a new BRICHOS-associated AMP from the lugworm Arenicola marina, which represents a structural family of defensin-like peptides stabilized by four disulfide bonds, not previously identified in marine worms. The peptide, designated as AmBRI-44a, contained 44 amino acid residues and was obtained by heterologous expression in Escherichia coli. AmBRI-44a was shown to have a specific activity against a narrow spectrum of Gram-positive bacteria and did not exhibit pronounced cytotoxic effects on eukaryotic cell line HEK293T. A potential mechanism of the antibacterial action of this peptide may be associated with inhibition of bacterial cell wall biosynthesis, as indicated by genetic and phenotypic analysis of selected AmBRI-44a-resistant bacteria Bacillus licheniformis B-511. The results obtained allow us to consider the novel peptide AmBRI-44a as a candidate compound for the development of an antibiotic agent that could potentially be effective in the treatment of infectious diseases mediated by multidrug-resistant Gram-positive bacteria.
Full Text
Сокращения: АМП – антимикробные пептиды; ОФ-ВЭЖХ – обращенно-фазовая ВЭЖХ; КД – круговой дихроизм; ДФХ – додецилфосфохолин; МИК – минимальная ингибирующая концентрация; ФБС – фетальная бычья сыворотка; MHB – среда Мюллера–Хинтон.
ВВЕДЕНИЕ
Защитные антимикробные пептиды (АМП) – ключевые молекулярные факторы системы врожденного иммунитета большинства многоклеточных видов, включая человека [1]. АМП синтезируются на рибосоме и выполняют защитную функцию у животных, растений, грибов, а также играют коммуникативную роль у бактерий. В процессе эволюции на протяжении сотен миллионов лет морские многоклеточные организмы, обитающие в соленой воде всех морей и океанов – от Арктики до Антарктики, постоянно совершенствовали и успешно сформировали надежные защитные механизмы врожденного иммунитета [2]. В то же время, по сравнению с наземными видами, морские животные практически не исследованы с точки зрения функционирования иммунной системы. Все морские виды живут в богатой микроорганизмами среде, а следовательно, активно используют немедленную защиту на основе разнообразных по структуре и биологическим свойствам АМП, реализуемую в рамках функционирования системы врожденного иммунитета. Для морских беспозвоночных, представляющих абсолютное большинство видового разнообразия морских организмов и не обладающих адаптивным иммунитетом, роль АМП особенно важна [3]. Стоит отметить, что на сегодняшний день описано не менее 10 тыс. видов морских полихет [4, 5], каждый из которых потенциально является богатым источником новых пептидных антибиотиков, что подтвердил ряд проведенных нами исследований [6–8]. АМП из морских видов вызывают значительный практический интерес, т.к. эти пептиды сохраняют высокую антибактериальную активность в присутствии солей в широком диапазоне концентраций – от физиологических значений до эквивалентных таковым в морской воде, при которых существенно снижается активность большинства известных катионных пептидов, включая кателицидин человека LL-37.
Выделение новых пептидов и белков из природных источников на сегодняшний день остается трудоемкой и времязатратной технологией. Очевидно, что более эффективный подход к поиску новых АМП – биоинформатический анализ баз данных и предсказание in silico потенциальных антимикробных соединений с последующим скринингом их биологической активности. В настоящее время все больше научных групп прибегает к методике поиска новых АМП и бактериоцинов с использованием баз данных нуклеотидных последовательностей геномов и транскриптомов [9, 10]. Ранее, при изучении структуры белков-предшественников ареницинов из пескожила Arenicola marina, нами был обнаружен так называемый BRICHOS-домен (~100 а.о.), встречающийся у различных животных, включая человека [7, 11]. Появляется все больше новых данных в пользу того, что BRICHOS-домен выступает в качестве молекулярного шаперона при биосинтезе сравнительно гидрофобных и амфифильных молекул [12]. Полученные недавно результаты позволили высказать предположение, что BRICHOS-домен может участвовать в биосинтезе АМП различных структурных классов у полихет аналогично кателин-подобному домену у позвоночных [8, 13]. Гомология аминокислотных последовательностей среди BRICHOS-доменов белков из различных биологических видов невысока (особенно по сравнению с консервативностью кателин-подобного домена), однако наличие двух консервативных участков в структуре позволяет проводить поиск последовательностей, кодирующих BRICHOS-содержащие белки, в транскриптомах животных. С использованием данного подхода нами была обнаружена панель новых β-шпилечных ареницин-подобных АМП в транскриптомах целого ряда полихет, включая A. marina [10], а также идентифицированы новые структурные семейства АМП у полихеты Heteromastus [14].
Самое распространенное суждение о механизме действия АМП основано на способности большинства из них нарушать целостность цитоплазматической мембраны и вызывать гибель клеток-мишеней. Однако следует учесть тот факт, что некоторые АМП полностью лишены мембранотропных свойств. В последние годы появляется все больше сведений о внутриклеточных мишенях АМП (например, о рибосоме [15]), а также о различных молекулярных мишенях на поверхности клеток (например, жизненно важных белках внешней мембраны грамотрицательных бактерий [16] и структурных компонентах клеточной стенки грамположительных бактерий [17]), что дополнительно снижает риск возникновения устойчивости к этим соединениям. Значительным терапевтическим потенциалом в качестве антибиотиков для системного применения обладают стабилизированные тремя или четырьмя дисульфидными связями и устойчивые к протеолизу дефенсин-подобные АМП, которые связываются со структурными элементами клеточной стенки бактерий, в частности с липидом II. Ранее такая способность была показана для α- и β-дефенсинов человека, дефенсинов семейства Cg-Def тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas и плектазина гриба Pseudoplectania nigrella [17]. Цель данной работы – биотехнологическое получение нового дефенсин-подобного антимикробного пептида AmBRI-44a из морской полихеты A. marina методом гетерологической экспрессии в клетках Escherichia coli, исследование его биологической активности и механизма антибактериального действия.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Биоинформатический поиск BRICHOS-ассоциированных АМП морской полихеты Arenicola marina. Ранее в ходе углубленного исследования экспрессии генов в целомоцитах пескожила A. marina, относящихся к системе врожденного иммунитета животного, были обнаружены новые BRICHOS-содержащие белки с неизвестной функцией, в частности новый цистеин-богатый пептид, названный AmIMP2 [18]. В отличие от известных BRICHOS-ассоциированных предшественников АМП, например, препроареницинов [7], белок-предшественник AmIMP2 содержит в своей структуре трансмембранный (якорный) участок, а не сигнальный пептид (рис. 1а). В данной работе был продолжен поиск BRICHOS-ассоциированных АМП полихеты в исследованном нами ранее транскриптоме A. marina, который содержит информацию об экспрессии генов во всех тканях животного (NCBI Accession No SRX1015734). В совокупности, поиск по наличию BRICHOS-домена в базе данных транслированных последовательностей с использованием программы HMMscan [19], а также BLAST-поиск по гомологии последовательности AmIMP2 позволили обнаружить два дополнительных представителя нового семейства цистеин-богатых BRICHOS-ассоциированных пептидов, состоящих из 44 а.о. (в том числе по 8 остатков цистеина) и названных AmBRI-44a и AmBRI-44b (рис. 1б). Данные пептиды близкородственные и отличаются лишь двумя аминокислотными остатками (L39M, S42R). По сравнению с AmIMP2, новые пептиды несут более высокий общий положительный заряд (+3 и +4 соответственно) при нейтральных значениях pH среды – это важная характеристика катионных АМП для проявления ими антимикробной активности. Следует отметить уникальную структуру нового семейства пептидов: поиск в базе данных APD3 по антимикробным пептидам [20] выявил низкую степень гомологии первичной структуры новых пептидов (<40%) с известными АМП, а их ближайшие гомологи с точки зрения расположения остатков цистеина в аминокислотной последовательности – растительные АМП семейства гевеинов, основная мишень которых – плесневые грибы [21].
Рис. 1. Первичная структура новых BRICHOS-ассоциированных пептидов из A. marina. (а) – Структурная организация белков-предшественников новых цистеин-богатых пептидов. TM – трансмембранный (якорный) участок; KR – сайт потенциального процессинга фурин-подобными протеазами (обозначено “ножницами”); АМП – участок, соответствующий зрелому пептиду; (б) – выравнивание аминокислотных последовательностей пептида AmIMP2 [18], новых пептидов AmBRI-44a и AmBRI-44b из A. marina и гевеина из Hevea brasiliensis (UniProt: P02877). Остатки цистеина выделены черным фоном, остатки аргинина и лизина – серым фоном. Остатки аспарагиновой и глутаминовой кислот подчеркнуты. Квадратные скобки показывают порядок замыкания четырех дисульфидных связей.
Биотехнологическое получение нового пептида AmBRI-44a. Для проведения дальнейших структурно-функциональных исследований был выбран новый пептид AmBRI-44a как более близкий по структуре ранее описанному AmIMP2. Учитывая отсутствие данных о характере замыкания четырех дисульфидных связей в структуре новых пептидов, нами был выбран биотехнологический способ его получения в составе гибридного белка с тиоредоксином А в бактериальной системе экспрессии Escherichia coli BL21 (DE3). Тиоредоксин А широко применяется в качестве белка-партнера, обеспечивающего не только снижение потенциальной токсичности получаемого пептида в составе гибридного белка, но и корректный фолдинг, идентичный природному, что было ранее продемонстрировано на примере получения рекомбинантных аналогов целого ряда токсинов и АМП, стабилизированных дисульфидными связями [22]. Таким образом, биосинтез пептида AmBRI-44a проходил в виде гибридного белка, в состав которого входили следующие элементы: 1) восемь остатков гистидина (His-tag) в N-концевой части белка, обеспечивающие возможность его очистки методом аффинной хроматографии; 2) последовательность вышеупомянутого тиоредоксина А с аминокислотной заменой метионина на лейцин (M37L); 3) остаток метионина; 4) последовательность зрелого AmBRI-44a. Финальную очистку целевого рекомбинантного пептида AmBRI-44a после специфического расщепления гибридного белка бромцианом по остатку метионина осуществляли методом обращенно-фазовой ВЭЖХ (ОФ-ВЭЖХ) на полупрепаративной колонке Reprosil-Pur C18-AQ в линейном градиенте ацетонитрила (при повышении концентрации ацетонитрила от 5 до 80% за 60 мин) (рис. 2а).
Рис. 2. Получение рекомбинантного пептида AmBRI-44a и его структурная характеристика. (а) – Хроматограмма очистки пептида AmBRI-44a методом ОФ-ВЭЖХ. Выход пептида детектировали по изменению оптического поглощения при длинах волн 214 нм (серая линия) и 280 нм (черная линия). Звездочкой на хроматограмме отмечена фракция, содержащая целевой пептид; (б) – MALDI-масс-спектрометрический анализ фракции ОФ-ВЭЖХ, соответствующей целевому пептиду; (в) – спектры кругового дихроизма (КД) очищенного рекомбинантного пептида AmBRI-44a в воде и в мицеллах додецилфосфохолина (ДФХ); (г) – анализ вторичной структуры пептида AmBRI-44a с использованием данных КД-спектроскопии и программы CONTINLL [35]; (д) – моделирование пространственной структуры пептида AmBRI-44a было проведено с использованием алгоритма AlphaFold2 (программа ColabFold [36]), визуализация модели получена в программе PyMol. Дисульфидные связи выделены черным цветом; (е) – аминокислотная последовательность пептида AmBRI-44a. Серым цветом выделены оснóвные аминокислотные остатки, подчеркиванием – кислые. Квадратные скобки показывают возможный характер замыкания дисульфидных связей (в соответствии с предсказанной моделью пространственной структуры пептида).
Анализ структуры полученного пептида AmBRI-44a. Анализ основной фракции элюата проводили методом MALDI-масс-спектрометрии (рис. 2б). Экспериментальное значение m/z моноизотопного иона (5102.919) соответствовало расчетному значению молекулярной массы протонированного иона целевого пептида ([M + H]+ 5103.17 Да) и указывало на образование четырех дисульфидных связей (–8 Да). Выход рекомбинантного пептида AmBRI-44a составлял не менее 6 мг с 1 л бактериальной культуры.
Дальнейший анализ структуры пептида AmBRI-44a осуществляли с помощью спектроскопии кругового дихроизма (КД) (рис. 2в). Спектры регистрировали в воде, а также в мицеллах додецилфосфохолина (ДФХ) – классической имитирующей мембрану среде, используемой при исследовании катионных АМП [23]. КД-спектр AmBRI-44a в воде характеризуется наличием выраженного минимума при 195 нм, перегиба при 200–205 нм и максимума при 225 нм. Существенные отличия формы спектра гевеин-подобных пептидов в водных буферах (наличие максимума при 220 нм и минимума при 200 нм [24]) указывают на принципиально иную структуру AmBRI-44a, несмотря на схожее расположение остатков цистеина в последовательности. Присутствие мицелл ДФХ приводит к изменению конформации пептида AmBRI-44a и появлению двух выраженных минимумов при 195 и 210 нм. Несмотря на видимые отличия форм спектров, анализ полученных данных с помощью программы CONTINLL указывает на в целом схожее соотношение различных типов вторичной структуры с преобладанием β-тяжей и поворотов, а также с отсутствием α-спиральных элементов (рис. 2г), характерных для гевеинов [21]. Интересно отметить, что полученные результаты хорошо согласуются с данными моделирования пространственной структуры AmBRI-44a de novo с использованием алгоритма AlphaFold2 (рис. 2д). Для полученной модели характерно наличие центрального элемента структуры – β-шпильки (остатки 20–36), стабилизированной дисульфидной связью (Cys23–Cys33) и типичным структурным элементом β-изгиба (Asn28–Gly29). О характере замыкания дисульфидных связей в AmBRI-44a на данный момент позволяют судить лишь данные моделирования (рис. 2е). Таким образом, мы предполагаем, что AmBRI-44a – преимущественно β-структурный пептид с уникальной пространственной организацией, которая ранее не была описана в литературе для известных АМП.
Антимикробная активность, селективность действия и цитотоксичность пептида AmBRI44a. На следующем этапе исследовали антимикробную активность пептида AmBRI-44a в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных штаммов бактерий и дрожжеподобных грибов (рис. 3а), а также его потенциальное токсическое воздействие на клетки млекопитающих (рис. 3б).
Рис. 3. Биологическая активность рекомбинантного пептида AmBRI-44a. (а) – Антимикробная активность в отношении грамположительных бактерий и дрожжеподобных грибов; (б) – цитотоксичность пептида в отношении клеток человека.
Тестирование антимикробной активности с целью определения минимальных ингибирующих концентраций (МИК) проводили методом двукратных серийных разведений в жидкой питательной среде в соответствии с нормативами микробиологических стандартов. Скрининг активности AmBRI-44a в отношении широкой панели микроорганизмов (табл. 1) позволил выявить специфическое действие пептида на бактерии родов Bacillus (штаммы B. subtilis B-886, B. licheniformis B-511, B. mycoides B-814) и родственные им Mycobacterium (M. phlei Ac-1291). Активность в отношении штамма грамположительных бактерий Micrococcus luteus B-1314 была показана лишь в среде с пониженной ионной силой, что указывает на роль электростатического отталкивания при взаимодействии пептида к клеткой-мишенью. Стоит отметить, что для исследуемого пептида не были установлены значения ингибирующих концентраций (МИК > 32 мкМ) в отношении панели штаммов грамотрицательных бактерий, таких как E. coli ML-35p, E. coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa PAO1, Klebsiella pneumonia ATCC 700603, Acinetobacter baumannii XDR CI 2675, Enterobacter cloacae XDR CI 4172, Vibrio harveyi BB120, а также грамположительных бактерий, таких как Staphylococcus aureus ATCC 6538P, S. aureus ATCC 29213, S. aureus MDR CI 119, Enterococcus faecalis ATCC 29212 и M. smegmatis mc(2)155.
Таблица 1. Использованные штаммы микроорганизмов
Микроорганизм | Характеристика (источник, устойчивость к антибиотикам) |
Бактерии | |
Escherichia coli DH10B | Штамм для клонирования (Invitrogen, США) |
Escherichia coli BL21(DE3) | Штамм для экспрессии (Novagen, США) |
Escherichia coli ML-35p | Лабораторный штамм (ATCC 43827) |
Escherichia coli | Лабораторный штамм (ATCC 25922) |
Enterobacter cloacae CI 4172 | Клинический изолят (XDR) |
Acinetobacter baumanii CI 2675 | Клинический изолят (XDR) |
Klebsiella pneumoniae | Лабораторный штамм (ATCC 700603) |
Pseudomonas aeruginosa PAO1 | Лабораторный штамм (ATCC 15692) |
Vibrio harveyi BB120 | Лабораторный штамм (ATCC BAA-1116) |
Bacillus subtilis | Лабораторный штамм (VKM B-886) |
Bacillus licheniformis | Лабораторный штамм (VKM B-511) |
Bacillus mycoides | Лабораторный штамм (VKM B-814) |
Staphylococcus aureus | Лабораторный штамм (ATCC 29213) |
Staphylococcus aureus | Лабораторный штамм (ATCC 6538P) |
Staphylococcus aureus Cl 119 | Клинический изолят (MDR) |
Enterococcus faecalis | Лабораторный штамм (ATCC 29212) |
Mycobacterium smegmatis mc(2)155 | Лабораторный штамм (ATCC 700084D-5) |
Mycobacterium phlei | Лабораторный штамм (VKM Ac-1291) |
Micrococcus luteus | Лабораторный штамм (VKM B-1314) |
Дрожжи | |
Candida albicans | Лабораторный штамм (ATCC 18804) |
Candida albicans | Лабораторный штамм (ATCC 10231) |
Примечание: ATCC – Американская коллекция типовых культур (American Type Culture Collection); VKM – Всероссийская коллекция микроорганизмов (All-Russian Collection of Microorganisms); XDR – штамм с экстремальной лекарственной устойчивостью; MDR – штамм с множественной лекарственной устойчивостью.
Также была показана антимикробная активность в отношении дрожжеподобных грибов Candida albicans, однако сравнительно высокие значения МИК (16 мкМ) свидетельствуют скорее в пользу неспецифического действия на мембраны данных эукариотических клеток. Подобный характер селективного действия в отношении ряда грамположительных бактерий при наличии неспецифической умеренной активности в отношении различных эукариотических клеток, включая дрожжеподобные и плесневые грибы, был ранее показан для ряда дефенсин-подобных пептидов животного происхождения [25].
Отсутствие селективности действия в отношении микробных клеток – один из существенных недостатков многих катионных АМП, действующих на мембраны любого состава. Наличие токсических свойств AmBRI-44a оценивали в отношении свежевыделенных эритроцитов здорового донора (hRBC) и стандартной линии трансформированных эмбриональных клеток почки человека (HEK293T). Было показано, что AmBRI-44a обладает умеренной гемолитической активностью лишь при концентрации >64 мкМ, что также сопровождается агглютинацией эритроцитов. Вместе с тем пептид AmBRI-44a не оказывал повреждающего действия на клетки HEK293T даже при концентрации 64 мкМ. Было высказано предположение, что активность пептида ингибируется в присутствии фетальной бычьей сыворотки (ФБС) в культуральной среде, что ранее было показано для ряда АМП [10]. Дополнительный анализ активности AmBRI-44a в отношении чувствительного к нему тест-штамма бактерии B. licheniformis B-511 в среде Мюллера–Хинтон (MHB), содержащей 5% ФБС, показал сохранение активности (МИК ~1 мкМ). Таким образом, можно сделать вывод о наличии умеренного цитотоксического действия AmBRI-44a в отношении клеток млекопитающих, которое проявляется лишь в концентрациях, на два порядка превышающих значения МИК в отношении наиболее чувствительных бактерий.
Механизм действия пептида AmBRI-44a. Индукция бактериальной устойчивости к пептиду AmBRI-44a. Подобный избирательный и не связанный с нарушением целостности мембран характер действия AmBRI-44a позволяет предположить наличие специфической мишени на поверхности некоторых видов грамположительных бактерий, в первую очередь, относящихся к роду Bacillus. С целью обнаружения потенциальной мишени для AmBRI-44a был проведен 30-суточный эксперимент по селекции устойчивого штамма бактерий B. licheniformis B-511 методом последовательных ежедневных пересевов (пассажей) клеточной культуры с использованием 96-луночных планшетов в жидкой среде Мюллера–Хинтон, содержащей исследуемые антимикробные препараты в концентрациях, полученных при двукратных серийных разведениях. Данный метод позволяет контролировать изменение МИК тестируемых препаратов при каждом пересеве (рис. 4а). В результате был получен устойчивый к пептиду AmBRI-44a штамм B. licheniformis (RES) и показано увеличение МИК в 16 раз после 27 пассажей. Полученный штамм, культивируемый в среде без селектирующего давления (в отсутствие АМП) в течение 3 сут, не восстанавливал чувствительность к данному пептиду (итоговое увеличение МИК в 8 раз), что свидетельствует о появлении стабильной бактериальной устойчивости и о наличии соответствующих мутаций в геномной ДНК. Важно отметить, что для АМП, действие которых преимущественно связано с нарушением мембран бактериальной клетки независимо от способа действия (детергент-подобный механизм, модель “тороидальной поры” или иной механизм), как правило, не удается отобрать штаммы со стабильной устойчивостью ввиду существенной затратности такой адаптации для физиологии клетки. В случае со штаммом, устойчивым к пептиду AmBRI-44a, не наблюдалось значимых отличий в скорости роста бактериальной культуры, однако существенные отличия были обнаружены в форме колоний: в отличие от природного фенотипа, для которого характерна неправильная “лишайникообразная” форма с обилием волосовидных выростов, у устойчивого штамма наблюдалась нетипичная для B. licheniformis исключительно круглая форма колоний без каких-либо выростов.
Рис. 4. Предполагаемый механизм антибактериального действия пептида AmBRI-44a. (а) – Индукция устойчивости бактерий Bacillus licheniformis B-511 к пептиду AmBRI-44a (начальное значение МИК 0.25 мкМ). После 27 сут последовательных пассажей в присутствии пептида AmBRI-44a бактериальную культуру, способную расти при максимальной концентрации АМП, пересевали на агаризованной среде MHB в течение 3 сут, после чего определяли итоговое значение МИК; (б) – структурная организация сенсорной гистидинкиназы WalK бактерий B. licheniformis, которая состоит из пяти доменов: PAS* (PER-ARNT-SIM sensor) – внеклеточный сенсорный домен; HAMP-домен белка WalK (аббревиатура отражает присутствие домена в следующих белках: Histidine kinases, Adenylyl cyclases, Methyl-accepting chemotaxis proteins, Phosphatases) – цитоплазматический домен, ответственный за фосфорилирование при передаче сигнала; PAS – цитоплазматический сенсорный домен; HisKA – димеризующийся домен, ответственный за аутофосфорилирование гистидина; HATPase – АТФазный домен гистидинкиназы; (в) – выравнивание аминокислотных последовательностей HAMP-домена гистидинкиназы WalK для различных бактерий. Обнаруженные ранее остатки, для которых был показан полиморфизм и соответствующий мутантный фенотип устойчивости бактерий S. aureus к ванкомицину (согласно данным [32, 37]), выделены черным цветом. Мутация WalK[R217S], обнаруженная в данном исследовании у B. licheniformis, выделена серым цветом.
Для идентификации генетических изменений в полученном устойчивом штамме B. licheniformis (RES) было проведено его полногеномное секвенирование. Анализ полученных данных позволил выявить полиморфизм – две однонуклеотидные мутации по сравнению со штаммом дикого типа. Первая мутация приводит к аминокислотной замене V375A в малоизученном белке TgpA, для которого анализ с помощью алгоритма SMART [26] указывает на локализацию в цитоплазматической мембране и наличие домена с активностью трансглутаминазы. BLAST-анализ в геномных базах данных показал, что данный полиморфизм характерен для многих природных штаммов B. licheniformis. Таким образом, влияние данной мутации на устойчивость к AmBRI-44a хотя и не исключено, но едва ли играет ключевую роль. Вторая обнаруженная нами мутация в устойчивом штамме B. licheniformis (RES) приводит к аминокислотной замене R217S в жизненно важном для бацилл белке WalK [27] – гистидинкиназе двухкомпонентной системы (TCS) WalK/WalR (рис. 4б), регулирующей биосинтез клеточной стенки многих грамположительных бактерий, в частности стафилококков и бацилл [28]. Ряд исследований показал, что система WalK/WalR регулирует метаболизм клеточной стенки во время роста клеток, воспринимая в качестве сигнала появление продуктов гидролиза пептидогликана, в частности дипептида D-Ala-D-Ala – одного из структурных элементов липида II [29]. Таким образом, могут быть рассмотрены две возможные гипотезы механизма действия AmBRI-44a: 1) прямое взаимодействие пептида с белком WalK; 2) взаимодействие с другими мишенями, биосинтез которых регулируется белком WalK, в первую очередь, с компонентами клеточной стенки. В литературе ранее был описан ряд природных антибиотиков, напрямую действующих на гистидинкиназу WalK. Так, было показано, что валдиомицин и сигнермицин В, продуцируемые бактериями рода Streptomyces, способны связываться с доменом HisKA (рис. 4б) [30, 31]. В отличие от упомянутых сравнительно небольших антибиотиков, пептид AmBRI-44a, имеющий молекулярную массу >5 кДа, не может проникнуть через мембрану без нарушения ее структуры. Кроме того, учитывая субмикромолярное значение МИК пептида в отношении B. licheniformis, маловероятным представляется механизм, сопряженный с прямым взаимодействием AmBRI-44a с цитоплазматическим доменом HAMP.
Интересно отметить сразу несколько мутаций, выявленных ранее в HAMP-домене белка WalK у S. aureus, которые были ассоциированы со сниженной чувствительностью у бактерий к ванкомицину (рис. 4в). Мутации в данном домене также приводят к утолщению клеточной стенки и снижению аутолитической активности [32, 33], причем сходные фенотипические изменения – результат гиперэкспрессии генов walK и walR. Поскольку при селекции устойчивости грамположительных бактерий к различным ингибиторам биосинтеза клеточной стенки зачастую возникает мутация в гене walK, на следующем этапе мы решили проанализировать эффекты перекрестной устойчивости полученного штамма B. licheniformis (RES) к различным антибиотикам, преимущественно нацеленным на грамположительные бактерии, а также к АМП (α-спиральный линейный кателицидин человека LL-37 и β-шпилечный тахиплезин-1 из мечехвоста Tachypleus tridentatus), действие которых связано с нарушением целостности мембран бактерий (табл. 1).
Как и предполагалось, перекрестная устойчивость (увеличение МИК в 4 раза, выделено полужирным шрифтом в табл. 2) была обнаружена только к ванкомицину и низину, действие которых реализуется посредством связывания с липидом II. Стоит отметить, что механизм действия ванкомицина и низина несколько отличается: ванкомицин препятствует росту клеточной стенки путем связывания с C-концевым мотивом D-Ala-D-Ala липида II, в то время как низин связывается с пирофосфатным фрагментом липида II с последующим формированием поры в мембране [17]. Таким образом, обнаруженная нами мутация в домене HAMP, ассоциированная со снижением чувствительности к АМП, ванкомицину и низину, – это первый описанный в литературе случай для бактерий рода Bacillus, а полученные данные указывают на предположительный механизм действия пептида AmBRI-44a, заключающийся в ингибировании биосинтеза клеточной стенки.
Таблица 2. Анализ эффектов перекрестной устойчивости отобранного штамма B. licheniformis B-511 к конвенциальным антибиотикам и различным АМП
Антимикробный агент | Минимальная ингибирующая концентрация (МИК), мкМ | |
WT | RES | |
Пептид AmBRI-44a | 0.25 | 2 |
Кателицидин LL-37 | 1 | 1 |
Тахиплезин-1 | 0.125 | 0.063 |
Низин | 0.063 | 0.25 |
Ванкомицин | 0.25 | 1 |
Рифампицин | 2 | 4 |
Тетрациклин | 1 | 0.5 |
Гентамицин | 0.125 | 0.125 |
Примечание: WT – B. licheniformis B-511 дикого типа; RES – полученный штамм B. licheniformis B-511, устойчивый к пептиду AmBRI-44a. Полужирным шрифтом выделены значения МИК устойчивого к пептиду AmBRI-44a штамма B. licheniformis B-511, в 4 раза превосходящие значения МИК штамма B. licheniformis B-511 дикого типа.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Получение рекомбинантного пептида AmBRI-44a. На начальном этапе с учетом данных о частоте встречаемости кодонов у E. coli были сконструированы праймеры для синтеза и амплификации последовательности, кодирующей исследуемый АМП. Перед последовательностью, кодирующей АМП, был предусмотрен метиониновый кодон ATG, после нее – стоп-кодон TAA. Последовательности всех праймеров были оптимизированы с помощью программы OligoAnalyzer (IDT, http://www.idtdna.com) для снижения вероятности образования вторичных структур (шпилек) и димеров в ходе синтеза. Последовательность, кодирующую исследуемый АМП, получали путем медленного отжига 3′-концов (по 20 нуклеотидов) двух праймеров, соответствующих N- и С-концевым областям пептида AmBRI-44a, с последующей достройкой до двуцепочечной структуры. Полученный фрагмент ДНК обрабатывали эндонуклеазами рестрикции BglII и EcoRI (Thermo Scientific, США) для образования липких концов. После очистки линеаризованного экспрессионного вектора (плазмиды на основе вектора pET [23]) проводили лигазную реакцию с собранным фрагментом ДНК. Полученной реакционной смесью трансформировали клетки E. coli DH10B методом теплового шока. Отбор клонов, содержащих требуемую вставку, осуществляли методом ПЦР с помощью термостабильной Taq ДНК-полимеразы (Евроген, Россия). Амплификацию вставки проводили на программируемом амплификаторе Терцик (ДНК-Технология, Россия) с использованием обратного праймера T7 Reverse, комплементарного сайту терминации транскрипции, и прямого праймера (5′-GGTCCGTGCAAACTGATCGCCCCGA-3′), комплементарного участку гена, кодирующего тиоредоксин А. Температурный режим реакции: 95°С – 10 мин (1 цикл); далее 94°С – 30 с, 50°С – 40 с, 72°С – 30 с (25 циклов). Правильность сборки промежуточной и целевой конструкции подтверждали методом секвенирования очищенной плазмидной ДНК по Сэнгеру.
Рекомбинантный пептид экспрессировали в клетках E. coli BL21 (DE3) в составе гибридного белка, содержащего His-метку, тиоредоксин A с заменой M37L, остаток метионина и последовательность AmBRI-44a. Клетки, трансформированные соответствующей плазмидной конструкцией, выращивали в лизогенной среде LB с добавлением 20 мМ глюкозы, 1 мМ MgSO4 и 100 мкг/мл ампициллина, при 37°C до оптической плотности OD600 0.8–1.0. Экспрессию гена индуцировали добавлением 0.2 мМ изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида (IPTG), и культуру инкубировали в течение 4–5 ч при 30°C и интенсивном перемешивании. После этого культуральную жидкость осаждали центрифугированием и подвергали ультразвуковому лизису в буфере, содержащем 100 мМ NaH2PO4, 6 М гуанидин-HCl и 20 мМ имидазола (pH 7.8). Осветленный лизат очищали с помощью металл-хелатной хроматографии на Ni-NTA Sepharose (GE Healthcare, США). Гибридный белок элюировали буфером, содержащим 100 мМ NaH2PO4, 6 М гуанидин-HCl и 0.5 М имидазола (pH 7.8). Для получения целевого пептида собранную фракцию титровали концентрированной соляной кислотой (до pH 1.0–2.0) и добавляли 100-кратный молярный избыток бромциана. После 18 ч инкубации в темноте при 25°С реакцию останавливали добавлением трехкратного объема воды и упариванием образца на вакуумной центрифуге при 37°С. Продукты реакции расщепления разделяли с помощью обращенно-фазовой ВЭЖХ (ОФ-ВЭЖХ) на полупрепаративной колонке ReproSil-Pur 120 C18-AQ (10 × 250 мм, размер частиц 5 мкм, Dr. Maisch GmbH, Германия) при скорости потока 2 мл/мин в линейном градиенте водного раствора ацетонитрила, содержащего 0.1% ТФУ. Элюцию пептида детектировали при 214 и 280 нм, фракции собирали и анализировали с помощью масс-спектрометра Reflex III (Bruker Daltonics, Германия). Фракцию, соответствующую молекулярной массе целевого пептида AmBRI-44a, высушивали на вакуумном концентраторе SpeedVac (Savant, США) и растворяли в воде. Концентрацию пептида оценивали с помощью спектрофотометра (Implen, Германия) по поглощению при 280 нм.
Анализ вторичной структуры пептида AmBRI-44a методом спектроскопии кругового дихроизма. Вторичную структуру пептида AmBRI-44a исследовали в тридистиллированной воде или 30 мМ растворе додецилфосфохолина (ДФХ) методом спектроскопии кругового дихроизма (КД). Анализ проводили в Центре коллективного пользования ИБХ РАН на спектрополяриметре J-810 (Jasco, Япония). Спектры измеряли в диапазоне 190–250 нм в кювете с длиной оптического пути 0.01 см. Усредненные данные четырех измерений для каждого образца анализировали с помощью программы CONTINLL (пакет CDPro, https://lama r.colostate.edu/~sreeram/CDPro/).
Анализ антибактериальной активности пептида AmBRI-44a. Антибактериальную активность пептида AmBRI-44a оценивали методом двукратных серийных разведений в стерильных 96-луночных плоскодонных полистироловых микропланшетах (Eppendorf #0030730011) в среде Мюллера–Хинтон (MHB; Sigma, США) в присутствии или в отсутствие 0.9% NaCl. Бактериальные культуры (табл. 1) выращивали в среде LB до достижения культурой оптической плотности ОD600 1.0 при 37°С, после чего разбавляли двукратной тест-средой (2× МНВ ± 1.8% NaCl) до конечной концентрации клеток 106 КОЕ/мл. Аликвоты тест-культур объемом 50 мкл добавляли к 50 мкл водного раствора пептида AmBRI-44a, предварительно растворенного в 0.1%ном стерильном бычьем сывороточном альбумине (БСА) для снижения его неспецифического связывания с поверхностью планшетов. Планшеты инкубировали в течение 24 ч при 37°С и 950 об/мин на планшетном микрошейкере. Значения минимальных ингибирующих концентраций (МИК) определяли с помощью спектрофотометра (Implen, Германия) как минимальные концентрации пептида AmBRI-44a, при которых не происходит рост культуры, и рассчитывали как медиану значений, полученных в ходе трех независимых экспериментов.
Анализ противогрибковой активности пептида AmBRI-44a. Противогрибковую активность пептида AmBRI-44a оценивали методом двукратных серийных разведений в стерильных 96-луночных микропланшетах. Культуры дрожжеподобных грибов C. albicans (табл. 1) выращивали на стерильных чашках Петри с модифицированным агаром YPD (дрожжевой экстракт 5 г/л, пептон 10 г/л, глюкоза 10 г/л) в течение 48 ч при 37°C, после чего культивировали в модифицированном бульоне YPD при 37°C до достижения оптической плотности 1.0 при длине волны 570 нм. Суспензию дрожжевых клеток разводили стандартной средой RPMI до конечной концентрации 5 × 104 КОЕ/мл и смешивали с равными объемами водного раствора пептида AmBRI-44a. Планшет инкубировали при 30°C в течение 24 ч. Рост дрожжей оценивали визуально с помощью микроскопа СХ31 (Olympus, Германия), а также путем измерения оптической плотности культуры в лунках при 570 нм. Значения МИК определяли как минимальные концентрации пептида AmBRI-44a, при которых не происходит роста культуры, и рассчитывали как медиану значений, полученных в ходе двух независимых экспериментов.
Анализ гемолитической активности и цитотоксичности пептида AmBRI-44a. Способность АМП нарушать целостность эукариотических мембран оценивали в отношении эритроцитов здорового донора (hRBC) и трансформированных эмбриональных клеток почки человека (HEK293T), полученных из Института цитологии РАН.
К отобранной крови здорового донора для предотвращения свертывания добавляли цитратный буфер. В дальнейшем цельную кровь центрифугировали в растворе фиколла 400 и урографина (плотность 1.077 г/мл) в течение 15 мин при 500 g. Фракцию эритроцитов отбирали со дна и трижды промывали двадцатью объемами охлажденного фосфатно-солевого буфера (PBS, pH 7.4). Для теста в 96-луночном планшете готовили серии двукратных разведений исследуемого пептида от 64 до 2 мкМ (в пересчете на конечную концентрацию в лунке) в 0.1%-ном растворе БСА объемом 50 мкл. После этого к раствору пептида добавляли по 50 мкл 8%-ной суспензии эритроцитов в PBS. Суспензию эритроцитов инкубировали с пептидом AmBRI-44a в течение 1.5 ч при 37°С и 950 об/мин. После инкубации планшет центрифугировали 15 мин при 1000 g для осаждения интактных эритроцитов. Аликвоты супернатанта переносили в новый планшет и измеряли количество высвобождаемого гемоглобина при 405 нм. Суспензию эритроцитов в PBS и 0.1% тритон Х-100 использовали в качестве отрицательного и положительного контроля соответственно.
Гемолитическую активность пептида AmBRI-44a рассчитывали по следующей формуле:
Гемолиз (%) = (OD405 (препарат) – OD405 (отриц. контроль))/ (OD405 (полож. контроль) – OD405 (отриц. контроль)) × 100.
Для оценки цитотоксического действия пептида AmBRI-44a проводили МТТ-тест, основанный на способности дегидрогеназ живых клеток восстанавливать желтый реагент МТТ (бромид 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолия) до нерастворимого в воде фиолетового кристаллического формазана. Клетки высаживали на 96-луночный планшет по 104 клеток на лунку в модифицированной среде DMEM/F12 с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки (ФБС) и помещали в СО2-инкубатор (5% СО2, 37°С). После инкубации в течение 24 ч культуральную жидкость заменяли свежей средой, в которой предварительно растворяли тестируемый пептид AmBRI-44a. После 16 ч инкубации с пептидом в каждую лунку добавляли по 20 мкл раствора МТТ (5 мг/мл) и инкубировали в течение 4 ч. Среду осторожно удаляли и добавляли в каждую лунку по 100 мкл смеси DMSO и этанола (1 : 1) для растворения кристаллов формазана. Оптическую плотность растворов измеряли при 570 нм с помощью микропланшетного ридера AF2200 (Eppendorf, Германия). Оптическую плотность раствора клеток без добавления пептидов принимали за 100% жизнеспособных клеток.
Экспериментальная индукция бактериальной устойчивости к пептиду AmBRI-44a. Возникновение устойчивости в отношении AmBRI44a изучали методом последовательных пересевов бактериальной культуры B. licheniformis B-511 с использованием 96-луночных планшетов в жидкой среде Мюллера–Хинтон, содержащей исследуемый антимикробный пептид в концентрациях, полученных при двукратных серийных разведениях. Для приготовления стартового инокулята использовали чистую суточную культуру исследуемого штамма, выращенную на агаризованной питательной среде. При помощи бактериальной петли отбирали несколько отдельных колоний и инокулировали в пробирку объемом 15 мл, содержащую 6 мл жидкой питательной среды MHB. Пробирку инкубировали при 37°С и постоянном перемешивании со скоростью 220 об/мин в течение 20 ч до достижения культурой стационарной фазы роста. Культуру разбавляли в 500 раз свежей двукратной средой MHB, после чего аликвоты полученной бактериальной суспензии объемом 50 мкл добавляли к 50 мкл раствора пептида AmBRI-44a, серийно разведенного в 0.1% БСА в 96-луночном микропланшете (Eppendorf #0030730011). Планшет инкубировали при 37°C и интенсивном перемешивании со скоростью 950 об/мин в течение 22 ± 2 ч. Значения МИК определяли как наименьшую концентрацию тестируемого пептида AmBRI-44a, при которой отсутствует видимый рост бактерий. Далее ежедневно из лунки, содержащей пептид AmBRI-44a в субингибирующей концентрации, максимально близкой к МИК, отбирали 2 мкл бактериальной суспензии и разбавляли 1 мл свежей двукратной среды MHB. Полученную суспензию добавляли аликвотами по 50 мкл в другой планшет к 50 мкл раствора тестируемого пептида, серийно разведенного в концентрациях от 0.25× до 16× текущих значений МИК. Пассажи повторяли в течение 27 сут, после чего производили три последовательных пересева полученного штамма на плотной среде Мюллера–Хинтон без добавления пептида AmBRI-44a.
Анализ генетических полиморфизмов штамма бактерий B. licheniformis устойчивого к пептиду AmBRI-44a. Секвенирование геномной ДНК штаммов B. licheniformis B-511, устойчивого к пептиду AmBRI-44a, а также контрольного штамма дикого типа было проведено компанией ООО “Биоспарк” (Троицк, Россия) на платформе Illumina MiSeq (США). Качество полученных парноконцевых прочтений (100 × 2) оценивали при помощи программы FastQC (https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/). Прочтения с низким качеством, а также прочтения, содержащие последовательности адаптеров, отфильтровывали при помощи программы Trimmomatic (https://www.usadellab.org/cms/?page=trimmomatic), после чего проводили повторный контроль качества. Сборку генома контрольного штамма производили программой SPAdes (https://cab.spbu.ru/software/spades/) с использованием парных и непарных прочтений высокого качества. Качество сборки оценивали при помощи программы QUAST (https://bioinf.spbau.ru/quast). Структурную аннотацию генома контрольного штамма производили в программе Prokka (https://github.com/kbaseapps/ProkkaAnnotation). Для получения выравниваний прочтений ДНК устойчивого штамма на сборку генома контрольного штамма, а также для работы с данными выравниваниями использовали наборы инструментов BWA (https://bio-bwa.sourceforge.net) и SAMtools (https://samtools.sourceforge.net). Информацию о полиморфизмах штаммов получали при помощи программы VarScan (https://varscan.sourceforge.net/), полиморфизмы с долей в покрытии >0.9 рассматривали в качестве истинных.
Анализ перекрестной устойчивости отобранного штамма B. licheniformis к конвенциальным антибиотикам и различным АМП. Эффекты перекрестной устойчивости отобранного штамма B. licheniformis B-511 к различным антимикробным агентам были определены методом двукратных серийных разведений в стерильных 96-луночных плоскодонных полистироловых микропланшетах (Eppendorf #0030730011) в среде Мюллера–Хинтон (MHB; Sigma, США) в отсутствие 0.9% NaCl, как описано выше. Кателицидин LL-37 был получен методом твердофазного синтеза и любезно предоставлен М.Н. Жмаком (чистота> 98 %); тахиплезин-1 был получен биотехнологическим способом методом гетерологической экспрессии в бактериальной системе E. coli; низин (Sigma, США); ванкомицин (AppliChem, Германия); рифампицин (Sigma, США); тетрациклин (Sigma, США); гентамицин (AppliChem, Германия).
Статистический анализ данных. Все данные были получены не менее чем в двух независимых экспериментах не менее чем в двух повторностях и приведены с учетом стандартного отклонения. Статистический анализ проводили с использованием программного обеспечения Graphpad Prism 6.0 (GraphPad Software Inc.) и t-критерия Стьюдента, значения p < 0.05 считали статистически значимыми.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе был обнаружен, получен биотехнологическим способом и исследован новый BRICHOS-ассоциированный антимикробный пептид AmBRI-44a из пескожила Arenicola marina, представляющий не выявленное ранее у полихет структурное семейство дефенсин-подобных пептидов, стабилизированных четырьмя дисульфидными связями. В результате исследования нами была выявлена и изучена специфическая активность пептида AmBRI-44a в отношении бактерий родов Bacillus и Mycobacterium, что представляет значительный интерес с фундаментальной точки зрения. Известно, что бациллы вырабатывают множество антимикробных соединений и входят в состав симбиотической микробиоты ряда морских беспозвоночных [29]. Одной из возможных функций AmBRI-44a и родственных ему пептидов может быть контроль видового состава микробиома, а не борьба с патогенами. Низкий уровень экспрессии гомологичного пептида AmIMP2 [18] может быть связан с особенностями его биосинтеза. Например, не исключен индуцибельный характер биосинтеза AmIMP2 и AmBRI-44a в ответ на наличие клеток-мишеней, что характерно для “узкоспециализированных” защитных пептидов беспозвоночных [1]. С точки зрения возможного механизма действия, селективность пептида в отношении Bacillus и Mycobacterium может быть связана с особой структурой липида II у данных бактерий как потенциальной мишени AmBRI44a: в отличие от большинства других грамположительных бактерий, третий аминокислотный остаток пентапептида у них представлен мезодиаминопимелиновой кислотой (мезо-ДАПК, DAP) вместо L-лизина [34].
Полученные результаты открывают дальнейшие пути исследования обнаруженного нового семейства дефенсин-подобных BRICHOS-ассоциированных АМП полихет, в частности особый интерес вызывает проверка гипотезы об их механизме действия, связанном с ингибированием биосинтеза клеточной стенки. Подтверждение этого предположения может быть получено как с использованием биохимических подходов, так и методами молекулярного моделирования и структурной биологии. Не менее важно дальнейшее изучение вопроса о физиологической роли пептида AmBRI-44a и его локализации в организме пескожила A. marina.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-14-00380, https://rscf.ru/project/ 22-14-00380/.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит описания каких-либо исследований с участием людей и использованием животных в качестве объектов.
Кровь, использованная при оценке гемолитической активности пептида, была получена от здорового донора. Информированное согласие было получено в письменной форме.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
ВКЛАД АВТОРОВ
Авторы Т.В.О. и П.В.П. сформулировали концепцию статьи; В.Н.С., И.А.Б., П.В.П., Р.Н.К. и E.И.Ф. выполнили экспериментальную часть работы; В.Н.С., П.В.П., Т.В.О. провели анализ полученных результатов, подготовили рукопись к публикации и осуществили ее редактирование.
Окончательный вариант статьи был утвержден всеми авторами.
About the authors
V. N. Safronova
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: ovch@ibch.ru
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
P. V. Panteleev
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: ovch@ibch.ru
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
R. N. Kruglikov
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: ovch@ibch.ru
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
I. A. Bolosov
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: ovch@ibch.ru
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
E. I. Finkina
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: ovch@ibch.ru
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
T. V. Ovchinnikova
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: ovch@ibch.ru
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
References
- Lazzaro B.P., Zasloff M., Rolff J. // Science. 2020. V. 368. P. eaau5480. https://doi.org/10.1126/science.aau5480
- Guryanova S.V., Ovchinnikova T.V. // Mar. Drugs. 2022. V. 20. P. 549. https://doi.org/10.3390/md20090549
- Guryanova S.V., Balandin S.V., Belogurova-Ovchinnikova O.Yu., Ovchinnikova T.V. // Mar. Drugs. 2023. V. 21. P. 503. https://doi.org/10.3390/md21100503
- Mora C., Tittensor D.P., Adl S., Simpson A.G., Worm B. // PLoS Biol. 2011. V. 9. P. e1001127. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001127
- World Register of Marine Species. www.marinespecies.org
- Panteleev P.V., Tsarev A.V., Safronova V.N., Reznikova O.V., Bolosov I.A., Sychev S.V., Shenkarev Z.O., Ovchinnikova T.V. // Mar. Drugs. 2020. V. 18. P. 620. https://doi.org/10.3390/md18120620
- Ovchinnikova T.V., Aleshina G.M., Balandin S.V., Krasnosdembskaya A.D., Markelov M.L., Frolova E.I., Leonova Y.F., Tagaev A.A., Krasnodembsky E.G., Kokryakov V.N. // FEBS Lett. 2004. V. 577. P. 209–214. https://doi.org/10.1016/j.febslet.2004.10.012
- Panteleev P.V., Tsarev A.V., Bolosov I.A., Paramonov A.S., Marggraf M.B., Sychev S.V., Shenkarev Z.O., Ovchinnikova T.V. // Mar. Drugs. 2018. V. 16. P. 401. https://doi.org/10.3390/md16110401
- Metelev M., Osterman I.A., Ghilarov D., Khabibullina N.F., Yakimov. A., Shabalin K., Utkina I., Travin D.Y., Komarova E.S., Serebryakova M., Artamonova T., Khodorkovskii M., Konevega A.L., Sergiev P.V., Severinov K., Polikanov Y.S. // Nat. Chem. Biol. 2017. V. 13. P. 1129–1136. https://doi.org/10.1038/nchembio.2462
- Safronova V.N., Bolosov I.A., Kruglikov R.N., Korobova O.V., Pereskokova E.S., Borzilov A.I., Panteleev P.V., Ovchinnikova T.V. // Mar. Drugs. 2022. V. 20. P. 517. https://doi.org/10.3390/md20080517
- Presto J., Johansson J. // Springer International Publishing. 2015. P. 1–28. ISBN 978-3-319-16563-9.
- Leppert A., Poska H., Landreh M., Abelein A., Chen G., Johansson J.A. // Protein Sci. 2023. V. 32. P. e4645. https://doi.org/10.1002/pro.4645
- Bruno R., Boidin-Wichlacz C., Melnyk O., Zeppilli D., Landon C., Thomas F., Cambon M.-A., Lafond M., Mabrouk K., Massol F., Hourdez S, Maresca M., Jollivet D., Tasiemski A. // Sci. Total Environ. 2023. V. 879. P. 162875. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162875
- Panteleev P.V., Safronova V.N., Duan, S., Komlev A.S., Bolosov I.A., Kruglikov R.N., Kombarova T.I., Korobova O.V., Pereskokova E.S., Borzilov A.I., Dyachenko I.A., Shamova O.V., Huang Y., Shi Q., Ovchinnikova, T.V. // Mar. Drugs. 2023. V. 21. P. 639. https://doi.org/10.3390/md21120639
- Graf M., Mardirossia M., Nguyen F., Seefeldt A.C., Guichard G., Scocchi M., Innis C.A., Wilson D.N. // Nat. Prod. Rep. 2017. V. 34. P. 702–711. https://doi.org/10.1039/c7np00020k
- Vetterli S.U., Zerbe K., Müller M., Urfer M., Mondal M., Wang, S.-Y., Moehle K., Zerbe O., Vitale A., Pessi G., Eberl L., Wollscheid B., Robinson J.A. // Sci. Adv. 2018. V. 4. P. eaau2634. https://doi.org/10.1126/sciadv.aau2634
- Grein F., Schneide, T., Sahl H.-G. // J. Mol. Biol. 2019. V. 431. P. 3520–3530. https://doi.org/10.1016/j.jmb.2019.05.014
- Stanovova M.V., Gazizova G.R., Gorbushin A.M. // J. Exp. Zoolog. B Mol. Dev. Evol. 2023. V. 340. P. 34–55. https://doi.org/10.1002/jez.b.23135
- Potter S.C., Luciani A., Eddy S.R., Park Y., Lopez R., Finn R.D. // Nucleic Acids Res. 2018. V. 46. P. W200– W204. https://doi.org/10.1093/nar/gky448
- Wang G., Li X., Wang Z. // Nucleic Acids Res. 2016. V. 44. P. D1087–D1093. https://doi.org/10.1093/nar/gkv1278
- Slezina M.P., Odintsova T.I. // Curr. Issues Mol. Biol. 2023. V. 45. P. 3674–3704. https://doi.org/10.3390/cimb45040239
- Shenkarev Z.O., Panteleev P.V., Balandin S.V., Gizatullina A.K., Altukhov D.A., Finkina E.I., Kokryakov V.N., Arseniev A.S., Ovchinnikova T.V. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2012. V. 429. P. 63– 69. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2012.10.092
- Panteleev P.V., Bolosov I.A., Balandin S.V., Ovchinnikova T.V. // J. Pept. Sci. 2015. V. 21. P. 105–113. https://doi.org/10.1002/psc.2732
- Rodríguez-Romero A., Arreguín B., Hernández-Arana A. // Biochim. Biophys. Acta BBA – Protein Struct. Mol. Enzymol. 1989. V. 998. P. 21–24. https://doi.org/10.1016/0167-4838(89)90113-1
- Bruno R., Maresca M., Canaan S., Cavalier J-F., Mabrouk K., Boidin-Wichlacz C., Olleik H., Zeppilli D., Brodin P., Massol F., Jollivet D., Jung S., Tasiemski A. // Mar. Drugs. 2019. V. 17. P. 512. https://doi.org/10.3390/md17090512
- Letunic I., Khedkar S., Bork P. // Nucleic Acids Res. 2021. V. 49. P. D458–D460. https://doi.org/10.1093/nar/gkaa937
- Koo B.-M., Kritikos G., Farelli J.D., Todor H., Tong K., Kimsey H., Wapinski I., Galardini M., Cabal A., Peters J.M., Hachmann A.-B., Rudner D.Z., Allen K.N., Typas A., Gross C.A. // Cell Syst. 2017. V. 4. P. 291– 305.e7. https://doi.org/10.1016/j.cels.2016.12.013
- Dubrac S., Bisicchia P., Devine K.M., Msadek T.A. // Mol. Microbiol. 2008. V. 70. P. 1307–1322. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2008.06483.x
- Blockley A., Elliott D., Roberts A., Sweet M. // Diversity. 2017. V. 9. P. 49. https://doi.org/10.3390/d9040049
- Kato A., Ueda S., Oshima T., Inukai Y., Okajima T., Igarashi M., Eguchi Y., Utsumi R. // J. Gen. Appl. Microbiol. 2017. V. 63. P. 212–221. https://doi.org/10.2323/jgam.2016.10.007
- Watanabe, T., Igarashi M., Okajima T., Ishii E., Kino H., Hatano M., Sawa R., Umekita M., Kimura T., Okamoto S., Eguchi Y., Akamatsu Y., Utsumi R. // Antimicrob. Agents Chemother. 2012. V. 56. P. 3657–3663. https://doi.org/10.1128/AAC.06467-11
- Zhu J., Liu B., Shu X., Sun B. // Int. J. Med. Microbiol. IJMM. 2021. V. 311. P. 151473. https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2021.151473
- Jaumaux F., Petit K., Martin A., Rodriguez-Villalobos H., Vermeersch M., Perez-Morga D., Gabant P. // Antibiotics. 2023. V. 12. P. 947. https://doi.org/10.3390/antibiotics12060947
- Vollmer W., Blanot D. de Pedro M.A. // FEMS Microbiol. Rev. 2008. V. 32. P. 149–167. https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.2007.00094.x
- Provencher S.W., Glöckner J. // Biochemistry. 1981. V. 20. P. 33–37. https://doi.org/10.1021/bi00504a006
- Mirdita M., Schütze K., Moriwaki Y., Heo L., Ovchinnikov S., Steinegger M. // Nat. Methods. 2022. V. 19. P. 679–682. https://doi.org/10.1038/s41592-022-01488-1
- Baseri N., Najar-Peerayeh S., Bakhshi B. // BMC Microbiol. 2021.V. 21. P. 240. https://doi.org/10.1186/s12866-021-02298-9
Supplementary files