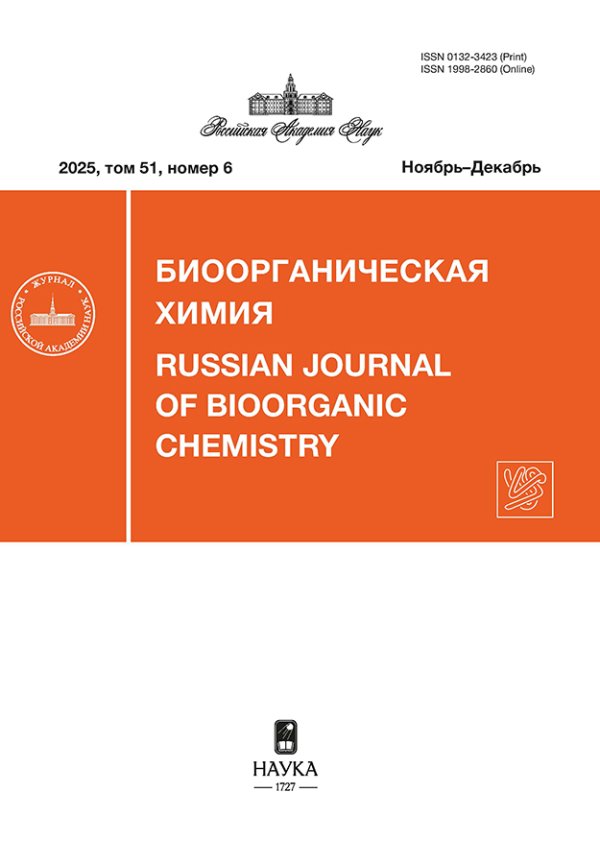Белки теплового шока на поверхности опухолевых клеток как мишени для противоопухолевой терапии
- Авторы: Макарова А.О.1,2, Костенко В.В.1,2, Овсяникова О.В.1,2, Свирщевская Е.В.1, Луценко Г.В.1, Сапожников А.М.1
-
Учреждения:
- ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
- ФГБУО ВО “Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова”
- Выпуск: Том 50, № 3 (2024)
- Страницы: 218-230
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-3423/article/view/261462
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324030027
- EDN: https://elibrary.ru/OAKNVU
- ID: 261462
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Согласно данным ВОЗ, онкологические заболевания являются причиной смерти ~5 миллионов человек ежегодно. На сегодняшний день не существует универсального решения борьбы с раком, несмотря на выдающиеся достижения в области радиотерапии, химиотерапии и иммунотерапии. В связи с этим существует необходимость в разработке новых подходов к противоопухолевой терапии, в частности основанных на поиске и использовании таргетных молекул, позволяющих с высокой эффективностью убивать опухолевые клетки различного типа, не оказывая при этом значительного токсического воздействия на здоровые органы и ткани. В данном обзоре представлены характеристика основных белков семейства белков теплового шока (HSP), особенности их экспрессии в опухолевых клетках и возможности использования моноклональных антител к этим белкам в качестве направляющего вектора для противоопухолевой иммунотерапии.
Полный текст
Сокращения: HSP – белок теплового шока; NK – натуральные киллеры; Treg – T-клетки-регуляторы; IL – интерлейкин; mAb – моноклональные антитела; CD – кластеры дифференцировки; CTLA – белок цитотоксичных Т-клеток 4; HER2 – рецептор эпидермального фактора роста; ФС – фосфатидилсерин; BCMA – фактор созревания В-клеток; NPs – наночастицы; AuNPs – наночастицы золота; ПМП – переменное магнитное поле; PPTT – плазмонная фототермическая терапия; AIF – флавопротеин, белок, активирующий апоптоз; ADD70 (150–228) – пептид AIF, распознающий HSP70; ADCC – антиген-зависимая цитотоксичность.
1. ВВЕДЕНИЕ
Таргетированная терапия рака на основе антител к маркерам, экспонированным преимущественно на мембране опухолевых клеток, имеет ряд преимуществ по сравнению с химиотерапией. Такие антитела могут оказывать прямое цитотоксическое действие, но наиболее перспективным является создание конъюгата или комплекса антитела с лекарственным средством. Структура антитела обеспечивает длительную циркуляцию такой пары в крови, доставляя цитотоксический препарат в опухоль. В настоящее время в США одобрено несколько таких конъюгатов. В частности, для терапии солидных опухолей таргетными молекулами являются рецептор эпидермального фактора роста HER2, рецептор трофобластов trop2, молекула адгезии nectin4 и др. [1]. Для терапии лимфом используют рецепторы, экспрессированные на лимфоидных и других гематологических клетках (CD19, CD22, CD33, CD30, BCMA, CD79b) [2].
Одним из таргетных маркеров солидных опухолей могут быть белки теплового шока (HSP), экспонированные на поверхности плазматической мембраны. Присутствие данных белков-маркеров на поверхности раковых клеток позволяет осуществлять доставку различных противоопухолевых препаратов. Адресная доставка противоопухолевых препаратов по данным мишеням универсальна для многих солидных опухолей, в том числе метастазирующих, и демонстрирует многообещающие результаты в комбинированной терапии.
Целью настоящей работы было обобщение данных по HSP как перспективной мишени для исследований и адресной доставки препаратов при противоопухолевой терапии.
2. ФУНКЦИИ БЕЛКОВ ТЕПЛОВОГО ШОКА
HSP осуществляют функцию молекулярных шаперонов, участвуя в конформационно правильном фолдинге синтезированных de novo белков, их транспортировке, а также в контроле за образованием белковых комплексов, что позволяет поддерживать клеточный протеостаз [3]. Воздействие различных стрессовых факторов (гипоксия, резкие температурные изменения, влияние активных форм кислорода и др.) приводит к денатурации части внутриклеточных белков и к образованию токсичных белковых агрегатов [3–5]. Этим процессам противодействует система внутриклеточных молекулярных шаперонов, состоящая в основном из HSP, которые вовлечены в рефолдинг денатурированных белков и в убиквитин-зависимую протеасомную деградацию поврежденных белков. Для нормальных клеток характерна внутриклеточная локализация HSP. В опухолевых клетках HSP могут транслоцироваться на клеточную поверхность, однако причины и механизмы этого явления пока недостаточно хорошо изучены. Необычная поверхностная локализация HSP обнаружена у целого ряда опухолевых клеток разных типов, что позволяет отнести мембраноассоциированные HSP к опухолеспецифичным маркерам [6]. Наряду с этим зарегистрирована и внеклеточная форма HSP. Эти белки и антитела к ним детектируются в сыворотке крови, моче и других жидкостях организма. Роль мембраноассоциированных и внеклеточных HSP, а также механизмы их транслокации на клеточную поверхность и секреции во внеклеточную среду пока недостаточно ясны, но опухолеспецифичность этого явления привлекает в последние годы внимание исследователей, связанное с возможностью использования HSP для таргетированной доставки химиотерапевтических препаратов к опухолевым клеткам и для противоопухолевой иммунотерапии [7, 8].
HSP принято классифицировать в соответствии с их молекулярной массой. В качестве основных групп выделяют HSP с массой 110, 100, 90, 70, 60, 40 кДа и малые HSP. Механизмы функционирования HSP исследуются давно, но многие аспекты этих процессов остаются не до конца изученными [9–12].
К группе малых молекул HSP относятся белки с массой 12–43 кДа, осуществляющие свои внутриклеточные функции независимо от АТФ. Для выполнения своей шаперонной функции белок образует мультимерные комплексы. Наряду с этим HSP27 вовлечен в организацию цитоскелета и в реализацию программы апоптоза клетки [12]. HSP40 – кошаперон, играющий важную роль в транспорте белков к HSP70 и в регуляции его АТФазной активности. HSP60 – консервативный белок, выполняющий функцию фолдинга белков и контроля транспорта белков в митохондриях. Присутствие HSP60 во внеклеточном пространстве может запускать аутоиммунные реакции и противоопухолевый адаптивный иммунный ответ [10]. HSP70 способствует синтезу и рефолдингу белков, сборке полипептидных цепей, препятствует агрегации белков, участвует в транспортировке и конечной деградации белков [13]. HSP70 связан с сигнальными путями митохондриального апоптоза и апоптоза по рецепторно-зависимому пути [14]. Подобно HSP27 и HSP70, семейство HSP90 ингибирует клеточный апоптоз и играет важную роль в сворачивании, стабилизации, активации и протеолитической деградации белков [9]. Как правило, HSP выполняют шаперонные функции совместно. В частности, функции HSP70 осуществляются при участии HSP40 и HSP10 (рис. 1) [15].
Рис. 1. Механизм рефолдинга белковых структур с помощью HSP70. HSP40 (DnaJ), содержащий J-домен, транспортирует неправильно свернутый белок (субстрат) к HSP70 (1); HSP40 запускает гидролиз АТР и конформационные изменения в структуре HSP70, стабилизируя связи между субстратом и HSP70 (2); фактор обмена нуклеотидов GrpE (HSP10) участвует в нуклеотидном обмене в молекуле HSP70 (3); высвободившийся субстрат либо приходит к своей нативной конформации (решенная конформация) (4), либо его структура оказывается неразрешенной (нерешенная), и, снова связываясь с HSP70, белок отправляется на рефолдинг [15].
HSP70 имеет в своем составе два функциональных домена: нуклеотид-связывающий домен (NBD) на N-концевом сегменте и субстрат-связывающий домен (SBD), располагающийся ближе к С-концу [16]. На С-концевом домене локализована последовательность TKDNNLLGRFELSG (TKD), включающая 450–461 а.о. [17]. Иммунизация мышей пептидом TKD индуцировала образование антител HSP70.1, способных связываться с HSP70 на мембране клеток благодаря достаточно открытому расположению С-конца шаперона на поверхности плазматической мембраны. Таким образом, мембрана опухолевых клеток, несущая HSP70, может служить структурой-мишенью для специфичных антител, способных точечно доставлять терапевтические препараты к раковым клеткам или стимулирующих противоопухолевую активность иммунной системы организма.
3. Белки теплового шока как маркеры опухолей
Уровень экспрессии белков теплового шока может отражать динамику развития опухолевого процесса и имеет характерные особенности для каждого конкретного типа рака (табл. 1). Была выявлена сверхэкспрессия белков семейства HSP40 при многочисленных типах рака человека, в том числе при колоректальном раке, раке желудка и легких [18]. Повышенная экспрессия HSP60 при различных видах рака способна как стимулировать развитие опухоли (рак яичников, глиобластома и др.), так и супрессировать ее (гепатоцеллюлярная карцинома), что говорит о возможности использования этого белка для онкодиагностики и онкотерапии [12]. Сверхэкспрессию HSP70 часто связывают с метастазированием и инвазивностью при плоскоклеточном раке головы и шеи, остром миелоидном лейкозе у детей, раке молочной железы и колоректальном раке. Значительный уровень экспрессии HSP70 может служить опухолеспецифичным маркером высокоагрессивной опухоли [9, 10, 12]. Повышенная экспрессия HSP90 может указывать на неблагоприятный прогноз при различных типах опухолевых заболеваний, например, при холангиокарциноме, глиобластоме, раке легких, желудка, молочной и предстательной желез [9].
Таблица 1. Функции различных классов белков теплового шока (HSP) и возможность их использования в качестве маркеров при некоторых онкологических заболеваниях
Молекулярная масса, кДа | Функции | Повышенная экспрессия при раке | Ссылки |
10 | Восстановление конформации белков до нативной структуры, контроль активности ферментов, участие в запуске ответа на повреждение | Маркер астроцитомы и рака легких, участвует в иммуномодуляции и прогрессировании опухоли | |
27 | Апоптоз, реорганизация клеточной структуры микрофиламентов | Острый миелоидный лейкоз у детей, плоскоклеточный рак головы и шеи, рак молочной железы и колоректальный рак | [10] |
40 | Связывание и транспорт белка, регуляция АТФазной активности HSP70 | Колоректальный рак, рак желудка, рак легких | |
60 | Фолдинг митохондриальных белков, участие в транспорте внутрь органеллы, в случае внеклеточной локализации HSP60 индуцирует врожденный и адаптивный противораковый иммунитет | Повышенная экспрессия данного белка в зависимости от типа заболевания может как стимулировать развитие опухоли (рак яичников, глиобластома и др.), так и супрессировать ее (гепатоцеллюлярная карцинома) | |
70 | Фолдинг белков, поддержание протеостаза при повышенных температурах, поддержание в развернутой форме митохондриальных белков после трансляции | Первичные глиобластомы, плоскоклеточный рак головы и шеи, немелкоклеточный рак, дисплазия полости рта человека, плоскоклеточный рак колоректальный рак, рак желудка, рак поджелудочной железы, остеосаркома, острый миелогенный лейкоз. Сверхэкспрессируется в высокоагрессивных опухолевых клетках и, таким образом, может служить опухолеспецифичным маркером агрессивного течения заболевания и/или устойчивости к терапии | |
90 | Поддержание структуры некоторых рецепторов и факторов транскрипции | Сверхэкспрессия ассоциируется с неблагоприятным прогнозом при множественных опухолях (холангиокарцинома, глиобластома, рак легких, желудка, молочной и предстательной желез и др.) | [9] |
100 | Дезагрегация белка (HSP110 высвобождает ADP из HSP70 после взаимодействия с белком), поддержание протеостаза при повышенных температурах | Может являться маркером рака легких и рака молочной железы | [20–22] |
4. транслокация HSP70 на клеточную поверхность
Транслокация HSP на поверхность опухолевых клеток зарегистрирована при многих типах рака [19–22]. Транслокация HSP, в частности HSP70, на поверхность плазматической мембраны и секреция во внешнюю среду осуществляется за счет альтернативного везикулярного транспорта без участия комплекса Гольджи [23], т.к. добавление монензина или колхицина, ингибиторов общего секреторного пути, к клеткам, подвергшимся тепловому шоку, не ингибирует высвобождение шаперонов [22]. Классический путь секреции белков предполагает наличие определенного пептидного сигнала, однако он не обнаружен у большинства HSP. Ингибитор данного пути, брефелдин А, также не оказывает влияния на высвобождение HSP70 из клеток. По-видимому, кроме высвобождения HSP70 в составе везикул, возможны и другие пути нестандартной белковой секреции, например, с помощью ABC-транспортеров или опосредованно через поры [24]. Однако на высвобождение белка оказывает влияние метил-β-циклодекстрин – препарат, разрушающий липидные микродомены [25]. Глобоилтриаозилцерамид (Gb3), компонент обогащенных холестерином липидных рафтов, локализованных на плазматической мембране, редко встречается на нормальных клетках, однако часто присутствует на опухолевых. Значительно большее количество Gb3 на поверхностях HSP70-положительных раковых линий клеток по сравнению с HSP70-отрицательными отражает факт взаимодействия этого белка с Gb3 на поверхности мембраны [26]. Кроме этого, мембранная форма HSP70, связанная с фосфатидилсерином (ФС) [27], обнаружена на внешней стороне плазматической мембраны раковых клеток, подвергшихся гипоксии. В норме ФС располагается на внутренней стороне мембраны, что поддерживается группой ферментов, таких как АТФ-зависимые флиппазы [28], а также флопазы и кальций-зависимые скремблазы. Однако в условиях стресса ФС одновременно с HSP70 транслоцируется на наружную поверхность клетки [29]. Интересно, что кроме воздействия классических факторов стресса появлению эндогенного HSP70 на внешней плазматической мембране также способствовало введение экзогенного рекомбинантного HSP70 в среду [30]. Вероятно, мембранные HSP70 и введенные экзогенно способны связываться друг с другом за счет белок-белковых взаимодействий [31].
HSP70 способен активировать клетки врожденного и адаптивного иммунитета [6] как находясь во внеклеточном пространстве, так и будучи связанным с мембраной опухолевой клетки [32]. Показано, что HSP70 индуцирует созревание дендритных клеток, экспрессию этими клетками костимуляторных молекул CD40, CD86, CD80 и синтез провоспалительных цитокинов IL-6, TNF-α и IL-12p40, а также повышает способность к представлению антигена Т-клеткам в результате кросс-презентации [33]. Внеклеточный HSP70 значительно повышает уровень экспрессии провоспалительных цитокинов в клетках моноцитов и макрофагов через активацию сигнального пути Toll-подобных рецепторов 2 и 4, а также активирует нейтрофилы и способствует секреции ими активных форм кислорода [34]. Однако существенное число опубликованных работ свидетельствует о противоположном – противовоспалительном действии внеклеточного HSP70 на клетки иммунной системы. В частности, с использованием моноцитарной линии клеток и нейтрофилов человека было продемонстрировано снижение синтеза TNF-α и продукции активных форм кислорода при воздействии на эти клетки липополисахаридом [35, 36]. Таким образом, литературные данные свидетельствуют о возможности разнонаправленного действия внеклеточной формы HSP70 на клетки иммунной системы.
Рядом авторов установлено, что HSP70 вовлечен в процессы опухолеобразования. Было показано, в частности, что высвобождаемый опухолевыми клетками внеклеточный пул этого белка способен подавлять адаптивный иммунный ответ за счет супрессии макрофагального звена [37]. С другой стороны, в литературе есть сведения, показывающие подавление роста глиобластомы крыс при введении экзогенного рекомбинантного HSP70 [38]. Продемонстрировано также, что внеклеточный HSP70 и экспонированный на мембране клеток HSP70 стимулируют противоопухолевую активность NK-клеток, усиливая их миграцию, пролиферацию и цитолитическую активность [39]. Введение ex vivo HSP70 в комбинации с IL-2 приводило к выраженной активации NK-клеток [40]. CD4+- и CD8+-Т-клетки, в свою очередь, тоже способны формировать противоопухолевый ответ под действием HSP70. Введение в раковые клетки путем трансфекции гена, кодирующего HSP70, приводило к активации Т-клеточного иммунитета и подавлению роста опухоли [33]. С другой стороны, HSP70 способны индуцировать поляризацию ассоциированных с опухолью макрофагов с М2- на М1-тип, стимулируя противоопухолевый иммунитет [41]. Кроме того, экспонированный на мембране клеток HSP70 активирует формирование регуляторных Т-клеток (Treg), подавляющих развитие воспаления [42, 43].
5. Направленная доставка препаратов в опухолевые ткани с использованием антител к белкам теплового шока
К настоящему времени доказана высокая эффективность противоопухолевых терапевтических препаратов на основе моноклональных антител (mAb) к специфическим эпитопам, таким как ипилимумаб (mAb к CTLA-4), трастузумаб (mAb к HER2) и ритуксимаб (mAb к CD20). Есть несколько коммерчески доступных mAb к различным эпитопам HSP70, преимущественно к С-концевой части [44], которые можно использовать для направленной доставки лекарств к опухолевым клеткам, экспонирующих этот белок на своей поверхности, для диагностики и терапии опухолей.
В качестве носителя терапевтических препаратов широкое применение нашли наночастицы (NPs), в частности магнитные NPs на основе железа, никеля, кобальта и соответствующих им оксидов (магнетит Fe3O4, гематит a-Fe2O3 и маггемит g-Fe2O3 и B-Fe2O3), которые характеризуются высокой чувствительностью к внешнему магнитному полю. Наибольшей эффективностью обладают суперпарамагнитные NPs, в частности на основе оксида железа SPIONs. За счет своих характеристик они позволяют доставлять лекарства в опухолевые клетки, визуализировать опухоль и метастазы [45]. Покрытие данных частиц моноклональными антителами против HSP70 позволило усилить противоопухолевый эффект в модели глиомы крыс [46]. Содержание комплекса SPIONs–mHSP70.1 внутри опухолевых клеток глиомы С6 у крыс в 7 раз превышало накопление по сравнению со NPs без покрытия. Поглощение клетками NPs, связанных с антителами против HSP70, еще усилилось после воздействия однократного ионизирующего излучения [47].
Усилить противоопухолевый эффект магнитных NPs позволяет комбинированная терапия, использующая дополнительно переменное магнитное поле (ПМП). ПМП способствует нагреванию NPs за счет механизмов релаксации или процессов гистерезиса, что зависит от размера наноструктуры [48]. Данный вид терапии называется ПМП-опосредованная гипертермия; она позволяет с уменьшенными побочными эффектами уничтожать раковые клетки путем их нагрева. Комбинированное лечение с использованием магнитных NPs и последующим их нагреванием за счет ПМП в сочетании с лучевой терапией при лечении пациентов с глиобластомой и раком предстательной железы продемонстрировало перспективность дальнейшего развития данного подхода для борьбы с раком [49, 50].
NPs золота (AuNPs) характеризуются повышенной биосовместимостью и широко используются для доставки терапевтических препаратов в опухоль, диагностики, визуализации, а также фототермической и фотодинамической терапии [46, 51, 52]. Аналогично NPs на основе железа, покрытие золотых NPs антителами против HSP70 (HSP70.1) обеспечивало значительное повышение их поглощения раковыми клетками в сравнении с NPs с изотипическими антителами IgG1 или без покрытия, что было показано как in vitro, так и на модели глиомы крыс in vivo. Данные частицы через 24 ч локализовались в околоядерной области [53].
Если для магнитных NPs было обосновано применение ПМП, то введение AuNPs сочетается с использованием рентгеновского излучения или плазмонной фототермической терапии (PPTT). Показано, что действие рентгеновского излучения на опухолевые клетки с поглощенными AuNPs приводит к увеличению числа разрывов двухцепочечной ДНК за счет образования низкоэнергетических вторичных электронов и к окислительному стрессу [54, 55]. В случае РРТТ лазер с длиной волны, близкой к плазмонной, осуществляет нагрев AuNPs, что приводит к повреждению опухолевых клеток без вреда для окружающих здоровых тканей. Однако в экспериментах на трех линиях эпителиальных раковых клеток (полости рта, молочной железы и печени) было показано, что апоптозу в значительной мере подвержены только клетки со сниженным содержанием HSP70 [56]. При использовании ингибитора HSP70 апоптоз наблюдался во всех трех линиях клеток, что связано с подавлением протективного эффекта шаперона. Таким образом, была продемонстрирована перспективность использования сочетания нацеливания на поверхностные HSP70 опухолевых клеток с ингибированием в этих клетках шаперонной функции данного белка.
Кроме использования полноразмерных mAb к HSP70 широкое применение в области тераностики опухолей нашли молекулы меньшего размера, такие как миниантитела и пептиды, демонстрирующие более короткие периоды циркуляции в крови, быстрый клиренс в организме, благоприятное биораспределение и лучшую способность проникновения в раковые клетки по сравнению с антителами. Функционально обосновано использование синтезированного 14-мерного TKD-пептида, входящего в состав C-домена HSP70 и обеспечивающего эффективное связывание пептида с мембранной формой HSP70 [57]. Мембранный шаперон, в свою очередь, быстро метаболизируется в составе эндосомы, что позволяет TKD локализоваться внутри опухоли. TKD не вызывает иммунного ответа, поскольку является последовательностью эндогенного HSP70 и может безопасно вводиться многократно. Однако есть работы, показывающие, что иммунизация мышей TKD приводит к развитию антителозависимой клеточной цитотоксичности [17, 19].
Отдельные противоопухолевые вещества могут доставляться mAbs антителами не только в составе NPs, но и конъюгированные с лекарственным средством. Например, mAb мыши ML30 к HSP65, конъюгированные с сапорином-6 (белком, инактивирующим рибосомы), практически полностью ингибировали клеточную пролиферацию линий U937 и Daudi, экспрессирующих HSP65 на своей поверхности [58].
Системы направленной доставки препаратов приведены в табл. 2 [59–73]. Антителами можно декорировать липосомы, различные носители на основе биополимеров, NPs различного состава или использовать их в сочетании с химиопрепаратами.
Таблица 2. Системы доставки противоопухолевых препаратов
Системы доставки | Особенности | Примеры использования | Ссылки |
mAb | Воздействуют на клетку, помимо антигенсвязывающего фрагмента имеют лекарственную, токсическую или радиокомпоненту | Многочисленные онкопрепараты, диагностика | [59] |
Липосомы | Обладают высокой способностью проникать сквозь клеточные мембраны и доставлять препараты без потери фармакологических свойств | Свыше 20 препаратов применяется в клинической практике: доксорубицин Doxil/Caelyx для терапии метастатического рака молочной железы; липосомы с mAb к HER2 | [60–62] |
Нановезикулы и наночастицы | Возможность задавать необходимые физико-химические свойства, способные приводить к местному тканевому ацидозу, гипертермии и сдвигу окислительно-восстановительного потенциала | Протестированы препараты с азидотимидином на клетках рака молочной железы, используются технологии молекулярного импринтинга и нанесение магнитного нанослоя Fe3O4 для управления проникновением в опухолевые ткани | [63–65] |
Наночастицы золота | Возможность регулировать форму, размер, электронные, оптические, физико-химические и плазмонные характеристики | Полиакриламидные гибридные наногели, содержащие наночастицы золота, модифицированные метотрексатом, используются в химиотерапии рака молочной железы | [66–68] |
Полимеры | Обладают биологической и функциональной совместимостью и способностью к деградации. Комбинация препарата с полимерами значительно снижает токсическое воздействие на здоровые клетки, поскольку последним тяжелее захватить связанный полимером препарат | Связанный с альбумином паклитаксел (абраксан) был одобрен в США для лечения метастатического рака молочной железы и успешно зарекомендовал себя в клинической практике | [69] |
Нанодендримеры | Полимеры с сильно разветвленной древообразной структурой, обладающие высокой упорядоченностью, поливалентностью, способностью к самосборке, химической стабильностью, низкой цитотоксичностью и растворимостью | Использование в качестве носителей лекарственных средств не привело к заметному прогрессу в клинике, несмотря на масштабное финансирование. Одно из главных ограничений – низкая разлагаемость в физиологической среде, что приводит к серьезным побочным эффектам, вызванным накоплением искусственных макромолекул внутри клеток и в тканях | [70–72] |
Золотые наночастицы, декорированные mAb | Функционализация поверхности частиц биолигандами существенно повышает их таргетные свойства, снижая риск развития побочных эффектов, увеличивая терапевтическую активность | Активно исследуются и проходят клинические испытания, также могут использоваться в диагностике |
Появление HSP70 на мембране выявляется на клетках рака полости рта [74], толстой кишки [75] и ряде других. Нацеливание на мембраноассоциированные HSP70 может обеспечить новую стратегию в иммунотерапии рака. Известно, что количество мембранного HSP70 может составлять до 10% от внутриклеточного пула опухолевой клетки [40]. Появление HSP на мембране клеток означает повышение и внутриклеточного пула этих белков, что напрямую связано с эффективной работой шаперонов в клетках. Подавление шаперонной функции HSP способствует замедлению роста опухолевых клеток и, в ряде случаев, их гибели. В связи с этим одним из направлений противоопухолевой терапии является использование различных молекул, подавляющих протективную активность HSP. В частности, было показано, что нейтрализующий пептид ADD70, содержащий домен фактора, индуцирующего апоптоз и взаимодействующий с HSP70, повышает чувствительность клеток рака толстой кишки крысы и клеток меланомы мыши к апоптозу, индуцируемому цисплатином [76]. Пифитрин-μ блокирует ассоциацию HSP70 с кошапероном HSP40. Комбинированное лечение пифитрином-μ и оксалиплатином значительно усиливало цитотоксический эффект оксалиплатина против клеток толстой кишки и предстательной железы человека в культуре in vitro [77]. MAL3-101, аллостерический ингибитор HSP70, блокирующий АТФазную активность нуклеотид-связывающего домена, эффективно подавлял пролиферацию клеток рака молочной железы, множественной миеломы, карциномы Меркеля, рака толстой кишки и др. [78, 79]. Другие ингибиторы HSP70 (танеспимицин, MKT-077) также эффективно усиливают противоопухолевое действие химиопрепаратов [80–83].
Помимо адресной доставки NPs и различных терапевтических препаратов в опухолевые клетки еще одним преимуществом использования mAb против HSP70 является их способность активировать противоопухолевую клеточную цитотоксичность (ADCC).
6. Возможные механизмы собственной противоопухолевой активности антител к белкам теплового шока
Введение мышам с раком толстой кишки CT26 антител cmHSP70.1, специфичных к TKD, способствовало уничтожению раковых клеток, экспрессирующих HSP70 на мембране, и ингибированию роста опухоли за счет активации ADCC, сопровождающейся инфильтрацией гранулоцитов, NK-клеток и макрофагов и повышением их миграционной и цитолитической активности [17, 72]. По данным авторов другие антитела против HSP70, в частности SPA810, Ox7.11 или Fab-фрагмент HSP70.1, не демонстрировали аналогичного противоопухолевого эффекта. Использование комбинированного метода лечения, основанного, например, на применении радиохимиотерапии, увеличивающей поверхностную концентрацию HSP70 на раковых клетках, и иммунотерапии с применением mAb cmHSP70.1 представляется перспективной областью для дальнейших клинических исследований.
Однако ряд исследований mAb против HSP70 демонстрирует ингибирование ими NK-клеточной противоопухолевой активности при условии связывания данных антител с внеклеточной С-концевой областью шаперона, принципиальной для узнавания HSP70 NK-клетками [44, 73]. В таком случае имеет смысл иммунизация, например, пептидом TKD, который способен стимулировать пролиферативную и цитолитическую способность NK-клеток. Для изучения влияния предварительной активации клеток селезенки на уничтожение mHSP70-положительных опухолевых клеток карциномы мыши CT26 in vitro была введена комбинация TKD/IL-2, что привело к значительному увеличению количества CD49b+-NK-клеток и CD25+-клеток и способствовало лизису опухолевых клеток [72].
Исходя из данных по способности некоторых mAb против HSP70 активировать клеточную цитотоксичность, встает вопрос о возможности индуцирования ими системы комплемента для подавления опухолей. Известно, что внеклеточный HSP70, являясь сигналом стресса, может самостоятельно активировать систему комплемента [84]; то же самое относится и к аутоантителам против HSP при атеросклерозе [85]. Антитела BD091, узнающие С-концевой домен поверхностных HSP70, аналогично аутоантителам, образующимся при атеросклерозе, активировали систему комплемента и клеточную цитотоксичность под действием липопротеинов низкой плотности, что приводило к развитию аутоиммунного заболевания и лизису HSP70-положительных клеток крысы. В то же время mAbs SPA-810 к HSP70, узнающие другой эпитоп, не демонстрировали аналогичный эффект [85].
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Белки теплового шока, появляющиеся на поверхности опухолевых клеток при некоторых формах рака, могут являться мишенью для целевой доставки различных противоопухолевых препаратов. Антителами к мембраноассоциированным HSP декорируют различные носители (наночастицы, липосомы). Низкомолекулярные ингибиторы, подавляющие функциональную активность HSP, используются в комбинации с цитотоксическими препаратами, что усиливает действие терапевтических молекул за счет подавления шаперонной функции HSP в опухолевых клетках. Использование полноразмерных антител к HSP (в том числе к HSP70) и их фрагментов – перспективный подход к таргетированной доставке терапевтических препаратов к солидным опухолям.
В настоящий момент в клинике используется ограниченное количество маркеров опухолей различной локализации. Расширение спектра опухолевых маркеров и их сочетание может оказаться эффективным подходом к терапии рака.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-15-00472).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящий обзор не содержит описания исследований, выполненных кем-либо из авторов данной работы, с участием людей или использованием животных в качестве объектов.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
А. О. Макарова
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН; ФГБУО ВО “Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова”
Email: amsap@mail.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 119991 Москва, Ленинские горы, 1
В. В. Костенко
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН; ФГБУО ВО “Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова”
Email: amsap@mail.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 119991 Москва, Ленинские горы, 1
О. В. Овсяникова
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН; ФГБУО ВО “Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова”
Email: amsap@mail.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 119991 Москва, Ленинские горы, 1
Е. В. Свирщевская
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: amsap@mail.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Г. В. Луценко
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: amsap@mail.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
А. М. Сапожников
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: amsap@mail.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Список литературы
- Fu Z., Li S., Han S., Shi C., Zhang Y. // Signal Transduct. Target Ther. 2022. V. 7. P. 93. https://doi.org/10.1038/s41392-022-00947-7
- Beck A., Goetsch L., Dumontet C., Corvaïa N. // Nat. Rev. Drug. Discov. 2017. V. 16. P. 315–337. https://doi.org/10.1038/nrd.2016.268
- Richter K., Haslbeck M., Buchner J. // Mol. Cell. 2010. V. 40. P. 253–266. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2010.10.006
- Mertz-Henning L.M., Pegoraro C., Maia L.C., Venske E., Rombaldi C.V., Costa de Oliveira A. // Genet. Mol. Res. 2016. V. 15. P. gmr.15027954. https://doi.org/10.4238/gmr.15027954
- Cedraz H., Gromboni J.G.G., Garcia A.A.P., Jr., Farias Filho R.V., Souza T.M., Oliveira E.R., Oliveira E.B., Nascimento C.S.D., Meneghetti C., Wenceslau A.A. // PLoS One. 2017. V. 12. P. e0186083. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186083
- Taha E.A., Ono K., Eguchi T.// Int. J. Mol. Sci. 2019. V. 20. P. 4588. https://doi.org/10.3390/ijms20184588
- García Lorenzo J., León Vintró X., Camacho Pérez de Madrid M. // Acta Otorrinolaringol. Esp. 2016. V. 67. P. 130–134. https://doi.org/10.1016/j.otorri.2015.03.002
- Minnaar C.A., Szasz A. // Cells. 2022. V. 11. P. 1838. https://doi.org/10.3390/cells11111838
- Youness R.A., Gohar A., Kiriacos C.J., El-Shazly M. // Adv. Exp. Med. Biol. 2023. V. 1409. P. 193–203. https://doi.org/10.1007/5584_2022_736
- Lianos G.D., Alexiou G.A., Mangano A., Mangano A., Rausei S., Boni L., Dionigi G., Roukos D.H.// Cancer Lett. 2015. V. 360. P. 114–118. https://doi.org/10.1016/j.canlet.2015.02.026
- Wu J., Liu T., Rios Z., Mei Q., Lin X., Cao S. // Trends Pharmacol. Sci. 2017. V. 38. P. 226–256. https://doi.org/10.1016/j.tips.2016.11.009
- Yun C.W., Kim H.J., Lim J.H., Lee S.H. // Cells. 2019. V. 9. P. 60. https://doi.org/10.3390/cells9010060
- Fernández-Fernández M.R., GrageraM., OchoaIbarrola L., Quintana-Gallardo L., Valpuesta J.M. // FEBS Lett. 2017. V. 591. P. 2648–2660. https://doi.org/10.1002/1873-3468.12751
- Havalová H., Ondrovičová G., Keresztesová B., Bauer J.A., Pevala V., Kutejová E., Kunová N. // Int. J. Mol. Sci. 2021. V. 22. P. 8077. https://doi.org/10.3390/ijms22158077
- Stangl S., Gehrmann M., Riegger J., Kuhs K., Riederer I., Sievert W., Hube K., Mocikat R., Dressel R., Kremmer E., Pockley A.G., Friedrich L., Vigh L., Skerra A., Multhoff G. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2011. V. 108. P. 733–738. https://doi.org/10.1073/pnas.1016065108
- Liu Q., Liang C., Zhou L. // Protein Sci. 2020. V. 29. P. 378–390. https://doi.org/10.1002/pro.3725
- Fan W., Fan S.S., Feng J., Xiao D., Fan S., Luo J. // PLoS One. 2017. V. 12. P. e0185563. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185563
- Shiber A., Ravid T. // Biomolecules. 2014. V. 4. P. 704– 724. https://doi.org/10.3390/biom4030704
- Werner C., Stangl S., Salvermoser L., Schwab M., Shevtsov M., Xanthopoulos A., Wang F., Dezfouli A.B., Thölke D., Ostheimer C., Medenwald D., Windberg M., Bache M., Schlapschy M., Skerra A., Multhoff G. // Cancers. 2021. V. 13. P. 3706. https://doi.org/10.3390/cancers13153706
- Zolkiewski M., Zhang T., Nagy M. // Arch. Biochem. Biophys. 2012. V. 520. P. 1–6. https://doi.org/10.1016/j.abb.2012.01.012
- Wang X.Y., Subjeck J.R. // Int. J. Hyperthermia. 2013. V. 29. P. 364–375. https://doi.org/10.3109/02656736.2013.803607
- Hightower L.E., Guidon P.T., Jr. // J. Cell Physiol. 1989. V. 138. P. 257–266. https://doi.org/10.1002/jcp.1041380206
- Mambula S.S., Calderwood S.K. // J. Immunol. 2006. V. 177. P. 7849–7857. https://doi.org/10.4049/jimmunol.177.11.7849
- Li D.Y., Liang S., Wen J.H., Tang J.X., Deng S.L., Liu Y.X. // Molecules. 2022. V. 27. P. 2361. https://doi.org/10.3390/molecules27072361
- Broquet A.H., Thomas G., Masliah J., Trugnan G., Bachelet M. // J. Biol. Chem. 2003. V. 278. P. 21601– 21606. https://doi.org/10.1074/jbc.M302326200
- Gehrmann M., Liebisch G., Schmitz G., Anderson R., Steinem C., De Maio A., Pockley G., Multhoff G. // PLoS One. 2008. V. 3. P. e1925. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0001925
- Bilog A.D., Smulders L., Oliverio R., Labanieh C., Zapanta J., Stahelin R.V., Nikolaidis N. // Biomolecules. 2019. V. 9. P. 152. https://doi.org/10.3390/biom9040152
- Pomorski T., Holthuis J.C., Herrmann A., van Meer G. // J. Cell Sci. 2004. V. 117. P. 805–813. https://doi.org/10.1242/jcs.01055
- Schilling D., Gehrmann M., Steinem C., De Maio A., Pockley A.G., Abend M., Molls M., Multhoff G. // FASEB J. 2009. V. 23. P. 2467–2477. https://doi.org/10.1096/fj.08-125229
- Shevtsov M.A., Komarova E.Y., Meshalkina D.A., Bychkova N.V., Aksenov N.D., Abkin S.V., Margulis B.A., Guzhova I.V. // Oncotarget. 2014. V. 5. P. 3101–3114. https://doi.org/10.18632/oncotarget.1820
- Benaroudj N., Ebel C., Ladjimi M.M. // Eur. J. Biochem. 1999. V. 259. P. 379–384. https://doi.org/10.1046/j.1432-1327.1999.00053.x
- Rafiee M., Kanwar J.R., Berg R.W., Lehnert K., Lisowska K., Krissansen G.W. // Cancer Gene Ther. 2001. V. 8. P. 974–981. https://doi.org/10.1038/sj.cgt.7700395
- Bethke K., Staib F., Distler M., Schmitt U., Jonuleit H., Enk A.H., Galle P.R., Heike M. // J. Immunol. 2002. V. 169. P. 6141–6148. https://doi.org/10.4049/jimmunol.169.11.6141
- Luo H., Yang H., Lin Y., Zhang Y., Pan C., Feng P., Yu Y., Chen X. // Oncotarget. 2017. V. 8. P. 98455–98470. https://doi.org/10.18632/oncotarget.21427
- Yurinskaya M.M., Kochetkova O.Y., Shabarchina L.I., Antonova O.Y., Suslikov A.V., Evgen’ev M.B., Vinokurov M.G. // Cell Stress Chaperones. 2017. V. 22. P. 163–171. https://doi.org/10.1007/s12192-016-0743-z
- Evgen’ev M.B. // Cell Stress Chaperones. 2021. V. 26. P. 617–627. https://doi.org/10.1007/s12192-021-01219-z
- Komarova E.Y., Marchenko L.V., Zhakhov A.V., Nikotina A.D., Aksenov N.D., Suezov R.V., Ischenko A.M., Margulis B.A., Guzhova I.V. // Int. J. Mol. Sci. 2019. V. 21. P. 59–77. https://doi.org/10.3390/ijms21010059
- Shevtsov M.A., Pozdnyakov A.V., Mikhrina A.L., Yakovleva L.Y., Nikolaev B.P., Dobrodumov A.V., Meshalkina D.A., Ischenko A.M., Pitkin E., Guzhova I.V., Margulis B.A. // Int. J. Cancer. 2014. V. 135. P. 2118–2128. https://doi.org/10.1002/ijc.28858
- Lobinger D., Gempt J., Sievert W., Barz M., Schmitt S., Nguyen H.T., Stangl S., Werner C., Wang F., Wu Z., Fan H., Zanth H., Shevtsov M., Pilz M., Riederer I., Schwab M., Schlegel J., Multhoff G. // Front. Mol. Biosci. 2021. V. 8. P. 669366. https://doi.org/10.3389/fmolb.2021.669366
- Krause S.W., Gastpar R., Andreesen R., Gross C., Ullrich H., Thonigs G., Pfister K., Multhoff G. // Clin. Cancer Res. 2004. V. 10. P. 3699–3707. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-03-0683
- Kaczmarek M., Lagiedo M., Masztalerz A., Kozlowska M., Nowicka A., Brajer B., Batura-Gabryel H., Sikora J. // Immunobiology. 2018. V. 223. P. 200–209. https://doi.org/10.1016/j.imbio.2017.10.025
- Tukaj S., Sitko K. // Biomolecules. 2022. V. 12. P. 1153. https://doi.org/10.3390/biom12081153
- Wachstein J., Tischer S., Figueiredo C., Limbourg A., Falk C., Immenschuh S., Blasczyk R., Eiz-Vesper B. // PLoS One. 2012. V. 7. P. e51747. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051747
- Botzler C., Li G., Issels R.D., Multhoff G. // Cell Stress Chaperones. 1998. V. 3. P. 6–11. https://doi.org/10.1379/1466-1268(1998)003<0006: doeleo>2.3.co;2
- Affatigato L., Licciardi M., Bonamore A., Martorana A., Incocciati A., Boffi A., Militello V. // Molecules. 2023. V. 28. P. 1163. https://doi.org/10.3390/molecules28031163
- Shevtsov M., Huile G., Multhoff G. // Philos. Trans. R Soc. Lond. B Biol. Sci. 2018. V. 373. P. 20160526. https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0526
- Shevtsov M.A., Nikolaev B.P., Ryzhov V.A., Yakovleva L.Y., Marchenko Y.Y., Parr M.A., Rolich V.I., Mikhrina A.L., Dobrodumov A.V., Pitkin E., Multhoff G. // Nanoscale. 2015. V. 7. P. 20652–20664. https://doi.org/10.1039/c5nr06521f
- Shaterabadi Z., Nabiyouni G., Soleymani M. // Prog. Biophys. Mol. Biol. 2018. V. 133. P. 9–19. https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2017.10.001
- Johannsen M., Thiesen B., Wust P., Jordan A. // Int. J. Hyperthermia. 2010. V. 26. P. 790–795. https://doi.org/10.3109/02656731003745740
- Maier-Hauff K., Ulrich F., Nestler D., Niehoff H., Wust P., Thiesen B., Orawa H., Budach V., Jordan A. // J. Neurooncol. 2011. V. 103. P. 317–324. https://doi.org/10.1007/s11060-010-0389-0
- Ruan S., Yuan M., Zhang L., Hu G., Chen J., Cun X., Zhang Q., Yang Y., He Q., Gao H. // Biomaterials. 2015. V. 37. P. 425–435. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2014.10.007
- Ruan S., He Q., Gao H.// Nanoscale. 2015. V. 7. P. 9487–9496. https://doi.org/10.1039/c5nr01408e
- Gehrmann M.K., Kimm M.A., Stangl S., Schmid T.E., Noël P.B., Rummeny E.J., Multhoff G. // Int. J. Nanomedicine. 2015. V. 10. P. 5687–5700. https://doi.org/10.2147/IJN.S87174
- Zheng Y., Hunting D.J., Ayotte P., Sanche L. // Radiat. Res. 2008. V. 169. P. 19–27. https://doi.org/10.1667/RR1080.1
- Schuemann J., Berbeco R.I., Chithrani D.B., Cho S.H., Kumar R.R., McMahon S.J., Sridhar S., Krishnan S. // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2016. V. 94. P. 189– 205. https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2015.09.032
- Ali M.R., Ali H.R., Rankin C.R., El-Sayed M.A. // Biomaterials. 2016. V. 102. P. 1–8. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2016.06.017
- Gehrmann M., Stangl S., Foulds G.A., Oellinger R., Breuninger S., Rad R., Pockley A.G., Multhoff G. // PLoS One. 2014. V. 9. P. 105344. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105344
- Poccia F., Piselli P., Di Cesare S., Bach S., Colizzi V., Mattei M., Bolognesi A., Stirpe F. // Br. J. Cancer. 1992. V. 66. P. 427–432. https://doi.org/10.1038/bjc.1992.291
- Dezfouli A.B., Stangl S., Foulds G.A., Lennartz P., Pilkington G.J., Pockley A.G., Multhoff G. // Methods Mol. Biol. 2023. V. 2693. P. 307–324. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3342-7_23
- Madamsetty V.S., Mukherjee A., Mukherjee S. // Front. Pharmacol. 2019. V. 10. P. 1264. https://doi.org/10.3389/fphar.2019.01264
- Slingerland M., Guchelaar H.J., Gelderblom H. // Drug Discov. Today. 2012. V. 17. P. 160–166. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2011.09.015f
- Lu R.M., Chen M.S., Chang D.K., Chiu C.Y., Lin W.C., Yan S.L., Wang Y.P., Kuo Y.S., Yeh C.Y., Lo A., Wu H.C. // PLoS One. 2013. V. 8. P. e66128. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066128
- Wilhelm S., Tavares A.J., Dai Q., Ohta S., Audet J., Dvorak H.F., Chan C.W. // Nat. Rev. Mater. 2016. V. 1. P. e16014. https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.14
- Alswieleh A.M. // J. Chem. 2020. V. 2020. P. e9176257. https://doi.org/10.1155/2020/9176257
- Hassanpour A., Irandoust M., Soleimani E., Zhaleh H. // Mat. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl. 2019. V. 103. P. 109771. https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.109771
- Lu S., Neoh K.G., Huang C., Shi Z., Kang E.T. // J. Colloid Interface Sci. 2013. V. 412. P. 46–55. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2013.09.011
- Shevtsov M., Zhou Y., Khachatryan W., Multhoff G., Gao H. // Curr. Drug Metab. 2018. V. 19. P. 768–780. https://doi.org/10.2174/1389200219666180611080736
- Genc S., Taghizadehghalehjoughi A., Yeni Y., Jafarizad A., Hacimuftuoglu A., Nikitovic D., Docea A.O., Mezhuev Y., Tsatsakis A. // Pharmaceutics. 2023. V. 15. P. 245. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15010245
- Sparreboom A., Scripture C.D., Trieu V., Williams P.J., De T., Yang A., Beals B., Figg W.D., Hawkins M., Desai N. // Clin. Cancer Res. 2005. V. 11. P. 4136– 4143. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-04-2291
- Svenson S. // Chem. Soc. Rev. 2015. V. 44. P. 4131– 4144. https://doi.org/10.1039/c5cs00288e
- Caminade A.M. // J. Pers. Med. 2022. V. 12. P. 1334. https://doi.org/10.3390/jpm12081334
- Stangl S., Gehrmann M., Dressel R., Alves F., Dullin C., Themelis G., Ntziachristos V., Staeblein E., Walch A., Winkelmann I., Multhoff G. // J. Cell Mol. Med. 2011. V. 15. P. 874–887. https://doi.org/10.1111/j.1582-4934.2010.01067.x
- Multhoff G., Pfister K., Gehrmann M., Hantschel M., Gross C., Hafner M., Hiddemann W.A. // Cell Stress Chaperones. 2001. V. 6. P. 337–344. https://doi.org/10.1379/1466-1268(2001)006<0337: AMHPSN>2.0.CO;2
- Taglia L., Matusiak D., Benya R.V. // Clin. Exp. Metastasis. 2008. V. 25. P. 451–463. https://doi.org/10.1007/s10585-008-9151-9
- Gobbo J., Marcion G., Cordonnier M., Dias A.M.M., Pernet N., Hammann A., Richaud S., Mjahed H., Isambert N., Clausse V., Rébé C., Bertaut A., Goussot V., Lirussi F., Ghiringhelli F., de Thonel A., Fumoleau P., Seigneuric R., Garrido C. // J. Natl. Cancer Inst. 2015. V. 108. Р. djv330. https://doi.org/10.1093/jnci/djv330
- Schmitt E., Maingret L., Puig P.E., Rerole A.L., Ghiringhelli F., Hammann A., Solary E., Kroemer G., Garrido C. // Cancer Res. 2006. V. 66. P. 4191– 4197. https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-05-3778
- McKeon A.M., Egan A., Chandanshive J., McMahon H., Griffith D.M. // Molecules. 2016. V. 21. P. 949. https://doi.org/10.3390/molecules21070949
- Adam C., Baeurle A., Brodsky J.L., Wipf P., Schrama D., Becker J.C., Houben R. // PLoS One. 2014. V. 9. P. e92041. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0092041
- Prince T., Ackerman A., Cavanaugh A., Schreiter B., Juengst B., Andolino C., Danella J., Chernin M., Williams H. // Oncotarget. 2018. V. 9. P. 32702–32717. https://doi.org/10.18632/oncotarget.26021
- Li X., Srinivasan S.R., Connarn J., Ahmad A., Young Z.T., Kabza A.M., Zuiderweg E.R.P., Sun D., Gestwicki J.E. // ACS Med. Chem. Lett. 2013. V. 4. P. 1042–1047. https://doi.org/10.1021/ml400204n
- Wadhwa R., Sugihara T., Yoshida A., Nomura H., Reddel R.R., Simpson R., Maruta H., Kaul S.C. // Cancer Res. 2000. V. 60. P. 6818–6821.
- Koya K., Li Y., Wang H., Ukai T., Tatsuda N., Kawakami M., Shishido T., Chen L.B. // Cancer Res. 1996. V. 56. P. 538–543.
- Modica-Napolitano J.S., Koya K., Weisberg E., Brunelli B.T., Li Y., Chen L.B. // Cancer Res. 1996. V. 56. P. 544–550.
- Schett G., Xu Q., Amberger A., Van der Zee R., Recheis H., Willeit J., Wick G. // J. Clin. Invest. 1995. V. 96. P. 2569–2577. https://doi.org/10.1172/JCI118320
- Leng X., Wang X., Pang W., Zhan R., Zhang Z., Wang L., Gao X., Qian L. // Cell Stress Chaperones. 2013. V. 18. P. 483–493. https://doi.org/10.1007/s12192-013-0404-4
Дополнительные файлы