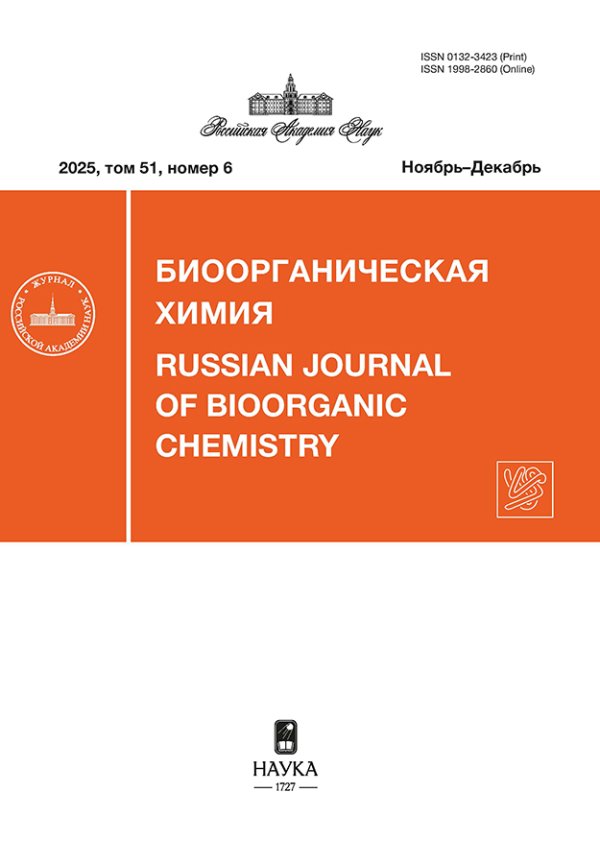Новый белок ГЛОСАКСИН, состоящий из некаталитических доменов металлопротеиназы типа PIII, из яда щитомордника Gloydius saxatilis ингибирует никотиновый холинорецептор
- Авторы: Осипов А.В.1, Крюкова Е.В.1, Оджомоко Л.О.1, Шелухина И.В.1, Зиганшин Р.Х.1, Старков В.Г.1, Андреева Т.В.1, Цетлин В.И.1, Уткин Ю.Н.1
-
Учреждения:
- ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
- Выпуск: Том 50, № 3 (2024)
- Страницы: 279-286
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-3423/article/view/261475
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324030067
- EDN: https://elibrary.ru/NZXBSU
- ID: 261475
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Ранее нами было обнаружено, что яд каменистого щитомордника Gloydius saxatilis ингибирует никотиновый холинорецептор (нХР) мышечного типа. В данной работе с применением жидкостной хроматографии из яда выделен белок глосаксин, ингибирующий связывание α-бунгаротоксина с нХР мышечного типа Torpedo californica. Аминокислотную последовательность выделенного белка анализировали методом масс-спектрометрии высокого разрешения. Последующий биоинформационный анализ показал, что она гомологична аминокислотным последовательностям дизинтегрин-подобных белков, включающих некаталитические домены металлопротеиназ типа PIII яда щитомордников (род Gloydius). Исследование биологической активности выделенного белка показало, что он ингибирует связывание α-бунгаротоксина с нХР Torpedo californica (IC50 = 51 мкМ). Белок также ингибировал функциональные ответы нейронного нХР α3β2-подтипа человека, вызванные ацетилхолином. Это первые данные о способности белков, состоящих из некаталитических доменов металлопротеиназы типа PIII яда змей, ингибировать нХР.
Ключевые слова
Полный текст
Сокращения: α-Bgt – α-бунгаротоксин; нХР – никотиновый холинорецептор.
ВВЕДЕНИЕ
Яды змей, используемые как орудия охоты или средства защиты, наиболее эффективно нарушают функционирование нервной или сердечно-сосудистой системы. Яды одних видов змей, относящихся в основном к семейству Elapidae, поражают прежде всего нервную систему и считаются нейротоксическими; яды других видов, относящихся главным образом к семейству Viperidae, нарушают деятельность сердечно-сосудистой системы и оказывают гемотоксическое действие. Однако это разделение достаточно условное, например, гемотоксические яды содержат нейротоксические соединения [1]. Тем не менее основные компоненты гемотоксических ядов – белки и пептиды, воздействующие на сердечно-сосудистую систему. Это могут быть ферменты, такие как сериновые протеиназы и металлопротеиназы, или белки, не обладающие ферментативной активностью, например, дизинтегрины. Как правило, ферменты являются преобладающими компонентами гемотоксических ядов и определяют их коагулопатические свойства. Наиболее представленные токсины в ядах змей семейства Viperidae – металлопротеиназы, содержание которых в ядах гадюковых в среднем составляет 27% [2], достигая почти 43% в яде Vipera anatolica senliki [3].
Металлопротеиназы змеиного яда представляют собой обширную группу многодоменных белков, проявляющих различные виды биологической активности [4]. В частности, они обладают способностью к протеолитическому расщеплению фибриногена, фибрина и ингибированию агрегации тромбоцитов, что проявляется в нарушениях свертываемости крови при укусах змеями семейства Viperidae. В зависимости от состава доменов, образующих эти ферменты, существует три класса металлопротеиназ: PI, PII и PIII. В состав белков класса PI входит только каталитический металлопротеиназный домен. В ферментах класса PII в дополнение к домену металлопротеиназы содержится домен дизинтегрина. Члены класса PIII включают металлопротеиназный, дизинтегриноподобный и богатый цистеином домены. Следует отметить, что белки классов PII и PIII подвергаются посттрансляционному протеолизу, и в ядах присутствуют как дизинтегрины, так и белки, включающие оба некаталитических домена. Последние называют еще дизинтегриноподобными белками. Нельзя также исключить возможность посттрансляционного расщепления белков PI. Дизинтегрины избирательно связываются с интегринами – гетеродимерными рецепторами, участвующими в межклеточном и клеточно-матриксном взаимодействии, которые рассматриваются в качестве терапевтических мишеней [5]. Функции дизинтегриноподобных белков, включающих два некаталитических домена, не столь хорошо исследованы, к тому же и число таких белков, идентифицированных в ядах змей, существенно меньше, чем число дизинтегринов. Тем не менее такие белки обладают способностью ингибировать агрегацию тромбоцитов [6, 7] и адгезию раковых клеток [7].
Весьма интересным эффектом обладает дизинтегриноподобный белок альтернагин-С (alternagin-C), выделенный из яда ботропса Rhinocerophis alternatus [8]. Этот белок способен индуцировать экспрессию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток, усиливать ангиогенез и увеличивать жизнеспособность миобластов. Исследование влияния альтернагина-С на сердечную функцию ex vivo пресноводных рыб показало, что белок усиливал сердечную деятельность, способствуя значительному увеличению силы сокращения (положительный инотропизм) и скорости сокращения и расслабления (положительный хронотропизм) с одновременным уменьшением значений времени до пикового напряжения мышцы, а также улучшению насосной способности [9]. Это исследование показало, что альтернагин-C улучшает сердечную функцию, увеличивая эффективность механизмов кальциевого ионообмена. Также было изучено влияние альтернагина-С на гипоксию/реоксигенацию в изолированных полосках желудочка сердца рыбы, на морфологию и плотность кровеносных сосудов [10]. Обработка альтернагином-С обеспечивала защиту кардиомиоцитов от отрицательного инотропизма, вызванного гипоксией/ реоксигенацией. Этот белок также стимулировал ангиогенез и улучшал связь между возбуждением и сокращением в условиях гипоксии. Эти результаты указывают на новую терапевтическую стратегию для лечения заболеваний, связанных с ишемией.
Наиболее ярко нейротоксичность ядов змей проявляется при блокировании нервно-мышечной передачи, основной элемент которой – никотиновые холинорецепторы (нХР) мышечного типа. Ранее с целью поиска новых соединений, обладающих способностью блокировать подобные нХР, нами были исследованы яды змей различных видов из семейства Viperidae [11]. Наибольшую ингибиторную активность проявил яд каменистого щитомордника Gloydius saxatilis. Следует отметить, что название этого вида змеи не устоявшееся, и ряд авторов называет его Gloydius intermedius [12].
Цель настоящей работы – выделение из яда G. saxatilis токсина, проявляющего нейротоксичность, и его структурная характеристика. В качестве теста было использовано ингибирование функции нХР, являющегося главным элементом нервно-мышечной передачи.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выделение из яда G. saxatilis ингибитора нХР и анализ его аминокислотной последовательности. Для выделения активного соединения из яда щитомордника G. saxatilis использовали несколько стадий жидкостной хроматографии. На первой стадии проводили разделение методом гель-фильтрации на колонке Superdex 75 (рис. 1). Полученные фракции здесь и далее анализировали методом радиолигандного конкурентного анализа с использованием нХР электрического органа ската Torpedo californica и радиоактивного α-бунгаротоксина (α-Bgt) в качестве лиганда. Самую большую способность ингибировать связывание α-Bgt проявила наиболее высокомолекулярная фракция I, которую далее разделяли методом ионообменной хроматографии (рис. 2). Наиболее представленная фракция 5 обладала способностью ингибировать связывание α-Bgt с нХР T. californica и была подвергнута дальнейшему анализу.
Рис. 1. Разделение яда G. saxatilis гель-фильтрацией на колонке Superdex 75 (10 × 300 мм), уравновешенной 0.1 М ацетатом аммония (рН 6.2), при скорости потока 1 мл/мин. Горизонтальные линии показывают собранные фракции.
Рис. 2. Разделение фракции I (см. рис. 1) методом анионообменной хроматографии на колонке Mono Q (4.6 × 100 мм) с использованием градиента концентрации хлорида натрия 0.05–0.55 М за 100 мин в 20 мМ буфере этаноламин-НСl (pH 9.5) при скорости потока 0.5 мл/мин. Горизонтальные линии показывают собранные фракции.
Определение молекулярной массы методом масс-спектрометрии высокого разрешения показало, что эта величина для белка из фракции 5 (рис. 2) равна 23 307.64 Да (рис. 3). На рис. 3 представлены три набора сигналов, соответствующих изотопомерам белка. Разница между левым и средним, а также между средним и третьим наборами сигналов равняется 15.99 Да и соответствует в пределах ошибки измерения массе атома кислорода, т.е. центральный и правый наборы сигналов соответствуют окисленному белку. Наиболее легко окислению в белках подвергается остаток метионина, и эта посттрансляционная модификация встречается весьма часто [13]. К примеру, ранее подобная модификация была обнаружена у фосфолипазы А2 из яда Crotalus horridus [14]. Мы также наблюдали окисление метионина в необычном токсине WTX кобры Naja kaouthia [15] и β-бунгаротоксине крайта Bungarus multicinctus [16].
Рис. 3. Фрагмент масс-спектра высокого разрешения белка из фракции 5 (рис. 2). Показаны сигналы, соответствующие ионам [M + 13H]+13, z = 13.
Для характеристики аминокислотной последовательности белок восстанавливали с помощью трис(2-карбоксиэтил)фосфина, карбамидометилировали 2-хлорацетамидом, гидролизовали трипсином и анализировали полученные пептиды методом жидкостной хроматографии с тандемной массспектрометрией (рис. 4). Проведенный анализ показал, что выделенный нами белок гомологичен белкам, включающим дизинтегриноподобный и богатый остатками цистеина домены металлопротеиназ типа III из ядов змей. В частности, он имеет 68% идентичных аминокислотных остатков с белком халисетином (halysetin, VM3H_GLOHA) [17] из яда Agkistrodon (Gloydius) halys (рис. 4). Выделенный нами белок назван глосаксин (от англ. glosaxin – GLOydiys SAXatlis disintegrIN-like protein).
Рис. 4. Аминокислотная последовательность белка халисетина (halysetin, UniProtKB: VM3H_GLOHA) и соответствующие ей пептиды, обнаруженные в гидролизате выделенного нами белка (показаны голубыми линиями).
Что касается гомологичных белков, идентифицированных у каменистого щитомордника G. (intermedius) saxatilis, то известны аминокислотные последовательности металлопротеиназ РII (UniProt KB: VM2SA_GLOSA) и PIII (UniProt KB: A0A0C4ZNF1_GLOIT), выведенные из нуклеотидных последовательностей (рис. 5). Также известна аминокислотная последовательность дизинтегрина саксатилина (saxatilin, VM2_GLOHA), выделенного из яда G. saxatilis [18]. Сравнение аминокислотных последовательностей халисетина и этих белков приведено на рис. 5. Это гомологичные белки, и наибольшая степень подобия наблюдается в N-концевой части до остатков активного центра. Остатки активного центра существенно различаются. Это RGD в VM2SA_GLOSA, VM2_GLOHA и ECD в A0A0C4ZNF1_ GLOIT и VM3H_GLOHA. Далее в направлении С-концевого остатка наблюдается существенное различие в аминокислотных последовательностях между этими парами белков (рис. 5).
Рис. 5. Сравнение аминокислотных последовательностей некаталитических доменов металлопротеиназ некоторых видов щитомордников (род Gloydius). VM3H_GLOHA –халисетин (halysetin) из яда Agkistrodon (Gloydius) halys, A0A0C4ZNF1_GLOIT – фрагмент металлопротеиназы PIII Gloydius intermedius, VM2SA_GLOSA – фрагмент металлопротеиназы РII Gloydius saxatilis, VM2_GLOHA – дизинтегрин саксатилин (saxatilin) Gloydius saxatilis. Линии над последовательностями указывают пептиды халисетина, обнаруженные методом масс-спектрометрии в гидролизате нашего белка. Подчеркнуты остатки активных центров, идентичные остатки выделены серым цветом.
Интересно, что ранее были идентифицированы пептидные фрагменты в металлопротеиназах, ингибирующие нХР [11, 19]. Так, пептиды Pm1 и Pm2, способные ингибировать нХР подтипа α7 человека, показывая величины IC50 ~12 мкМ, были идентифицированы в пропептидном домене металлопротеиназы оливковой песчаной змеи Psammophis mossambicus [19]. Из яда кошачьеглазой змеи Madagascarophis colubrinus выделен пептид маколуксин, обладающий способностью обратимо ингибировать нХР мышечного типа [11]. Для мембран Torpedo при конкуренции с 125I-αBgt IC50 составила 46.8 ± 3.9 мкМ. Маколуксин имеет высокую степень подобия с фрагментом каталитического домена металлопротеиназ змеиного яда и, по-видимому, образуется в результате протеолиза этого фермента. Рассматривая проблему функционального разнообразия змеиных токсинов при ограниченном числе их структурных типов, можно предположить следующее: поскольку металлопротеиназы представляют собой преобладающие компоненты в ядах змей семейства Viperidae, их дальнейший процессинг может приводить к возникновению соединений с другими типами биологической активности, в частности с нейротоксическим действием.
Взаимодействие выделенного белка с нХР. Эффективность взаимодействия глосаксина с нХР оценивали по его конкуренции с радиоактивным α-Bgt (125I-αBgt) за связывание с мембранами электрического органа ската T. californica, содержащими рецепторы мышечного типа (α12β1γδ), и с клетками линии GH4C1, экспрессирующими нейронные нХР подтипа α7 человека. При этом установлено, что глосаксин ингибирует связывание 125I-αBgt с мембранами T. californica с величиной IC50 = 50.9 ± 1.83 мкМ (рис. 6). В концентрации 50 мкМ он ингибировал связывание 125I-αBgt с α7 нХР лишь на 20%.
Рис. 6. Ингибирование связывания радиоактивного α-Bgt с нХР T. californica (квадраты) и α7-подтипа (кружок) глосаксином. Для нХР T. californica IC50 = = 50.9 ± 1.83 мкМ. М – молярная концентрация белка.
Чтобы проверить, является ли глосаксин функциональным ингибитором нХР, были проведены электрофизиологические эксперименты с использованием нейронного нХР подтипа α3β2, гетерологически экспрессированного в ооцитах шпорцевой лягушки. Глосаксин сам по себе ионных токов не индуцировал, однако он ингибировал ток, вызванный ацетилхолином (рис. 7), хотя и при довольно высокой концентрации. Ингибирование составляло ~20% при концентрации белка 100 мкМ. Следовательно, глосаксин – слабый анатагонист нХР подтипа α3β2.
Рис. 7. Ингибирование глосаксином токов, индуцируемых ацетилхолином в нХР α3β2-типа. Регистрировали ответ ооцита шпорцевой лягушки X. laevis на внесение 50 мкМ ацетилхолина без добавления белка (100%) и после 1 мин инкубации с различными концентрациями белка (n = 3). * p < 0.05 (t-критерий Стьюдента).
Таким образом, из яда каменистого щитомордника G. (intermedius) saxatilis выделен белок глосаксин с молекулярной массой 23.3 кДа, обладающий способностью взаимодействовать с нХР разных типов, проявляя более высокое сродство к рецептору мышечного типа. Анализ его аминокислотной последовательности методом масспектрометрии показал, что данный белок гомологичен дизинтегрин-подобным белкам из ядов змей, состоит из дизинтегринового и богатого остатками цистеина доменов и представляет собой фрагмент металлопротеиназы PIII типа, включающий некаталитические домены этого фермента. Данная работа представляет собой первое указание на взаимодействие таких белков с нХР.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Материалы. Мембраны T. californica любезно предоставлены проф. Ф. Хухо (Свободный университет Берлина, Германия). Клетки GH4C1, трансфицированные кДНК α7 нХР человека, предоставлены компанией Eli-Lilly Co. (Великобритания). Все использованные в работе реактивы имели чистоту ч.д.а. или выше.
Получение яда. Яд получали от экземпляров G. saxatilis, содержащихся в серпентарии ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН. После отбора яд высушивали над безводным CaCl2 и хранили при –20°С.
Выделение белка. Яд растворяли в 0.1 М ацетате аммония (рН 6.2) и наносили на колонку с Superdex 75 (10 × 300 мм; Cytiva, США), уравновешенную тем же буфером. Элюцию проводили при скорости потока 1.0 мл/мин. Оптическую плотность элюента регистрировали при 226 нм. Фракцию I (рис. 1) лиофилизировали и далее разделяли методом анионообменной хроматографии на колонке MonoQ 4.6/100 PE (4.6 × 100 мм; Cytiva, США). Буфер А – 50 мМ этаноламина гидрохлорид (рН 9.5), буфер Б – он же с 1 М NaCl. Градиент 5–55% буфера Б за 100 мин, скорость потока 0.5 мл/мин, детекция выхода фракций при длине волны 280 нм (рис. 2).
Масс-спектрометрия высокого разрешения. Масс-спектрометрический анализ проводили, как описано ранее [20].
Восстановление, алкилирование и гидролиз белков трипсином. Навеску яда растворяли в восстанавливающем и алкилирующем буфере (pH 8.5) так, чтобы финальная концентрация белка, Трис, дезоксихолата натрия, трис(2карбоксиэтил)фосфина и 2-хлороацетамида была 1 мг/мл, 100 мМ, 1%, 10 и 20 мМ соответственно. Раствор белков прогревали при 95°С в течение 10 мин, охлаждали до комнатной температуры и добавляли равный объем трипсина (Promega, США) в 100 мМ Трис (pH 8.5) в весовом соотношении 1 : 100. После инкубации в течение ночи при 37°С раствор триптических пептидов подкисляли ТФУ до конечной концентрации 1%, экстрагировали образовавшийся осадок дезоксихолевой кислоты в равный объем этилацетата при бурном перемешивании, разделяли этилацетат и водную фазу центрифугированием (15 000 g, 2 мин), этилацетат отбирали и отбрасывали. Процедуру экстракции повторяли трижды. Пептиды обессоливали на микроколонках StageTips, как было описано ранее [21, 22], с небольшими модификациями. Микроколонки для обессоливания пептидов изготавливали из наконечников для автоматических пипеток (200 мкл) и мембраны Empore SDB-RPS (3M). Для обессоливания 20 мкг триптического гидролизата использовали одну микроколонку с двумя кусочками мембраны, вырезанными иглой диаметром 14 G. Пептиды наносили на микроколонку центрифугированием при 200 g в течение ~6 мин, промывали смесью, состоящей из 100 мкл 1%-ной ТФУ и 100 мкл этилацетата, 100 мкл 1%-ной ТФУ, 100 мкл 0.2%-ной ТФУ и элюировали 60 мкл раствора, содержащего 5% гидроксида аммония и 40% ацетонитрила. Элюат высушивали на центрифужном вакуумном испарителе досуха и хранили до хромато-масс-спектрометрического анализа при –85°С.
Хромато-масс-спектрометрический анализ пептидов. Высушенный элюат растворяли в 20 мкл водного раствора, содержащего 2% ацетонитрила и 0.1% ТФУ, и 3 мкл наносили на колонку (диаметр 75 мкм, длина 25 см) с сорбентом Aeris Peptide XB-C18 2.6 мкм (Phenomenex, США). Разделение пептидов проводили на хроматографической системе Ultimate 3000 Nano LC System (Thermo Fisher Scientific, США), сопряженной с масс-спектрометром Q Exactive HF (Thermo Fisher Scientific) посредством наноэлектроспрейного источника (Thermo Fisher Scientific). Пептиды загружали на термостатируемую при 40°С колонку в буфере А (0.2%-ная муравьиная кислота (FA) в воде) и элюировали с нее в течение 120 мин линейным градиентом 4–55% буфера Б (0.1% FA, 19.9% воды, 80% ацетонитрила) при скорости потока 350 нл/мин. После каждого градиента колонку промывали 95% буфера Б в течение 5 мин и уравновешивали буфером А в течение 5 мин. Масс-спектрометрические данные сохраняли при автоматическом переключении между MS1-сканированием и вплоть до 15 MS/MS-сканирований (метод topN). Целевое значение для MS1-сканирования было выставлено 3 × 106 в диапазоне 300−1200 m/z с максимальным временем инжектирования ионов 60 мс и разрешением 60 000. Изолирование ионов-прекурсоров осуществляли при ширине окна 1.4 m/z и фиксированной первой массе 100 m/z. Ионы-прекурсоры фрагментировали методом высокоэнергетической диссоциации в ловушке C-trap c нормализованной энергией столкновения 28 eV. MS/MS-сканы сохраняли c разрешением 15 000 при m/z 400 и при значении 1 × 105 для целевых ионов в диапазоне 200– 2000 m/z с максимальным временем инжекции ионов 30 мс.
Анализ хромато-масс-спектрометрических данных. Каталогизацию белков яда и анализ их посттрансляционных модификаций проводили с использованием компьютерной программы PEAKS Studio 8.0 build 20160908 [23]. Первичные структуры пептидов, генерируемые этой программой, анализировали, сравнивая с массивом белковых последовательностей таксономической группы Serpentes (70 112 структур), экстрагированных из базы данных UNIPROT KB (10.2017), со следующими настройками: карбамидометилирование Cys – фиксированная модификация; N-концевое ацетилирование белков, окисление Met и дезамидирование Asn/Gln – вариабельные модификации; специфичность протеазы – трипсин. Допустимый уровень ложноположительных идентификаций (FDR) пептидов был установлен на 0.01, его определяли путем корреляции массива MS/MS-данных с реверсной базой данных белковых последовательностей, которая генерировалась программой PEAKS Studio. Идентификацию пептидов осуществляли при допустимом начальном отклонении массы иона-прекурсора до 10 ppm и допустимом отклонении массы фрагментов 0.05 Да.
Конкурентный радиолигандный анализ. Для экспериментов по конкурентному связыванию суспензию мембран электрического органа T. californica (в конечной концентрации 1.2 нM α-Bgt-связывающих участков) или клеток GH4C1 (0.4 нМ α-Bgt-связывающих участков) в 20 мM Tris-HCl-буфере (pH 8.0), содержащем БСА в концентрации 1 мг/мл, инкубировали 90 мин с различными концентрациями глосаксина. Затем добавляли радиоактивный [125I]-меченый α-Bgt (500 Ки/ммоль) до получения конечной концентрации 0.2–0.4 нM и инкубировали еще 5 мин. Определение неспецифического связывания, фильтрацию образцов и подсчет связавшейся радиоактивности проводили, как описано Lebedev et al. [24].
Электрофизиологические измерения. Электрофизиологические измерения на ооцитах шпорцевой лягушки Xenopus laevis проводили по методике Lebedev et al. [24]. Различные концентрации глосаксина предварительно инкубировали с ооцитами в течение 1 мин, затем добавляли 50 мкМ ацетилхолин и регистрировали ответ. Максимальный ток, полученный в ответ на 50 мкМ ацетилхолин без добавления белка, принимали за 100%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С использованием методов высокоэффективной жидкостной хроматографии из яда каменистого щитомордника G. saxatilis выделен белок глосаксин, ингибирующий нХР разных типов. Анализ его аминокислотной последовательности методом масс-спектрометрии показал, что она гомологична последовательностям белков, состоящих из некаталитических доменов металлопротеиназ типа PIII яда щитомордников (род Gloydius). Исследование биологической активности глосаксина обнаружило, что он ингибирует связывание α-Bgt с рецептором мышечного типа Torpedo californica с IC50 = 51 мкМ и слабо ингибирует связывание α-Bgt с нХР α7-подтипа. Глосаксин также ингибирует функциональные ответы нХР α3β2-подтипа человека, вызванные ацетилхолином. Это первые данные о способности белков, состоящих из некаталитических доменов металлопротеиназы типа PIII яда змей, ингибировать нХР.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 21-14-00316).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Все процедуры со змеями одобрены Комиссией по содержанию и использованию лабораторных животных ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН (протокол-заявка № 324/2021 от 23 июня 2021 г.).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
А. В. Осипов
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: utkin@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Е. В. Крюкова
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: utkin@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Л. О. Оджомоко
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: utkin@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
И. В. Шелухина
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: utkin@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Р. Х. Зиганшин
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: utkin@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
В. Г. Старков
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: utkin@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Т. В. Андреева
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: utkin@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
В. И. Цетлин
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: utkin@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Ю. Н. Уткин
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: utkin@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Список литературы
- Osipov A., Utkin Y. // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24. P. 2919. https://doi.org/10.3390/ijms24032919
- Tasoulis T., Pukala T.L., Isbister G.K. // Front. Pharmacol. 2022. V. 12. P. 768015. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.768015
- Hempel B.F., Damm M., Mrinalini, Göçmen B., Karış M., Nalbantsoy A., Kini R.M., Süssmuth R.D. // J. Proteome Res. 2020. V. 19. P. 1731–1749. https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.9b00869
- Olaoba O.T., Karina Dos Santos P., Selistre-deAraujo H.S., Ferreira de Souza D.H. // Toxicon X. 2020. V. 7. P. 100052. https://doi.org/10.1016/j.toxcx.2020.100052
- Vasconcelos A.A., Estrada J.C., David V., Wermelinger L.S., Almeida F.C.L., Zingali R.B. // Front. Mol. Biosci. 2021. V. 8. P. 783301. https://doi.org/10.3389/fmolb.2021.783301
- Liu J.W., Du X.Y., Liu P., Chen X., Xu J.M., Wu X.F., Zhou Y.C. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2000. V. 278. P. 112–118. https://doi.org/10.1006/bbrc.2000.3724
- Limam I., Bazaa A., Srairi-Abid N., Taboubi S., Jebali J., Zouari-Kessentini R., Kallech-Ziri O., Mejdoub H., Hammami A., El Ayeb M., Luis J., Marrakchi N. // Matrix Biol. 2010. V. 29. P. 117–126. https://doi.org/10.1016/j.matbio.2009.09.009
- Souza D.H., Iemma M.R., Ferreira L.L., Faria J.P., Oliva M.L., Zingali R.B, Niewiarowski S., Selistre-deAraujo H.S. // Arch. Biochem. Biophys. 2000. V. 384. P. 341–350. https://doi.org/10.1006/abbi.2000.2120
- Monteiro D.A., Kalinin A.L., Selistre-de-Araujo H.S., Vasconcelos E.S., Rantin F.T. // Toxicon. 2016. V. 110. P. 1–11. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2015.11.012
- Monteiro D.A., Kalinin A.L., Selistre-de-Araújo H.S., Nogueira L.A.N., Beletti M.E., Fernandes M.N., Rantin F.T. // Comp. Biochem. Physiol. C Toxicol. Pharmacol. 2019. V. 215. P. 67–75. https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2018.10.003
- Kryukova E.V., Ivanov D.A., Kopylova N.V., Starkov V.G., Andreeva T.V., Ivanov I.A., Tsetlin V.I., Utkin Yu.N. // Russ. J. Bioorg. Chem. 2023. V. 49. P. 529–537. https://doi.org/10.1134/S1068162023030159
- Gloydius intermedius (STRAUCH, 1868) // The Reptile Database, 2024. https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Gloydius&species=intermedius&search_param=%28%28taxon%3D%27Crotalinae%27%29%29)
- Levine R.L., Moskovitz J., Stadtman E.R. // IUBMB Life. 2000. V. 50. P. 301–307. https://doi.org/10.1080/713803735
- Wang Y.M., Parmelee J., Guo Y.W., Tsai I.H. // Toxicon. 2010. V. 56. P. 93–100. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2010.03.015
- Starkov V.G., Polyak Ya.L., Vulfius E.A., Kryukova E.V., Tsetlin V.I., Utkin Yu.N. // Russ. J. Bioorg. Chem. 2009. V. 35. P. 10–18.] https://doi.org/10.1134/S1068162009010026
- Osipov A.V., Cheremnykh E.G., Ziganshin R.H., Starkov V.G., Nguyen T.T.T., Nguyen K.C., Le D.T., Hoang A.N., Tsetlin V.I., Utkin Y.N. // Biomedicines. 2023. V. 11. P. 1115. https://doi.org/10.3390/biomedicines11041115
- Liu J.W., Du X.Y., Liu P., Chen X., Xu J.M., Wu X.F., Zhou Y.C. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2000. V. 278. P. 112–118. https://doi.org/10.1006/bbrc.2000.3724
- Hong S.Y., Koh Y.S., Chung K.H, Kim D.S. // Thromb. Res. 2002. V. 105. P. 79–86. https://doi.org/10.1016/s0049-3848(01)00416-9
- Brust A., Sunagar K., Undheim E.A., Vetter I., Yang D.C., Casewell N.R., Jackson T.N., Koludarov I., Alewood P.F., Hodgson W.C., Lewis R.J., King G.F., Antunes A., Hendrikx I., Fry B.G. // Mol. Cell. Proteomics. 2013. V. 12. P. 651–663. https://doi.org/10.1074/mcp.M112.023135
- Ryabinin V.V., Ziganshin R.H., Starkov V.G., Tsetlin V.I., Utkin Y.N. // Russ. J. Bioorg. Chem. 2019. V. 45. P. 107–121. https://doi.org/10.1134/S1068162019020109
- Rappsilber J., Mann M., Ishihama Y. // Nat. Protoc. 2007. V. 2. P. 1896–1906. https://doi.org/10.1038/nprot.2007.261
- Geyer P.E., Kulak N.A., Pichler G., Holdt L.M., Teupser D., Mann M. // Cell Syst. 2016. V. 2. P. 185–195. https://doi.org/10.1016/j.cels.2016.02.015
- Ma B., Zhang K., Hendrie C., Liang C., Li M., DohertyKirby A., Lajoie G. // Rapid Commun. Mass Spectrom. 2003. V. 17. P. 2337–2342. https://doi.org/10.1002/rcm.1196
- Lebedev D.S., Kryukova E.V., Ivanov I.A., Egorova N.S., Timofeev N.D., Spirova E.N., Tufanova E.Y., Siniavin A.E., Kudryavtsev D.S., Kasheverov I.E., Zouridakis M., Katsarava R., Zavradashvili N., Iagorshvili I., Tzartos S.J., Tsetlin V.I. // Mol. Pharmacol. 2019. V. 96. P. 664–673. https://doi.org/10.1124/mol.119.117713
Дополнительные файлы