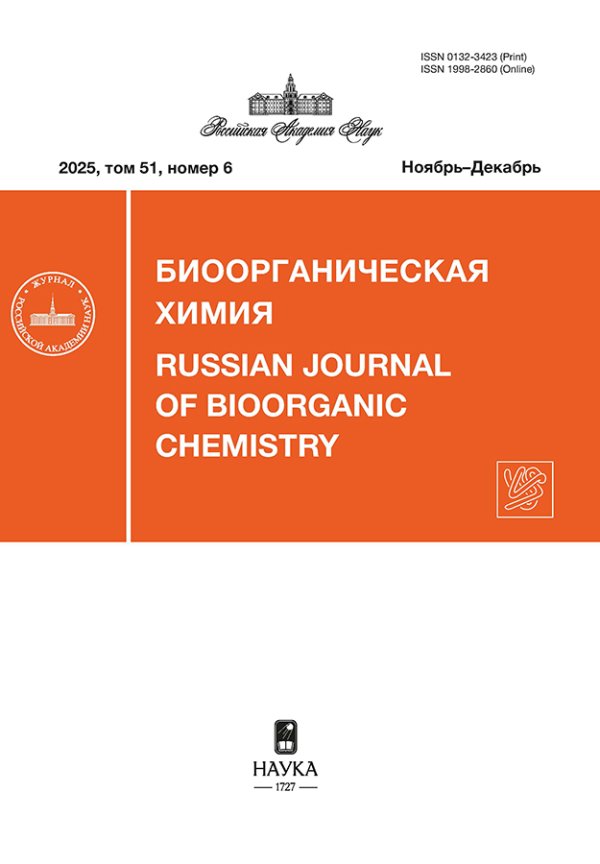Isoforms of the cytoskeletal lim-domain protein zyxin in the early embryogenesis of Xenopus laevis
- Authors: Ivanova E.D.1, Parshina E.A.2, Zaraisky A.G.2, Martynova N.Y.2
-
Affiliations:
- Pirogov Russian National Research Medical University
- Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS
- Issue: Vol 50, No 3 (2024)
- Pages: 287-294
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-3423/article/view/261477
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324030077
- EDN: https://elibrary.ru/NZUWKW
- ID: 261477
Cite item
Full Text
Abstract
Zyxin is a conserved mechanosensitive LIM-domain protein that regulates the assembly of F-actin filaments at cell junctions. At the same time, under mechanical stress, it can move from focal adhesions to stress fibrils and into the nucleus and affect gene expression. In Xenopus laevis embryonic cells, western blots with antibodies against Zyxin’s N-terminal and C-terminal LIM-domain regions revealed two full-length and two short isoforms. The intracellular localization of these isoforms and the number depending on the stage of embryo development were determined. According to our study, full forms with different electrophoretic mobility are localized differently in the cell, and the shortest isoform containing LIM-domains is stable during development, mainly located in the nucleus, and participates in gene expression regulation. This study may be of great value to understanding how the LIM-domain mechanotransducer proteins jointly influence morphogenesis and differentiation in vertebrates at early stages of development.
Full Text
Сокращения: LIM – от первых букв названий трех белков, у которых был впервые описан данный домен: LIN-11, Isl-1 и MEC-3; NES – сигнал ядерного транспорта (nuclear export signal).
ВВЕДЕНИЕ
Изучение функционирования высококонсервативных механочувствительных белков, к которым относится зиксин, представляет большой интерес, потому что форма эмбрионов всех животных в период развития создается организованной работой морфогенетических процессов, таких как растяжение, изгибание или сворачивание эмбриональных клеточных пластов, и строго контролируемым переходом клеток к дифференцированному статусу. Консерватизм ранних этапов эмбриогенеза у позвоночных позволяет использовать животных, развитие которых протекает во внешней среде (эмбрионы Xenopus laevis, рыбки Danio rerio), в качестве модельных организмов, поэтому исследования с использованием этих моделей имеют не только фундаментальную ценность, но и могут быть полезны в медицинских исследованиях.
Молекула белка зиксина X. laevis состоит из 664 а.о. и содержит три консервативных для всех позвоночных региона: пролин-богатую N-концевую область, лейцин-богатый сигнал экспорта из ядра (NES – nuclear export signal) и С-концевой фрагмент с тремя LIM-доменами (рис. 1а) [1].
Рис. 1. Схемы доменной и пространственной организации молекулы зиксина и делеционных конструкций, использованных в работе: (а) – схема доменной структуры полноразмерной молекулы зиксина, сверху обозначены номера аминокислотных остатков для всех представленных на рисунке доменов зиксина: P-домен 120–147 а.о. (пролин-богатый домен), протеолиз 334–340 а.о. (сайт возможного протеолитического расщепления), NES 438–458 а.о. (сигнал экспорта из ядра) и LIM-доменная область 469–659 а.о.; (б) – схема “закрытой” конформации молекулы зиксина; (в) – пространственная трехмерная структура зиксина, полученная по данным базы PhosphoSitePlus® (https://www.phosphosite.org); (г) – схема С-концевого делеционного мутанта, использованного для получения антител к С-зиксину; (д) – схема N-концевого делеционного мутанта, использованного для получения антител к N-зиксину; (е) – схема укороченного по сайту протеолиза делеционного мутанта зиксина (∆зиксина).
N-конец зиксина необходим для взаимодействия с белками цитоскелета, прежде всего с белком, сшивающим актиновые филаменты α-актинина [2, 3], модулятором сборки актина Ena/VASP [4], цитоскелетными белками LASP-1 и LASP-2 [2]. Пролин-богатые повторы в зиксине похожи на пролин-богатые последовательности в белке ActA внутриклеточной бактерии Listeria monocytogenes [5], патогенность которой обусловлена способностью собирать актиновые филаменты на поверхности клетки. Белок ActA притягивает белки клеточных контактов Ena/VASP на место сборки актина [6]. Благодаря наличию пролин-богатых повторов зиксин, так же как и ActA, является посредником в соединении членов семейства Ena/VASP с актином и участвует в изменениях актинового цитоскелета в эукариотических клетках [7].
NES – лейцин-богатые области, которые участвуют в связывании зиксина с белком CRM1 для выхода из клеточного ядра в цитоплазму [5, 8].
C-концевой участок зиксина содержит три LIM-домена. LIM-домен – это Cys- и His-богатая последовательность длиной 60 а.о. Каждый LIMдомен имеет структуру двух цинковых пальцев. LIM-домены опосредуют специфические взаимодействия белок–белок и белок–ДНК [9]. В работе по участию LIM-доменных белков в механотрансдукции показано, что зиксин связывается своей LIM-доменной областью с F-актином в условиях напряжения и распределяется вдоль стресс-фибрилл [10]. Интересно, что свободная молекула зиксина в цитоплазме имеет “закрытую” конформацию “голова к хвосту”, которая должна быть фосфорилирована по Ser142 с помощью Act2-киназы [11, 12], ацетилирована [13, 14] или пальмитилирована [15], чтобы позволить зиксину образовывать комплексы с другими белками (рис. 1б). LIM-домены “открытого” зиксина представляют собой платформу для сборки различных белковых комплексов, прежде всего, ансамбля регуляторов транскрипции [16].
Недавно была опубликована работа по изучению пептидного репертуара в экссудатах ран у млекопитающих [17]. Среди идентифицированных белковых последовательностей были обнаружены два укороченных фрагмента зиксина. Показано, что этот белок подвержен протеолизу по сайту серинпептидазы 1 HtrA с образованием легкой формы 254–572 а.о., которая способна перемещаться в ядро и принимает участие в активации ряда транскрипционных регуляторов, участвующих в повышении адаптационных свойств в раневой поверхности. Имеются данные о том, что этот укороченный зиксин продуцируется при высокой плотности клеток и может регулировать количество связанных с раной белков во время заживления кожных ран [17]. Известно также, что синтезированный в условиях бесклеточного синтеза зиксин может быть субстратом для расщепления каспазами in vitro при инкубации в бесклеточном апоптотическом лизате S100 и in vitro в лизате клеточной линии HEK293 с активированной апоптотической активностью [18].
Примечательно, что на фоне довольно интенсивного изучения функций зиксина в культуре клеток работ, в которых бы исследовались аналогичные функции зиксина в эмбриогенезе, немного. Наиболее интересная работа посвящена изучению роли зиксина в стабилизации синаптических контактов во время развития синапсов в механосенсорных нейронах у круглого червя Caenorhaditis elegans. Зиксин из C. elegans, как и гомолог позвоночных, содержит N-концевую область, богатую пролином, и три тандемно расположенных С-концевых LIM-домена. В этой работе неожиданно было показано, что нейронная функция зиксина опосредуется короткой С-концевой изоформой, содержащей только LIM-домены, т.е. эта изоформа работает как полнофункциональный белок, способный к трансдукции механических реакций совершенно независимо от N-концевого домена [19].
Основной задачей данного исследования было выявление эндогенных изоформ зиксина из X. laevis и получение информации об изменениях в их количестве и внутриклеточной локализации, которые могут происходить с этими изоформами в ходе эмбрионального развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основной инструмент для детекции эндогенных белков – специфические антитела. Для проведения исследования нами были использованы поликлональные антитела, специфичные к C-концевой области зиксина, содержащей последовательность ядерного экспорта NES и три LIM-домена (438–663 а.о.), полученные нами ранее [1] (рис. 1г). Эти антитела имеют недостаток – они детектируют только LIM-доменную область зиксина и, соответственно, не могут детектировать его N-концевые укороченные изоформы. Поэтому мы получили поликлональные антитела к N-концевой пролин-богатой области зиксина (1–373 а.о.), которая участвует во взаимодействии с актинином и другими цитоскелетными белками (рис. 1а, схема полноразмерного белка зиксина).
Таким образом, в нашем распоряжении были антитела, которые специфично детектировали С-концевой и N-концевой фрагменты зиксина.
Зародыши X. laevis получали по стандартной отработанной схеме [20]. Зародыши собирали на стадиях от начала дробления (32 бластомера), стадии гаструлы (11-я стадия) до стадии подвижного головастика (26-я стадия) по 20 эмбрионов на стадию и проводили разделение на ядерную и цитоплазматическую фракции для каждой стадии по методике, опубликованной ранее [21]. Из полученных ядерных и цитоплазматических фракций готовили образцы для анализа методом вестерн-блоттинга после разделения в 10%-ном ПААГ по Лэммли. Изоформы зиксина детектировали с использованием поликлональных антител к N- и С-зиксину, в качестве вторичных антител использовали антикроличьи антитела, конъюгированные с щелочной фосфатазой.
В результате применения антител, специфичных к различным доменам белка зиксина, нам удалось детектировать его изоформы, укороченные с N- и С-концов, проследить их распределение между ядром и цитоплазмой, а также выявить изменения, происходящие с этими изоформами в ходе развития эмбриона. Прежде всего с использованием имеющихся антител были выявлены полноразмерные формы зиксина с молекулярной массой 105 и 70 кДа, которые детектировались антителами как к N-, так и к С-доменам (рис. 2а). Поскольку расчетная молекулярная масса немодифицированного белка без посттрансляционных модификаций составляет ~70 кДа, то полноразмерный зиксин c массой 105 кДа представляет собой модифицированную изоформу.
Рис. 2. Изоформы зиксина, их стабильность и распределение между ядром и цитоплазмой: (а) – изоформы зиксина, детектируемые антителами к С-зиксину и антителами к N-зиксину в ядерной и цитоплазматической фракциях клеток эмбрионов на 11-й стадии; (б) – изменения количества укороченных форм зиксина в ходе развития, детекция антителами к С-зиксину и антителами к N-зиксину, в качестве референсной полосы использовали α-тубулин; (в) –электрофоретическая подвижность укороченного мутанта ∆зиксина (334– 664 а.о.) совпадает с эндогенной изоформой С-зиксина 37 кДа, детекция антителами к С-зиксину.
Наиболее изученная модификация зиксина млекопитающих – фосфорилирование по аминокислотному остатку Ser 142 [11, 12], кроме этого остатка в молекуле зиксина имеется еще 35 потенциальных участков фосфорилирования (по данным базы PhosphoSitePlus®, https://www. phosphosite.org). Поскольку известно, что фосфорилирование сильно замедляет электрофоретическую подвижность белков [22], наиболее вероятная модификация полноразмерной формы – именно фосфорилирование. Есть также работы, в которых показана возможность обратимых модификаций полноразмерного зиксина, таких как пальмитилирование и ацетилирование [13–15]. Возможно, сразу несколько модификаций приводит к замедлению электрофоретической подвижности полноразмерного зиксина.
В результате разделения лизатов из клеток зародышей на ядерную и цитоплазматическую фракции нам удалось показать, что у X. laevis модифицированная и немодифицированная формы полноразмерного зиксина имеют различия во внутриклеточной локализации: в цитоплазматической фракции преобладает форма 105 кДа, а в ядерной – 70 кДа (рис. 2а); в ходе развития уровень этих форм существенно не изменяется. При понижении уровня экспрессии зиксина за счет подавления трансляции его мРНК морфолиновыми олигонуклеотидами мы наблюдали уменьшение интенсивности обеих полос в вестерн-блот-анализе лизатов из зародышей на 13-й стадии с использованием антител к С-зиксину (данные не приведены).
При вестерн-блот-анализе лизатов из зародышей на ранних стадиях развития (начиная с 32-клеточного зародыша) мы заметили, что антитела к разным доменам зиксина детектируют более легкие полосы с разной электрофоретической подвижностью. Так, при использовании антител к С-зиксину детектируется полоса с подвижностью в области 37 кДа, а при использовании антител к N-зиксину – полоса в области 45 кДа (рис. 2б).
При этом следует отметить, что перекрестное окрашивание полностью отсутствует, антитела к разным доменам детектируют строго определенные полосы, т.е. можно сказать, что нам удалось “увидеть” две половины молекулы зиксина, которые, вероятнее всего, появились в результате протеолитического расщепления. Наиболее интенсивной полосой, соответствующей укороченному зиксину, была полоса 37 кДа, которая детектировалась антителами к С-зиксину как в ядерной, так и в цитоплазматической фракции на ранних стадиях, но уже начиная со стадии гаструлы ее интенсивность в цитоплазме резко падала и в ходе дальнейшего развития исчезала, тогда как в ядре она оставалась хорошо детектируемой до стадии подвижного головастика (26-я стадия) (рис. 2б). Поскольку эта полоса окрашивается только антителами к С-зиксину, можно предположить, что это С-концевая, LIM-доменная часть молекулы зиксина, укороченная с N-конца (С-зиксин).
При использовании антител к N-зиксину для детекции в образцах из лизата зародышей на ранних стадиях (32 бластомера) мы наблюдали полосу 45 кДа в ядерной и цитоплазматической фракциях. Эта полоса имеет значительно меньшую интенсивность по сравнению с полосой 37 кДа; в ходе развития полоса сильно ослабевает и к 26-й стадии детектируется очень слабо, особенно в ядре (рис. 2б). При этом полосы 105 и 70 кДа не меняют своей интенсивности в зависимости от стадии. Полоса 45 кДа окрашивается только при использовании антител к N-зиксину и совсем не детектируется антителами к С-зиксину, поэтому можно предположить, что это укороченная с С-конца изоформа (N-зиксин). Во всех экспериментах нормирование количества нанесенного образца проводили по полосе тубулина с использованием моноклональных антител к тубулину (Sigma, США).
Таким образом, нам удалось детектировать две стабильные ядерные изоформы зиксина: полноразмерную немодифицированную (70 кДа) и LIM-доменную С-концевую укороченную изоформу (37 кДа). В небольшом количестве в ядре наблюдается и изоформа 105 кДа, которая слабо детектируется антителами к N-зиксину, что может быть связано с модификациями N-области этой изоформы. Изоформа 105 кДа – мажорная и самая стабильная в цитоплазматической фракции, детектируется двумя типами антител. Изоформа с электрофоретической подвижностью ~45 кДа, которая детектируется антителами к N-зиксину, показала низкую стабильность и хорошо заметна только до стадии гаструлы.
Полученные в работе данные о наличии укороченных форм зиксина в зародышах X. laevis коррелируют с данными работы Sabino et al. [17] об обнаружении укороченных С-концевых форм зиксина при исследовании пептидного репертуара в экссудатах ран млекопитающих. Указанный в этой работе сайт протеолитического расщепления серинпептидазой 1 HtrA совпадает с участком 332–338 а.о. для X. laevis, имеет высококонсервативную последовательность аминокислот APGF/GSF/G в районе 332–338 а.о. При анализе пространственной структуры зиксина из X. laevis видна структурная петля, которая находится в наружной части молекулы и доступна для протеолиза, а LIM-доменная область расположена в центре молекулы и имеет компактную третичную структуру из чередующихся спиралей и структур типа цинковые пальцы (рис. 1в).
Для того чтобы подтвердить, что протеолиз проходит именно по этому участку, мы создали делеционный мутант ∆зиксин (334–664 а.о.) (рис. 1е) и показали, что его электрофоретическая подвижность полностью совпадает с подвижностью эндогенного фрагмента 37 кДа, но экзогенный фрагмент локали-зуется преимущественно в цитоплазме (рис. 2в), тогда как по результатам многих экспериментов большая часть эндогенного зиксина 37 кДа детектируется в ядерной фракции.
Кроме этого, с использованием специфических антител мы показали, что N-концевой фрагмент зиксина также присутствует в ядре. Это интересный и новый результат, поскольку известно, что N-концевая область взаимодействует с белками цитоскелета – последовательность 16– 36 а.о. является сайтом для связывания α-актинина. Поэтому можно было бы предложить гипотезу, что биологическая функция протеолиза молекулы зиксина заключается в диссоциации его LIM-доменной области от области, связанной с белками цитоскелета, и ее транслокации в ядро, где появляется возможность для взаимодействия с регуляторными факторами транскрипции.
Но по результатам наших исследований N-концевой фрагмент зиксина с массой 45 кДа присутствует в ядре на ранних стадиях развития. Данных о функции N-концевого фрагмента в ядре пока нет в мировой литературе. Считается, что эта область отвечает за взаимодействие с белками цитоскелета, поэтому феномен появления N-концевого фрагмента в ядре на стадиях начала дробления заслуживает дальнейшего изучения.
Не менее интересным и важным для дальнейших исследований представляется обнаружение эндогенного С-концевого, содержащего LIM-домен фрагмента зиксина с массой 37 кДа и его ядерной локализации. Ранее с использованием модели эмбрионов X. laevis мы показали, что в эмбриогенезе именно за счет своей LIM-доменной области зиксин выполняет важные для развития функции: 1) модулирует активность регулятора передних отделов мозга, транскрипционного фактора Xanf1 [23, 24]; 2) регулирует активность сигнальных путей SHH (sonic hedgehog) [25]; 3) оказывает влияние на стабильность мРНК маркеров плюрипотентности семейства Pou 5F3, гомологов известного фактора стволовых клеток Oct 4 и рецептора ретиноидов Rxrg [26, 27]. Во всех работах с использованием методов двугибридной дрожжевой системы и коиммунопреципитации мы доказали, что транскрипциoнные факторы, такие как Xanf1, Gli1, Zic1 и Ybx1, взаимодействуют именно с LIMдоменной областью, причем для всех приведенных белков было показано, что взаимодействие с полноразмерным зиксином значительно слабее, чем взаимодействие с его LIM-доменным фрагментом. Для коиммунопреципитации мы использовали экзогенный С-концевой фрагмент, несущий пептидные метки для возможности соосаждения белковых комплексов с применением смол с иммобилизованными коммерческими антителами. Экспрессия меченых пептидами белков в клетках эмбрионов достигается за счет микроинъекций синтетических мРНК в зародыши на стадии первого деления, и количество таких экзогенных белков превышает уровень эндогенных. Поэтому ослабление связывания исследуемых факторов с эндогенным полноразмерным зиксином не вызывало у нас сомнений. Идентификация укороченного эндогенного С-концевого фрагмента, содержащего LIM-домены, ставит вопрос о том, какая (полноразмерная или укороченная) изоформа зиксина участвует во взаимодействии с найденными ранее партнерами – транскрипционными факторами, и может ли укороченная изоформа модулировать активность соответствующих сигнальных каскадов.
Поскольку в настоящей работе мы получили уникальные данные о внутриклеточном распределении модифицированной и немодифицированной полноразмерной форм зиксина, а также об укороченных изоформах зиксина X. laevis, необходимо дальнейшее изучение возникновения и возможного влияния этих изоформ на генную экспрессию в процессе эмбриогенеза.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Получение моноспецифичных антител к N- и C-фрагментам зиксина. Антитела к С-концевому фрагменту зиксина были получены нами ранее по методике, представленной в работе Martynova et al. [1].
Антисыворотка против N-концевого фрагмента зиксина (UniProt: A5H447) наработана в результате иммунизации кролика укороченным белком, содержащим 1–373 а.о. Соответствующую вставку кДНК клонировали в вектор pQE80 (Qiagen, США) и экспрессировали гибридный белок, несущий шесть остатков His и Myc-пептид на N-конце, в Escherichia coli DH-5α. Для иммунизации экспрессированный в бактериальной системе белок очищали с помощью Ni-NTA-хроматографии и детектировали количество и степень очистки при помощи иммуноблоттинга с антителами к 6His и Myc-пептиду, конъюгированными с щелочной фосфатазой.
Иммунизацию кролика (здоровая самка, 1 год, вес 1.8 кг, Питомник лабораторных животных – Филиал “Столбовая”, Россия) проводили по методике Martynova et al. [1] с использованием полного и неполного адъюванта Фрейнда (Sigma, США).
Для получения моноспецифических антител была создана аффинная колонка на основе BrCN-сефарозы (Sigma, США) с иммобилизованным гибридным с GST (глутатион-S-трансфераза, глутатион-связывающий белок) N-фрагментом зиксина.
Для приготовления такой аффинной колонки последовательность, кодирующую N-домен зиксина (1–373 а.о), клонировали в вектор pGEX-4T-1 (Pharmacia, Швеция). Экспрессию белка GST-N-зиксина осуществляли в E. coli BL21. Выделение гибридного c GST белка из бактериального лизата проводили при помощи аффинной хроматографии на глутатион-агарозе, очищенный белок использовали для ковалентного сшивания с BrCN-сефарозой (Sigma, США). Очистку моноспецифических антител на аффинной колонке проводили по стандартной методике Martynova et al. [1].
Получение зародышей, разделение лизата на ядерную и цитоплазматическую фракции и подготовка образцов для вестерн-блот-анализа. Зародышей X. laevis получали в результате оплодотворения in vitro по методике, разработанной ранее [1]. Зародышей инкубировали в растворе 0.1 MMR (модифицированный раствор Рингера для культивирования зародышей амфибий (0.1 MMR): 0.1 М NaCl, 2.0 мМ KCl, 1 мМ MgCl2 . 6H2O, 2 мМ CaCl2 . 2H2O, 5 мМ HEPES, pH 7.4) до стадии 32 бластомера, стадии гаструлы (12 стадия), стадии подвижного головастика (26-я стадия). На каждой стадии отбирали по 20 зародышей, половину зародышей использовали для приготовления лизата в буфере для коиммунопреципитации (1× буфер (pH 7.2–7.4): 137 мМ NaCl, 2.7 мМ KCl, 8.1 мМ Na2HPO4 . 7H2O, 1.5 мМ KH2PO4, 1% Triton-X100). Зародыши гомогенизировали пипетированием, полученный грубый лизат центрифугировали 30 мин при 15 000 g, отбирали супернатант и готовили образцы для электрофореза по стандартной методике. Другую половину зародышей использовали для разделения лизата на ядерную и цитоплазматическую фракции по ранее опубликованной методике [21] c небольшой модификацией – ядра после очистки в 0.8 М сахарозе растворяли в буфере для коиммунопреципитации и центрифугировали 30 мин при 16 000 g и 4°С. Супернатант использовали для приготовления образцов для электрофореза.
SDS-PAGE. Образцы анализировали с помощью SDS-PAGE в 10%-ных гелях по методу Лэммли и подвергали электроблоттингу на PVDF-мембране (Millipore Corp. Inc. Франция). В качестве первичных антител использовали моноспецифичные поликлональные антитела кролика к С- или N-зиксину и моноклональные антитела к α-тубулину (Sigma, США) в качестве референсных антител. В качестве вторичных антител использовали козий антикроличий Fab-фрагмент антитела, конъюгированный с щелочной фосфатазой (Sigma, США), и антимышиный Fab-фрагмент антитела, конъюгированный с щелочной фосфатазой (Sigma, США). Для детекции использовали стабилизированный субстрат для щелочной фосфатазы Western Blue (Promega, США). Результаты электрофореза и блоттинга оценивали визуально по окраске колометрического субстрата. Эксперименты по анализу изменений в экспрессии и локализации изоформ зиксина на проявленных специфическими антителами PVDF-мембранах проводили в более чем трехкратной повторности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представленной работе мы обнаружили, что зиксин из X. laevis имеет несколько изоформ: помимо полноразмерного модифицированного белка с молекулярной массой ~105 кДа мы детектировали немодифицированную форму зиксина с приблизительной молекулярной массой 70 кДа и две укороченные формы 45 и 37 кДа. Мы установили, что количество и внутриклеточное распределение коротких форм зависит от стадии развития эмбриона. Показано, что на начальных стадиях развития количество укороченных ядерных форм 45 и 37 кДа увеличено, но в процессе гаструляции и нейруляции, когда начинается движение клеточных слоев и возникают поля механических напряжений, преобладает цитоплазматическая форма зиксина 105 кДа и ядерные формы 70 и 37 кДа. В результате проведенной работы впервые получен важный блок данных об изменении уровня и локализации изоформ механочувствительного белка зиксина в эмбриональном развитии, что может быть связующим звеном в передаче генному аппарату механических напряжений, которые возникают в эктодерме и мезодерме эмбриона в ходе формирования его осевых структур.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-25-00227 (https://rscf.ru/project/23-25-00227/).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Все применимые международные, национальные и/или институциональные принципы ухода и использования животных были соблюдены.
Эксперименты на животных одобрены комиссией Института биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН по контролю и использованию лабораторных животных (протокол-заявка, рег. № 249).
About the authors
E. D. Ivanova
Pirogov Russian National Research Medical University
Email: martnat61@gmail.com
Russian Federation, ul. Ostrovitianova 1, Moscow, 117997
E. A. Parshina
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS
Email: martnat61@gmail.com
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
A. G. Zaraisky
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS
Email: martnat61@gmail.com
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
N. Y. Martynova
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry RAS
Author for correspondence.
Email: martnat61@gmail.com
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
References
- Martynova N.Y., Eroshkin F.M., Ermolina L.V., Ermakova G.V., Korotaeva A.L., Smurova K.M., Gyoeva F.K., Zaraisky A.G. // Dev. Dyn. 2008. V. 237. P. 736–749. https://doi.org/10.1002/dvdy.21471
- Li B., Zhuang L., Trueb B. // J. Biol. Chem. 2004. V. 279. P. 20401–20410. https://doi.org/10.1074/jbc.M310304200
- Reinhard M., Zumbrunn J., Jaquemar D., Kuhn M., Walter U., Trueb B. // J. Biol. Chem. 1999. V. 274. P. 13410–13418. https://doi.org/10.1074/jbc.274.19.13410
- Steele A.N., Sumida G.M., Yamada S. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2012. V. 422. P. 653–657. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2012.05.046
- Beckerle M.C. // Bioessays. 1997. V. 19. V. 949–957. https://doi.org/10.1002/bies.950191104
- Fradelizi J., Noireaux V., Plastino J., Menichi B., Louvard D., Sykes C., Golsteyn R.M., Friederich E. // Nat. Cell Biol. 2001. V. 3. P. 699–707. https://doi.org/10.1038/35087009
- Oldenburg J., van der Krogt G., Twiss F., Bongaarts A., Habani Y., Slotman J.A., Houtsmuller A., Huveneers S., de Rooij J. // Sci. Rep. 2015. V. 5. P. 17225. https://doi.org/10.1038/srep17225
- Dong X., Biswas A., Süel K.E., Jackson L.K., Martinez R., Gu H., Chook Y.M. // Nature. 2009. V. 458. P. 1136–1141. https://doi.org/10.1038/nature07975
- Kadrmas J.L., Beckerle M.C. // Nat. Rev. Mol. Cell. Biol. 2004. V. 5. P. 920–931. https://doi.org/10.1038/nrm1499
- Sun X.M., Bowman A., Priestman M., Bertaux F., Martinez-Segura A., Tang W., Whilding C., Dormann D., Shahrezaei V., Marguerat S. // Curr. Biol. 2020. V. 30. P. 1217–1230. https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.01.053
- Moody J.D., Grange J., Ascione M.P., Boothe D., Bushnell E., Hansen M.D. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2009. V. 378. P. 625–628. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2008.11.100
- Call G.S., Chung J.Y., Davis J.A., Price B.D., Primavera T.S., Thomson N.C., Wagner M.V., Hansen M.D // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2011. V. 404. P. 780– 784. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2010.12.058
- Fujita Y., Yamaguchi A., Hata K., Endo M., Yamaguchi N., Yamashita T. // BMC Cell Biol. 2009. V. 10. P. 6. https://doi.org/10.1186/1471-2121-10-6
- Zhao Y., Yue S., Zhou X., Guo J., Ma S., Chen Q. // J. Biol. Chem. 2022. V. 298. P. 101776. https://doi.org/10.1016/j.jbc.2022.101776
- Oku S., Takahashi N., Fukata Y., Fukata M. // J. Biol. Chem. 2013. V. 288. P. 19816–19829. https://doi.org/10.1074/jbc.M112.431676
- Wang Y.X., Wang D.Y., Guo Y.C., Guo J. // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2019. V. 23. P. 413–425. https://doi.org/10.26355/eurrev_201901_16790.
- Sabino F., Madzharova E., Auf dem Keller U. // Cell Death Dis. 2020. V. 11. P. 674. https://doi.org/10.1038/s41419-020-02883-2
- Chan C.B., Liu X., Tang X., Fu H., Ye K. // Cell Death Different. 2007. V. 14. P. 1688–1699. https://doi.org/10.1038/sj.cdd.4402179
- Lecroisey C., Brouilly N., Qadota H., Mariol M.C., Rochette N.C., Martin E., Benian G.M., Ségalat L., Mounier N., Gieseler K. // Mol. Biol. Cell. 2013. V. 24. P. 1232–1249. https://doi.org/10.1091/mbc.e12-09-0679
- Martynova N.Y., Parshina E.A., Ermolina L.V., Zaraisky A.G. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2018. V. 504. P. 251–256. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2018.08.164
- Martynova N.Y., Parshina E.A., Zaraisky A.G. // STAR Protoc. 2021. V. 2. P. 100449. https://doi.org/10.1016/j.xpro.2021.100449
- Lee C.R., Park Y.H., Min H., Kim Y.R., Seok Y.J. // J. Microbiol. 2019. V. 57. P. 93–100. https://doi.org/10.1007/s12275-019-9021-y
- Martynova N.Y., Parshina E.A., Zaraisky A.G. // FEBS J. 2023. V. 290. P. 66–72. https://doi.org/10.1111/febs.16308
- Martynova N.Y., Ermolina L.V., Eroshkin F.M., Gioeva F.K., Zaraisky A.G. // Russ. J. Bioorg. Chem. 2008. V. 34. P. 513–516.
- Martynova N.Y., Parshina E.A., Eroshkin F.M., Zaraisky A.G. // Russ. J. Bioorg. Chem. 2020. V. 46. P. 530–536. https://doi.org/10.31857/S013234232004020X
- Parshina E.A., Eroshkin F.M., Оrlov E.E., Gyoeva F.K., Shokhina A.G., Staroverov D.B., Belousov V.V., Zhigalova N.A., Prokhortchouk E.B., Zaraisky A.G., Martynova N.Y. // Cell Rep. 2020. V. 33. P. 108396. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.108396
- Parshina E.A., Orlov E.E., Zaraisky A.G., Martynova N.Y. // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 23. P. 5627. https://doi.org/10.3390/ijms23105627
Supplementary files