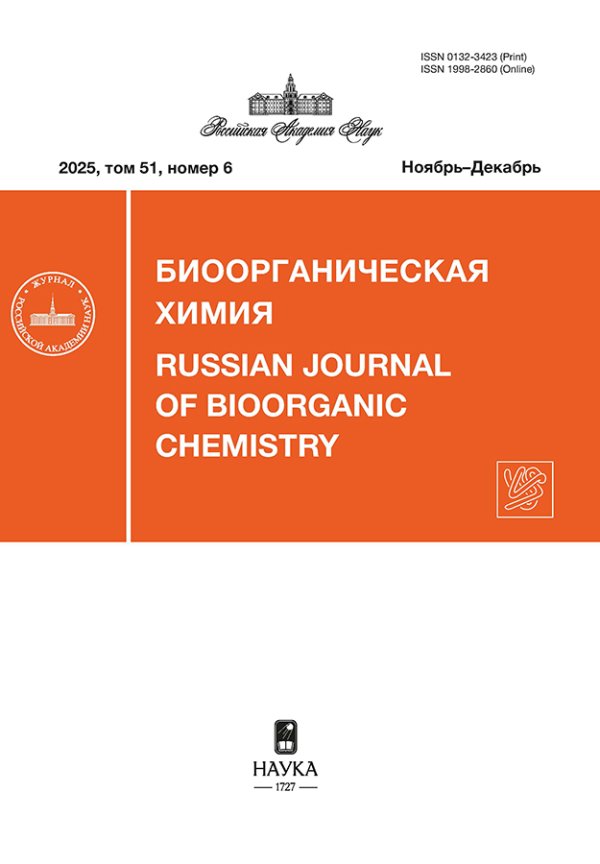Promising Directions for Regulating Signaling Pathways Involved in the Type 2 Diabetes Mellitus Development
- Authors: Borozdina N.A.1,2, Popkova D.V.3, Dyachenko I.A.1,2
-
Affiliations:
- Branch of the Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
- Branch of the Russian Biotechnological University (ROSBIOTECH)
- G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 50, No 4 (2024)
- Pages: 412-435
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-3423/article/view/267313
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324040057
- EDN: https://elibrary.ru/MXCDMS
- ID: 267313
Cite item
Full Text
Abstract
Many studies confirm that substances of natural origin have a pronounced affinity for type 2 diabetes mellitus (T2DM) therapeutic targets. At the moment, there is growing interest in bioactive peptides, phytochemicals, and drugs from other natural sources as highly effective, safe and promising antidiabetic agents. Natural sources are a promising resource for regulating several pathological pathways in T2DM. The review describes ways to mitigate insulin resistance and tissue sensitivity to glucose through PTP1β (protein tyrosine phosphatase 1β), GLP-1R (glucagon-like peptide receptor), DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4), AMPK (adenosine monophosphate activated protein kinase), MAPK (mitogen-activated protein kinase). Regulation of obesity and oxidative stress development through CCN3 (nephroblastoma overexpressed gene), PPAR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor γ), Nrf2 (nuclear factor erythroid-related factor 2), FFAR (free fatty acid receptors), 11β-HSD1 (11β-hydroxysteroid dehydrogenase). Regulation of hyperglycemia through alpha-amylase inhibitors, regulation of glucose metabolism through GFAT (glutamine fructose-6-phosphate aminotransferase), FOXO1 (forkhead box protein O1), GLUT4 (glucose transporter type 4), PGC-1α (receptor gamma coactivator 1α activating peroxisome proliferator). The review examines the use of natural sources, from which low-molecular-weight and peptide compounds are used as T2DM targets modulators.
Full Text
Сокращения: СД2 – сахарный диабет 2-го типа; GLUT4 – глюкозный транспортер 4-го типа; IRS1 – субстрат инсулинового рецептора 1; PI3K – фосфоинозитид-3-киназа; MAPK – митоген-активируемая протеинкиназа; PTP1β – протеинтирозинфосфатаза 1β; AMPK – 5'-аденозинмонофосфат-активируемая протеинкиназа; Erk1 – внеклеточная сигнал-регулируемая киназа 1; SIRT1 – сиртуин 1; PGC-1α – транскрипционный коактиватор рецептора γ, активирующий пролифератор пероксисомы 1; FOXO1 – фактор транскрипции, кодируемый геном FOXO1; mTOR – мишень пути рапамицина; 11β-HSD1 – 11β-гидроксистероиддегидрогеназа; FFA – свободные жирные кислоты; GLP-1 – глюкагоноподобный пептид-1; GIP – глюкозозависимый инсулинотропный полипептид; DPP-4 – дипептидилпептидаза-4; SGLT2 – натрий-глюкозный котранспортер 2-го типа; QSAR – количественное соотношение структура–свойство; GFAT – глутаминфруктозо-6-фосфатаминотрансфераза; CCN3 – сверхэкспрессируемый ген нефробластомы; PPAR-γ – гамма-рецептор, активируемый пролифератором пероксисом; Nrf2 – ядерный фактор, связанный с эритроидным фактором 2.
1. ВВЕДЕНИЕ
Около 422 миллионов человек во всем мире живут с сахарным диабетом, большинство из них – из стран с низким и средним уровнем дохода; с диабетом напрямую связаны 1.5 миллиона смертей ежегодно. Глобальный отчет Всемирной организации здравоохранения о диабете показывает, что число взрослых, больных сахарным диабетом, увеличилось почти в 4 раза с 1980 г. до 422 миллионов, с предположительным ростом до 693 миллионов человек к 2045 г. [1, 2]. Заболевание характеризуется высоким уровнем глюкозы в крови из-за дефицита концентрации и/или активности инсулина – гормона поджелудочной железы, участвующего в обмене глюкозы [3].
В последнее десятилетие было разработано много пероральных лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа (СД2) [4]. К основным мишеням, на которые действуют данные препараты, относятся стимуляторы секреции инсулина, имитаторы и сенсибилизаторы инсулина, а также ингибиторы α-амилаз [5]. Эффективность и безопасность новых зарегистрированных препаратов еще предстоит подробно изучить [3]. На данный момент в стандартной терапии СД2 в качестве пероральных препаратов широко применяют метформин и акарбозу [6].
Необходимость в разработке терапевтических препаратов с меньшим количеством побочных эффектов до сих пор не удовлетворена из-за ограниченной эффективности более низких доз [7, 8]. В будущем разработка терапевтических средств для лечения сахарного диабета должна следовать целостному подходу. По мнению Kanwal et al. [9], стратегии разработки лекарств должны быть нацелены на изучение механизмов эффективного гликемического контроля. Поиск новых мишеней – важный этап в формировании новых терапевтических стратегий для лечения СД2. Новые препараты должны иметь более выраженную эффективность и смягчать прогрессирование вызванных диабетом сердечно-сосудистых осложнений [9].
У веществ природного происхождения во множестве исследований подтверждено выраженное сродство к мишеням, ответственным за развитие патологических процессов при СД2. На данный момент растет интерес к биоактивным пептидам, фитохимическим препаратам, низкомолекулярным препаратам из других природных источников как к более безопасным и многообещающим противодиабетическим средствам [10, 11].
2. ТРАНСПОРТЕРЫ ГЛЮКОЗЫ (GLUT)
Транспортеры глюкозы (GLUT) переносят глюкозу через клеточные мембраны методом упрощенной диффузии. Поглощение глюкозы клеткой опосредовано GLUT, а метаболизм глюкозы – фосфорилированием глюкокиназой. GLUT4 – это инсулинозависимый переносчик глюкозы, который обнаружен в сердце, скелетных мышцах, жировой ткани и мозге, он присутствует в цитоплазме клеток в везикулах, из которых транслоцируется на плазматическую мембрану под действием инсулина (рис. 1). Такое инсулин-направленное рекрутирование GLUT4 приводит к 10–20-кратному увеличению транспорта глюкозы. Дефектная транслокация GLUT4 – признак инсулинорезистентности, важного предшественника СД2 [12].
2.1. Активаторы GLUT
Выявление изменений в поглощении сахара метаболически нарушенными клетками привело к разработке терапевтических подходов, направленных на транспорт глюкозы. Наряду с развитием диетотерапии были разработаны прямые методы модуляции переноса глюкозы в клетку [13]. Инсулин вызывает быструю транслокацию GLUT4 из везикул в плазматическую мембрану мышечной и жировой ткани [14]. Метформин снижает резистентность клеток к инсулину, индуцируя транслокацию GLUT4 [15]. Основные механизмы, лежащие в основе эффекта метформина на GLUT4-опосредованный транспорт глюкозы, представляют собой изменения в медиаторах сигнального пути инсулина, активацию AMPK, эпигенетические модификации и усиление транспорта через GLUT4 [16].
В настоящее время метформин – препарат первого выбора и наиболее часто используемое противодиабетическое лекарственное средство. Первоначально метформин был получен из галегина, обнаруженного в лекарственном растении Galega officinalis [17]. Однако метформин в его эффективных дозах (500 или 1000 мг в сутки) часто вызывает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта и противопоказан при нарушении функции почек [18]. Другие вещества из природных источников также демонстрируют способность активировать GLUT. Экстракт женьшеня (Panax ginseng C.A. Mey) усиливает экспрессию GLUT1 и GLUT4 в печени, мышцах и значительно снижает уровень глюкозы в крови натощак у людей с СД2, добавки с женьшенем в том числе приводили к снижению у людей с СД2 постпрандиального уровня глюкозы (наблюдаемого после приема пищи) [19]. Применение экстракта женьшеня в дозе 200 мг/кг в течение 12 недель у крыс с диабетом приводит к повышению экспрессии GLUT4, что, вероятнее всего, связано с содержанием сапонина гингенозида R1 в экстракте Panax ginseng (табл. 1). Водные экстракты листьев одуванчика Taraxacum officinale оказывают гипогликемическое действие у крыс с диабетом при хроническом введении экстракта в дозе 2.4 г/кг в течение 4 недель. Гипогликемическое действие экстракта связывают с содержанием флавоноидов, фенольных соединений, сапонинов и полисахаридов [20]. Полифенолы экстракта корицы способствуют транслокации GLUT4 в клеточной культуре [21, 22]. Пептиды Glycine max IAVPGEVA, IAVPTGVA и LPYP в концентрации 500 мкМ при инкубации в течение 24 ч в культурах клеток печени усиливают поглощение глюкозы посредством активации GLUT1, GLUT4 и модулируют метаболизм глюкозы путем активации Akt и AMPK [23].
3. СУБСТРАТ ИНСУЛИНОВОГО РЕЦЕПТОРА 1 (IRS1)
Снижение уровня экспрессии мРНК IRS1 – один из основных патологических механизмов развития диабета. IRS1 играет жизненно важную роль в стимулируемом инсулином пути метаболизма глюкозы, а дефект его экспрессии приводит к нарушению метаболизма глюкозы за счет изменений в активности нижестоящих ферментов и киназ [24]. IRS1 – субстрат тирозинкиназы инсулинового рецептора, играющий центральную роль в пути передачи стимулируемого инсулином сигнала (рис. 1). Поэтому ген IRS1 широко изучался как ген-кандидат в терапии СД2 [25]. IRS1 играет доминирующую роль в скелетных мышцах. Он имеет решающее значение для нормального роста и дифференцировки мышечных волокон, инсулинозависимого поглощения глюкозы и синтеза гликогена [26]. IRS1 сам по себе не обладает киназной активностью, но фосфорилируется после связывания с активированными рецепторами. IRS1 фосфорилируется по нескольким остаткам тирозина, которые служат сайтами стыковки для различных сигнальных молекул, каждая из которых затем инициирует отдельные сигнальные пути, которые способствуют усвоению инсулина [27]. Низкие уровни экспрессии и уровня белка IRS1 связаны с развитием резистентности к инсулину и СД2 у людей и мышей, гетерозиготных по нулевым аллелям IR и IRS1. Следовательно, IRS1 – важная мишень в терапии инсулинорезистентности при СД2 [28].
3.1. Активаторы IRS1
Сообщается о биологической активности экстракта кожуры граната Punica granatum как антиоксиданта у крыс с экспериментальным сахарным диабетом, у которых наблюдались заметные увеличения экспрессии уровня мРНК IRS1 при приеме водного экстракта кожуры граната в дозах 100, 200 и 350 мг/кг в течение 21 недели (табл. 1). Можно предположить, что гипогликемические эффекты могут быть усилены за счет восстановления транскрипции IRS1 в печени на фоне диабета. Экстракт Gelidium elegans помимо воды, углеводов и белка имеет высокое содержание полифенолов: 8.79 мг на 1 г водоросли. Полифенолы в составе экстракта G. elegans, применяемые для мышей с диабетом в дозах 50 и 200 мг/кг, активируют сигнальный путь инсулина через IRS1 и фосфоинозитид-3-киназы (PI3K), а также с помощью увеличения уровня экспрессии GLUT4. Параллельно активность митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK) выявлена у крыс с сахарным диабетом, получавших перорально экстракт G. elegans в дозе 200 мг/кг в день в течение 5 недель [29].
4. ПРОТЕИНТИРОЗИНФОСФАТАЗА 1β (PTP1β)
Передача сигналов через инсулиновый рецептор зависит от баланса между фосфорилированием остатков тирозина протеинтирозинкиназами и дефосфорилированием остатков тирозина протеинтирозинфосфатазами. PTP1β дефосфорилирует как инсулиновый рецептор, так и субстрат инсулинового рецептора и служит, таким образом, отрицательным регулятором инсулиновой сигнализации (рис. 1) [30, 31]. Поэтому повышенная экспрессия PTP1β приводит к развитию инсулинорезистентности и снижению толерантности к глюкозе [32].
4.1. Ингибиторы PTP1β
В клинических исследованиях сообщается о неблагоприятных исходах применения ингибиторов PTP1β, что привело к их исключению из II фазы испытаний [32]. Ведутся поиски ингибиторов PTP1β в природных источниках. Корица (Cinnamon verum, Cinnamon zeylanicum, а также корица китайская, вьетнамская и малабарская) содержит большое разнообразие активных молекул в листьях (эвгенол и фенольные соединения – рутин, катехины, кверцетин, кемпферол, изорамнетин), коре (коричный альдегид, коричный спирт, коричная кислота и фенольные соединения – процианидины, MHCP15, катехины), камфору в корнях, а также транс-циннамилацетат в плодах и циннамилацетат в цветах. Структуры фракции полифенолов корицы C. burmannii, очищенной методом ВЭЖХ, представляют собой тримеры, тетрамеры, олигомеры и смеси мономеров процианидина. Фракция полифенолов из корицы имитирует инсулин, повышает чувствительность к инсулину за счет ингибирования PTP1β. Водорастворимая фракция полифенолов из корицы ингибирует тирозинфосфатазу, ингибирует дефосфорилирование и активирует фосфорилирование рецепторов инсулина в клеточной культуре фибробластов мыши (табл. 1) [21, 22]. α-Метилартофлаванокумарин из можжевельника Juniperus chinensis высокоэффективно ингибирует PTP1β и может связываться с каталитическими и аллостерическими сайтами PTP1β при проведении молекулярного докинга. Кроме того, α-метилартофлаванокумарин значительно увеличивает поглощение глюкозы и уменьшает экспрессию PTP1β в культуре инсулинорезистентных клеток печени, подавляет фосфорилирование IRS1 и дозозависимо повышает уровни белка IRS1, киназ PI3K и Erk1 [33].
5. ПУТЬ AMPK/SIRT1/PGC-1α
5'-Аденозинмонофосфат-активируемая протеинкиназа (AMPK) и сиртуин 1 (SIRT1) напрямую влияют на экспрессию транскрипционного коактиватора рецептора γ, активирующего пролифератор пероксисомы 1 (PGC-1α). PGC-1α посредством AMPK и SIRT1 играет важную роль в регуляции энергетического гомеостаза в различных тканях, включая скелетные мышцы. Снижение энергетического запаса клетки приводит к повышению экспрессии AMPK и SIRT1, что, в свою очередь, активирует PGC-1α [34]. AMPK активируется, когда ATP быстро расходуется с образованием большого количества AMP. AMPK увеличивает активность SIRT1, что приводит к деацетилированию PGC-1α (рис. 1). PGC-1α связан с репликацией и биогенезом митохондрий. AMPK – одна из наиболее многообещающих мишеней как для профилактики, так и для лечения СД2 [35]. При сахарном диабете снижение уровня SIRT3 вместе с PGC-1α в скелетных мышцах может привести к митохондриальной дисфункции, усилению окислительного стресса и инсулинорезистентности. Сигнальный путь AMPK/PGC-1α снижает инсулинорезистентность путем модуляции липогенеза в печени и синтеза жирных кислот. Следовательно, активация передачи сигналов инсулина вместе с путем, связанным с AMPK/SIRT/PGC-1α, может быть терапевтическим механизмом для облегчения повреждения скелетных мышц при диабете [36].
PGC-1α поддерживает энергетический гомеостаз и регулирует экспрессию генов инсулина и митохондриального биогенеза и, таким образом, предотвращает митохондриальную дисфункцию и метаболические нарушения, связанные с нарушением функции адипоцитов [36–38]. PGC-1α – нижестоящий сенсор метаболических, гормональных и воспалительных сигнальных молекул. В состоянии голодания α-клетки поджелудочной железы синтезируют и высвобождают глюкагон для поддержания нормального уровня глюкозы в крови. Глюкагон связывается со своим рецептором, присутствующим на гепатоцитах, и впоследствии запускает процесс регулирования PGC-1α. PGC-1α может коактивировать несколько факторов транскрипции, включая ядерный фактор гепатоцитов-4α и фактор транскрипции, кодируемый геном FOXO1 (FOXO1), и, следовательно, контролировать транскрипцию ферментов, регулирующих скорость глюконеогенеза. Однако после еды β-клетки поджелудочной железы синтезируют и выделяют инсулин, связывающийся с его рецептором, что запускает фосфорилирование Akt, которое, в свою очередь, ингибирует PGC-1α. Это приводит к стимуляции синтеза гликогена и торможению глюконеогенеза в печени [36].
Активация AMPK в настоящее время признана многообещающей стратегией для лечения СД2. Так, метформин, один из наиболее широко назначаемых препаратов при СД2, обладает сильным антигипергликемическим эффектом, частично за счет увеличения экспрессии PGC-1α через AMPK [36].
5.1. Регуляторы пути AMPK/SIRT1/PGC-1α
Гинзенозид Rg2 из корня женьшеня Panax ginseng подавляет глюконеогенез в печени посредством сигнального пути AMPK/PGC-1α при инкубации культур клеток HepG2, DU145, HCT116 с гингенозидом в концентрации 25 или 50 мкМ в течение 4 ч (табл. 1) [39]. Берберин, выделенный из Rhizome coptidis, может увеличивать фосфорилирование AMPK и снижать экспрессию PGC-1α при пероральном введении диабетическим крысам в течение 7 дней в дозе 100 мг/кг. Монасцин и анкафлавин, полученные из красного дрожжевого риса, при пероральном введении мышам с сахарным диабетом в течение 5 недель в дозе 5 мг/кг приводит к снижению накопления у мышей жирных кислот, что частично опосредовано активацией AMPK и последующим стимулированием окисления жирных кислот с помощью PGC-1α [40]. Экстракт Lespedeza bicolor содержит множество антиоксидантных соединений (генистеин, кверцетин, даидзеин, катехин, лютеолин и нарингин), при введении экстракта в дозах 100 и 250 мг/кг в течение 12 недель диабетическим мышам наблюдается улучшение метаболизма в скелетных мышцах посредством регуляции пути AMPK/SIRT1/PGC-1α [36].
6. ПУТЬ Akt/Erk1/2/P38 MAPK
Akt представляет собой серин/треониновую протеинкиназу, которая обладает антиапоптотическим действием и является одной из основных последующих мишеней сигнального пути PI3K. Инактивация Akt, ключевого регулятора жизнеспособности клеток, характерна для дегенеративных заболеваний и патологической гибели клеток, вызванной стрессом [41]. Нарушение передачи сигналов через Akt снижает поглощение глюкозы и транслокацию GLUT4, что приводит к развитию СД2 [24]. Сигнальный путь Erk1/2 также участвует в формировании диабетической нейропатии. p38 MAPK, который связан с инициацией апоптоза клеток и остановкой клеточного цикла, экспрессируется в гломерулярных мезангиальных клетках в условиях гипергликемии [41]. Erk1/2 активируются гормонами и факторами роста, участвуют в контроле клеточной пролиферации и дифференцировки путем стимуляции факторов транскрипции [42]. МАРК могут фосфорилировать большое количество протеинкиназ и факторов транскрипции, тем самым регулируя клеточное развитие, выживание и гибель. Активация передачи сигналов MAPK при стрессе обычно прекращается с помощью MAPK-фосфатаз и тирозинфосфатаз [42]. Гипергликемия может привести к нарушению инсулиновой сигнализации за счет активации каскада МАРК. МАРК фосфорилирует IRS1, основную мишень инсулинового сигнального каскада, что приводит к нарушению активности нижестоящих компонентов инсулиновой сигнализации (рис. 1) [43].
6.1. Регуляторы пути Akt/Erk1/2/p38 MAPK
Бетаин из свеклы Beta vulgaris уменьшает фосфорилирование Akt, Erk1/2, p38 MAPK в количестве 1, 5 и 10 мкM в культуре клеток почек мышей, но усиливает его условиях гипергликемии (табл. 1) [41]. Gelidium elegans – красная водоросль, произрастающая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – содержит 8.79 мг полифенолов на 1 г водоросли, а также другие компоненты: углеводы (47.6%), белок (16.9%), влагу (5.1%) и золу (24.1%). Введение водного экстракта диабетическим мышам в дозе 200 мг/кг в течение 5 недель замедляет увеличение массы тела и повышение уровня глюкозы в крови, потенциально за счет активации GLUT4 и Akt, а также блокирования пути MAPK [24].
7. ПУТЬ ФОСФОИНОЗИТИД-3-КИНАЗА (PI3K)/ПРОТЕИНКИНАЗА B (Akt)/МИШЕНЬ ПУТИ РАПАМИЦИНА (mTOR)
Путь PI3K/Akt/mTOR у млекопитающих играет жизненно важную роль в развитии широкого спектра патологических расстройств, в том числе диабета и рака. Инсулин в основном связывается с α-субъединицей инсулиновых рецепторов в печени, скелетных мышцах и жировой ткани, тем самым активируя фосфорилирование IRS1. Фосфорилированный IRS1 связывается с p85, регуляторной субъединицей PI3K, что, в свою очередь, приводит к фосфорилированию Akt и киназы гликогенсинтазы 3 (GSK3) и далее влияет на метаболизм глюкозы путем регулирования синтеза гликогена, глюконеогенеза и транспорта глюкозы (рис. 1). Таким образом, фармакологическое регулирование пути PI3K/Akt/mTOR – перспективная терапевтическая стратегия [44, 45].
7.1. Регулирование пути PI3K/Akt/mTOR
Берберин, извлеченный из этанольного экстракта Coptis chinensis Franch, увеличивает инсулин-индуцированное фосфорилирование тирозина IRS1 и рекрутирование p85 в IRS1, а также, вероятно, снижает инсулинорезистентность за счет регулирования пути PI3K/Akt. Экстракт C. chinensis, содержащий 3.6% берберина, вводимый перорально крысам с диабетом в дозах 80, 120 и 180 мг/кг в течение 24 недель, приводит к снижению гликированного гемоглобина, глюкозы в крови, холестерина и аполипопротеина А1 (табл. 1) [46]. Экстракт листьев Psidium guajava предположительно оказывает антигипергликемический эффект посредством активации сигнального пути PI3K/Akt. Этот эффект связывают с наличием в экстракте флавоноидов, фенольных кислот, тритерпенов и сесквитерпенов. Экстракт Psidium guajava получен путем высушивания листьев и замачивания в дистиллированной воде, его перорально вводили мышам с диабетом в дозе 1638 мг/кг в течение 8 недель, в результате нормализовался липидный обмен и снизилась инсулинорезистентность [47]. Серицин, водорастворимый белок кокона тутового шелкопряда, повышает экспрессию IR, IRS1, PI3K и Akt в печени диабетических крыс при его пероральном введении в дозах 2.4 и 1.8 мг/кг в течение 35 дней [45].
8. 11β-ГИДРОКСИСТЕРОИДДЕГИДРОГЕНАЗА (11β-HSD1)
В качестве перспективной мишени для терапии СД2 рассматривается фермент 11β-HSD1, который катализирует превращение неактивного кортизона в активный кортизол [48]. 11β-HSD1 действует как внутриклеточный переключатель, регулирующий действие глюкокортикоидов. Множество исследований, проведенных в последние десятилетия, подтверждает этиологическую роль 11β-HSD1 при ожирении и СД2 (рис. 1). У мышей с дефицитом 11β-HSD1 наблюдаются повышенная восприимчивость к глюкозе, снижение инсулинорезистентности и глюконеогенеза, улучшение липидного обмена [49]. Таким образом, ингибирование 11β-HSD1 – многообещающая противодиабетическая стратегия.
8.1. Ингибиторы 11β-HSD1
Экстракт плодов Momordica charantia в объемах 10, 30 и 50 мкл с концентрацией сухого экстракта 0.38 г на 0.5 мл DMSO приводит к дозозависимому снижению выхода кортизола из субстрата кортизона in vitro, что опосредовано ингибированием 11β-HSD1. Эффективность экстракта M. charantia, вероятно, обусловлена гоягликозидами, кугуацинами и гоясапонинами, которые содержатся в плодах M. charantia (табл. 1) [49]. Водный экстракт зеленого чая Camellia sinensis имеет более высокую ингибиторную активность 11β-HSD1 по сравнению с экстрактами других видов чая. Экстракт получают путем вымачивания 1 г чая в 10 мл воды в течение 90 мин. Ингибиторная активность экстракта C. sinensis по отношению к 11β-HSD1 обнаруживается in vitro при добавлении в субстрат 50 мкл чайного экстракта, что связывают с наличием фенольных соединений. Этерифицированная форма галловой кислоты (–)-эпигаллокатехина из зеленого чая – наиболее сильнодействующий природный ингибитор 11β-HSD1 [50].
9. FOXO1 (ФАКТОР ТРАНСКРИПЦИИ, КОДИРУЕМЫЙ ГЕНОМ FOXO1)
В поджелудочной железе FOXO1 ответственен за дисфункцию β-клеток, активация FoxO1 индуцирует стресс и апоптоз панкреатических клеток. FOXO1 представляет собой фактор транскрипции, который активируется через пути MAPK, Akt и Pdx1 [51]. FOXO1 также активируется в печени во время состояний, подобных окислительному стрессу, и увеличивает активацию множества генов глюконеогенеза (рис. 1) [52]. Во время ингибирования гена FOXO1 у трансгенных мышей снижалась инсулинорезистентность в жировой ткани и уменьшалась концентрация глюкозы в крови при проведении глюкозотолерантного перорального теста. Кроме того, экспрессия FOXO1 увеличивается у крыс с СД2. Можно сделать вывод, что инсулинорезистентность можно снизить, воздействуя на экспрессию FOXO1 в жировой ткани. FOXO1 – перспективная мишень в контролировании развития ожирения и развития инсулинорезистентности при СД2 [53].
9.1. Ингибиторы FOXO1
Бетаин, извлеченный из Lycium chinense, ингибирует активность FOXO1 и способствует снижению окислительного стресса. Бетаин при пероральном введении диабетическим мышам в дозе 50 мг/кг в течение 3 недель снижает инсулинорезистентность путем ингибирования FOXO1 в печени (табл. 1) [54]. Аналогично ресвератрол, получаемый из Polygonum cuspidatum, красного винограда и красного вина, снижает экспрессию FOXO1 и приводит к снижению уровня глюкозы в крови и инсулинорезистентности. Ресвератрол при пероральном введении крысам при моделировании сахарного диабета в течение 30 дней в дозах 1, 5 и 10 мг/кг приводит к снижению инсулинорезистентности и уровня глюкозы, индукции экспрессии FOXO1 [53]. Фукоксантин – соединение из группы ксантофиллов, представляет собой природный коричневый пигмент, распространенный в водорослях Undaria pinnatifida и Hijikia fusiformis. Добавление 1.06 и 2.22% фукоксантина в корм мышам с сахарным диабетом снижает образование свободных радикалов в почках, уровень TNF-α и лептина, а также массы жировой ткани [55].
10. FFA-РЕЦЕПТОРЫ (РЕЦЕПТОРЫ СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ)
FFA (свободные жирные кислоты) с различной длиной цепи активируют трансмембранные рецепторы, такие как FFA1, FFA2 и FFA3. FFA1 в значительной степени экспрессируются на β-клетках поджелудочной железы. Активация этих рецепторов также играет важную роль в повышении секреции инсулина (рис. 1). Tang et al. показали, что активация рецепторов FFA2 и FFA3 на β-клетках поджелудочной железы человека ингибирует секрецию инсулина [56]. У мышей с нокаутом FFA2 и FFA3 в β-клетках наблюдается значительное снижение концентрации глюкозы в крови при проведении перорального глюкозотолерантного теста на фоне моделирования СД2, а также повышение концентрации инсулина в плазме и снижение уровней неэтерифицированных свободных жирных кислот. Роль FFA2 и FFA3 в регуляции секреции инсулина более заметна при ожирении и СД2 [56, 57]. Повышенные уровни FFA вызывают потерю β-клеток поджелудочной железы и снижение секреции инсулина, что приводит к усугублению СД2 [58]. Таким образом, регулирование активности рецепторов FFA – один из способов снижения инсулинорезистентности при СД2.
10.1. Ингибиторы FFA-рецепторов
Имеются данные об эффективности экстракта листьев Anredera cordifolia (Tenore) Steen., которое предположительно опосредовано через FFA1рецептор. Экстракт A. cordifolia содержит 1.35% флавоноидов и 1.031% витексина, который представляет собой производное апигенина. Различные дозы экстракта A. cordifolia (25, 50 и 100 мг/кг) при введении перорально в течение 3 недель значительно снижают уровень глюкозы в крови у крыс с сахарным диабетом, аналогично глибенкламиду, производному сульфонилмочевины (табл. 1) [59]. Свободные жирные кислоты способствуют развитию инсулинорезистентности, что опосредовано нарушением сигнализации через β-аррестин-2. Обнаружено, что фракция флавоноидов (нарингенин, кемпферол, изорамнетин, изорамнетин-3-О-неогесперидозид, тифанеозид и др.), выделенная из Pollen typhae, вводимая перорально в течение 4 недель в дозе 0.2 г/кг диабетическим крысам, снижает инсулинорезистентность посредством влияния на FFA-рецепторы [58].
11. ГЛЮКАГОНОПОДОБНЫЙ ПЕПТИД-1 (GLP-1) И ГЛЮКОЗОЗАВИСИМЫЙ ИНСУЛИНОТРОПНЫЙ ПОЛИПЕПТИД (GIP)
GLP-1 – один из инкретиновых гормонов, который секретируется L-клетками в дистальном отделе подвздошной кишки и толстой кишке. GLP-1 высвобождается после приема пищи и обнаруживается в жировой ткани. GLP-1 задерживает опорожнение желудка, увеличивает секрецию инсулина и снижает секрецию глюкагона. GLP-1 и GIP способствуют глюкозозависимой секреции инсулина аддитивным образом (рис. 1). Секреция инсулина может быть косвенно усилена с помощью ингибиторов дипептидилпептидазы-4 (DPP-4), которые снижают деградацию эндогенных инкретинов и приводят к повышению концентрации циркулирующих биологически интактных форм GLP-1 и GIP [60].
GLP-1 – один из наиболее эффективных препаратов для лечения СД2. GLP-1 увеличивает секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы и уменьшает высвобождение глюкагона из α-клеток поджелудочной железы. Кроме того, GLP-1 может стимулировать пролиферацию β-клеток поджелудочной железы и замедлять прогрессирование СД2. Однако применение GLP-1 затруднено из-за короткого периода полураспада в крови (<2 мин) благодаря протеиназной активности DPP-4 в отношении к GLP-1 [61, 62].
11.1. Агонисты GLP-1 и GIP
Предпринято много попыток разработать агонисты рецептора GLP-1. В последние годы эксенатид, лираглутид и семаглутид привлекли значительное внимание в лечении СД2. По сравнению с нативным GLP-1, эти агонисты устойчивы к деградации DDP-4 и имеют более длительный период полувыведения из плазмы. Как и нативный GLP-1, агонисты связываются с рецепторами GLP-1, экспрессируемыми на β-клетках поджелудочной железы, и индуцируют секрецию инсулина глюкозозависимым образом [61]. Муджаро (тирзепатид) – “первый в своем классе” инъекционный препарат, который активирует как экспрессию GIP, так и GLP-1 [23].
Фруктаны из Agave tequilana F.A.C. Weber активируют рецепторы GLP-1 у диабетических мышей при потреблении 10 г в течение 5 недель, что проявляется в улучшении липидного и углеводного метаболизма и увеличении концентрации проглюкагонового пептида (табл. 1) [11]. Один из наиболее перспективных агонистов рецепторов GLP-1, используемых в настоящее время для лечения диабета, – это экседин-4. Он был получен из яда Heloderma suspectum и одобрен FDA в 2005 г. в качестве лекарственного средства при СД2. Эксенатид представляет собой более мощную синтетическую версию экседина-4 [10].
11.2. Ингибиторы DPP-4
DPP-4 разрушает инкретиновые гормоны GLP-1 и GIP, тем самым подавляя глюкозозависимую секрецию инсулина поджелудочной железой (рис. 1). Следовательно, ингибирование DPP-4 продлевает активность инкретиновых гормонов и их агонистов, что позволяет регулировать постпрандиальный уровень глюкозы [20].
Рис. 1. Пути регулирования инсулинорезистентности, метаболизма жиров и глюкозы при СД2. Перспективными способами регулирования инсулинорезистентности считаются ингибирование 11β-HSD1, p38 MAPK, PTР1B, DPP-4, активация IRS1 и GLP-1R. Транслокации GLUT4 на поверхность мембраны способствует снижению инсулинорезистентности. Для активации окисления FFA и снижения окислительного стресса предлагается активация AMPK и PGC-1α, повышение GLP-1 и GIP, уменьшение экспрессии FFAR.
Экстракты одуванчика Taraxacum officinale проявляют in vitro высокую ингибирующую активность DPP-4 в связи с содержанием в составе хлорогеновой кислоты, лютеолина и кверцетина. Присутствие олеаноловой кислоты в экстракте Momordica charantia способствует умеренной ингибирующей активности DPP-4 in vitro [20]. Исследования in vitro и in vivo показали, что процианидины из экстракта семян Vitis vinifera L. приводят к снижению уровня DPP-4 и экспрессии его гена в клетках кишечника человека. Экстракты Commiphora mukul Engl. и Terminalia arjuna при введении перорально в дозе 200 мг/кг в течение 4 недель диабетическим крысам вызывают гипогликемический эффект, опосредованный ингибированием DPP-4 [11]. В казеине козьего молока, обработанного трипсином и химотрипсином, идентифицированы новые пептиды, ингибирующие DPP-4. Из пяти новых идентифицированных пептидов – MHQPPQPL, SPTVMFPPQSVL, VMFPPQSVL, INNQFLPYPY и AWPQYL – пептид INNQFLPYPY проявляет наибольшую ингибирующую активность с IC50 = 40.08 мкМ. Расщепленные трипсином белки верблюжьего молока продуцируют пептиды FLQY, FQLGASPY, ILDKEGIDY, ILELA, LLQLEAIR, LPVP, LQALHQGQIV, MPVQA и SPVVPF, которые успешно ингибируют DPP-4 [10]. Пептиды, ингибирующие DPP-4, часто характеризуются высоким содержанием гидрофобных аминокислот, таких как аланин, глицин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, пролин, метионин, триптофан и валин. Например, взаимодействия между DPP-4 и пептидами фасоли KTYGL и AKSPLF заключаются в основном в Н-, гидрофобных, полярных и катионных π-связях [23].
12. НАТРИЙ-ГЛЮКОЗНЫЙ КОТРАНСПОРТЕР ТИПА 2 (SGLT2)
Несмотря на значительные колебания ежедневного поступления глюкозы и потребности организма в ней, гомеостатические механизмы поддерживают уровень глюкозы в плазме в узком диапазоне, со средним уровнем ~ 4–5 мМ в течение суток. Реабсорбция глюкозы в клубочковый фильтрат – основной механизм, с помощью которого почки влияют на гомеостаз глюкозы. У людей без сахарного диабета концентрация глюкозы в моче очень мала или же глюкоза в моче полностью отсутствует [63]. SGLT2 отвечает за реабсорбцию глюкозы в сегментах 1 и 2 проксимальных канальцев, при этом он реабсорбирует >90% глюкозы. SGLT1 реабсорбирует остаточную глюкозу в сегменте 3 проксимальных канальцев. У мышей, нокаутированных по SGLT2, SGLT1 компенсировал и реабсорбировал до 35% отфильтрованной глюкозы [64]. Скорость почечной реабсорбции глюкозы повышена у людей с СД2 на 20–40%, что опосредовано повышением экспрессии SGLT2 [63]. Активность SGLT связана с котранспортом натрия и глюкозы, который осуществляется за счет Na/K-АТФазы, что облегчает перенос глюкозы против внутриклеточного градиента. SGLT2 представляет собой основную терапевтическую мишень при СД2 [64].
12.1. Ингибиторы SGLT2
Ингибиторы SGLT2 могут изменять экспрессию IL-6, адипонектина и сывороточного лептина и улучшать функцию жировой ткани, повышать уровни липопротеинов низкой и высокой плотности и снижать уровень триглицеридов [65]. Эти препараты действуют независимо от инсулина, однако применение ингибиторов SGLT приводит к риску возникновения кетоацидоза [64]. Флавоноид флоризин, который можно выделить из коры яблони Malus domestica, обладает ингибирующей активностью в отношении SGLT1 и SGLT2. Этот эффект был продемонстрирован и для производного флоризина, ипрафлоризина, который вводили диабетическим мышам в течение 4 недель в дозе 3 мг/кг, в то время как флоризин проявлял свою эффективность в более высокой дозе – 100 мг/кг (табл. 1).
Таблица 1. Эффективность соединений из природных источников в отношении терапевтических мишеней для лечения СД2
Терапевтическая мишень и эффект | Природный источник | Активное вещество | Доза/количество/ концентрация | Демонстрация эффективности | Ссылки |
Активаторы GLUT | Panax ginseng | Гингенозид R1 | 200 мг/кг экстракта | В течение 12 недель у диабетических крыс | [19] |
Taraxacum officinale | Токоферолы, L-аскорбиновая кислота, каротиноиды | 2.4 г/кг экстракта | В течение 4 недель у диабетических крыс | [20] | |
Cinnamomum burmannii | Полифенолы | 10 и 100 мкг/мл | На культуре клеток адипоцитов | ||
Glycine max | Пептиды IAVPGEVA, IAVPTGVA, LPYP | 500 мкМ | На культуре клеток печени в течение 24 ч | [23] | |
Активаторы IRS1 | Punica granatum | Полифенолы | 100, 200 и 350 мг/кг экстракта | В течение 21 недели у диабетических крыс | [29] |
Gelidium elegans | Полифенолы | 50 и 200 мг/кг | В течение 5 недель у диабетических крыс | [29] | |
Ингибиторы PTP1β | Cinnamon verum, Cinnamon zeylanicum, корица китайская, вьетнамская и малабарская | Тримеры, тетрамеры, олигомеры и смеси мономеров процианидина | – – | Культура фибробластов мыши | |
Juniperus chinensis | α-Метилартофлаванокумарин | Молекулярный докинг | [33] | ||
Регуляторы пути AMPK/SIRT1/PGC-1α | Panax ginseng | Гинзенозид Rg2 | 25 и 50 мкМ | На культуре клеток в течение 16 ч | [39] |
Rhizome coptidis | Берберин | 100 мг/кг | В течение 7 дней у диабетических крыс | [40] | |
Красный дрожжевой рис | Монасцин, анкафлавин | 5 мг/кг | В течение 5 недель у диабетических мышей | [40] | |
Lespedeza bicolor | Генистеин, кверцетин, даидзеин, катехин, лютеолин, нарингин | 100 и 250 мг/кг экстракта | В течение 12 недель у диабетических мышей | [36] | |
Регуляторы пути Akt/Erk1/2/p38 MAPK | Beta vulgaris | Бетаин | 1, 5 и 10 мкM | В культуре клеток почек мышей | [41] |
Gelidium elegans | Полифенолы | 200 мг/кг экстракта (1 г содержит 8.79 мг полифенолов) | Введение диабетическим мышам в течение 5 недель | [24] | |
Регуляторы пути PI3K/Akt/mTOR | Coptis chinensis Franch | Берберин | 80, 120 и 180 мг/кг экстракта (3.6% берберина в экстракте) | Введение в течение 24 недель диабетическим крысам | [46] |
Psidium guajava | Флавоноиды, фенольне кислоты, тритерпены и сесквитерпены | 1638 мг/кг экстракта | В течение 8 недель у диабетических мышей | [47] | |
Ингибиторы 11β- HSD1 | Momordica charantia | Гоягликозиды, кугуацины и гоясапонины | 10, 30 и 50 мкл (0.38 г сухого экстракта на 0.5 мл раствора) | in vitro | [49] |
Camellia sinensis | Этерифицированная форма галловой кислоты (–)-эпигаллокатехина | 50 мкл | in vitro | [50] | |
Ингибиторы FOXO1 | Lycium chinense | Бетаин | 50 мг/кг | Введение в течение 3 недель диабетическим мышам | [54] |
Polygonum cuspidatum, Vigne rouge | Ресвератрол | 1, 5 и 10 мг/кг | Введение в течение 30 дней диабетическим крысам | [53] | |
Undaria pinnatifida и Hijikia fusiformis | Фукоксантин | Диета с содержанием 1.06 и 2.22% фукоксантина | Диабетические мыши | [55] | |
Блокаторы FFAR | Anredera cordifolia (Tenore) Steen. | 1.35% флавоноидов и 1.031% витексина | 25, 50 и 100 мг/кг | Введение в течение 3 недель диабетическим крысам | [59] |
Pollen typhae | Фракция флавоноидов: нарингенин, кемпферол, изорамнетин, изорамнетин-3-О-неогесперидозид, тифанеозид и др. | 200 мг/кг фракции флафоноидов | Введение в течение 4 недель диабетическим крысам | [58] | |
Агонисты GLP-1 и GIP | Agave tequilana F.A.C. Weber | Фруктаны | 10 г в течение всего курса | В течение 5 недель у диабетических мышей | [11] |
Ингибиторы DPP-4 | Taraxacum officinale, Momordica charantia | Хлорогеновая кислота, лютеолин и кверцетин, олеаноловая кислота | 10% сухого экстракта в растворе | in vitro | [20] |
Vitis vinifera L. | Процианидины | – | На культуре клеток кишечника человека | [11] | |
Commiphora mukul Engl. и Terminalia arjuna | – | 200 мг/кг экстрактов | В течение 4 недель у диабетических крыс | [11] | |
Козье молоко | Пептиды MHQPPQPL, SPTVMFPPQSVL, VMFPPQSVL, INNQFLPYPY, AWPQYL, INNQFLPYPY | – | in vitro | [10] | |
Верблюжье молоко | Пептиды FLQY, FQLGASPY, ILDKEGIDY, ILELA, LLQLEAIR, LPVP, LQALHQGQIV, MPVQA, SPVVPF | – | in vitro | [10] | |
Ингибиторы SGLT2 | Malus domestica | Флоризин, ипрафлоризин, канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпаглифлозин, эртуглифлозин | 3 мг/кг (ипрафлоризин), 100 мг/кг (флоризин) | В течение 4 недель у диабетических мышей | |
Sophora flavescens | Мааккиаин, вариабилин и формононетин | – | in vitro | [68] | |
Acer nikoense | Ацерогенин А, ацерогенин В | – | in vitro | [68] | |
Ингибиторы α-гликозидаз | Ishige okamurae | Дифлоретогидроксикармалол | 100 мг/кг | При однократном введении перед глюкозотолерантным тестом у диабетических мышей | [79] |
Porphyra spp. | Пептиды GGSK, ELS | – | in vitro, молекулярный докинг | [80] | |
Heteractis magnifica | Магнификамид | 0.005 мг/кг | in vitro, при однократном введении перед глюкозотолерантным тестом у диабетических мышей | [82–84] | |
Morus alba | Морусальбинс A–D, альбацин B, макроурин G, юнанензин A, мулберрофуран G и K, альбанол B | – | Молекулярный докинг | [85] | |
Coriandrum sativum | Линалоол | – | Молекулярный докинг | [85] | |
Ингибиторы GFAT | Черный рис Oryza sativa | Цианидин-3-О-глюкозид | – | Молекулярный докинг | [85] |
Euphorbia thimifolia Linn. | Космозиин, кверцетин-3-галактозид, кверцитрин, корилагин, 1-О-галлоил-β-D-глюкоза, β-амирин, тараксерол | – | Молекулярный докинг | [85] | |
Ингибиторы CCN3 | Polygonum cuspidatum, Vigne rouge | Ресвератрол | 0.1 мкМ | in vitro, в культуре адипоцитов диабетических мышей при его применении в течение 24 ч | |
Активаторы PPAR-γ | Curcuma longa | Куркумин | 50 мкМ | На культуре гепатоцитов крыс при инкубации в течение 24 ч | [99] |
Punica granatum | Полифенолы | 300 мкл/день (0.35 ммоль полифенолов в одной дозе) | В течение 5 месяцев у диабетических мышей | [100] | |
Активаторы Nrf2 | Lycium barbarum | Куркумин, кверцетин, ксантогумол, сульфорафан, лакцистин, ресвератрол, рапамицин, коричный альдегид и полисахарид | 100 мг/кг полисахаридов | При однократном введении в глюкозотолерантном тесте у мышей | [105] |
Curcuma longa | Куркумин | 100 и 200 мг/кг | В течение 16 недель у диабетических крыс | [106] |
Производные флоризина, такие как канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпаглифлозин, ипраглифлозин и эртуглифлозин, уже одобрены FDA для лечения СД2 [66, 67]. Серглифлозин, дапаглифлозин и некоторые тиогликозиды в настоящее время находятся в стадии разработки из этого класса препаратов [9]. Три соединения со структурой на основе изофлавоноидов, а именно мааккиаин, вариабилин и формононетин из экстракта Sophora flavescens, обладают мощной ингибирующей активностью in vitro в отношении SGLT2, но не SGLT1. Это предположительно связано с наличием гидроксильной функциональной группы в изофлавоноидах. Соединения, выделенные из коры Acer nikoense, два циклических диарилгептаноида, ацерогенин А и В, продемонстрировали ингибирование как SGLT1, так и SGLT2 in vitro [68].
13. α-ГЛИКОЗИДАЗЫ
α-Амилаза представляет собой фермент, который может гидролизовать α-D-(1,4)-гликозидные связи в крахмале или полисахаридах. Крахмал и полисахариды должны быть гидролизованы до дисахаридов и олигосахаридов, которые затем гидролизуются α-гликозидазой до моносахаридов и только тогда всасываются в портальную вену печени через тонкий кишечник, что приводит к повышению концентрации глюкозы в крови после приема пищи [69, 70].
13.1. Ингибиторы α-гликозидаз
Действие ингибиторов α-гликозидаз заключается в замедлении расщепления и всасывания углеводов [69, 71]. Акарбоза, природный ингибитор α-гликозидаз, была обнаружена у бактерий рода Actinoplanes [72]. Акарбоза структурно похожа на природные олигосахариды, но имеет в 104–105 раз большее сродство к α-гликозидазам. Эффект α-гликозидаз заключается в снижении постпрандиального уровня глюкозы в крови. Поскольку снижение концентрации глюкозы в крови приводит к значительному снижению стимуляции синтеза и секреции инсулина, гиперинсулинемия также уменьшается [18, 73]. Кроме того, замедленное переваривание углеводов и расщепление олигосахаридов приводит к тому, что непереваренные углеводы достигают нижних отделов тонкой кишки и стимулируют секрецию GLP-1 (рис. 2) [69].
Рис. 2. Эффект ингибиторов α-амилаз при СД2. Ингибиторы α-амилаз не только снижают пиковую концентрацию глюкозы при приеме пищи, но и запускают механизмы регулирования инсулинорезистентности и метаболизма FFA через секрецию GLP-1, а также непосредственно через предотвращение гипергликемии.
Поскольку GLP-1 задерживает опорожнение желудка, снижает секрецию глюкагона и регулирует секрецию инсулина, то становится объяснимым, почему длительное лечение акарбозой приводит не только к снижению постпрандиального уровня глюкозы, но и к снижению концентрации глюкозы натощак [74]. Большое разнообразие генов, кодирующих ингибиторы α-амилаз, обнаружено в геномах бактерий рода Streptomyces [75–78]. Дифлоретогидроксикармалол, выделенный из Ishige okamurae, обладает большим ингибирующим действием в отношении α-гликозидазы и α-амилазы по сравнению с акарбозой. Дифлоретогидроксикармалол при однократном введении перед глюкозотолерантным тестом в дозе 100 мг/кг проявляет более высокую ингибиторную активность по сравнению с акарбозой у мышей с сахарным диабетом (табл. 1) [79]. Admassu et al. выделили пептидные ингибиторы α-амилазы из высушенной водоросли Porphyra spp. – GGSK и ELS. Эти пептиды демонстрируют ингибиторную активность in vitro по отношению к α-амилазе, встраиваясь в аллостерический центр α-амилазы и ингибируя связывание фермента с полисахаридами [80]. Tysoe et al. впервые описали хелиантамид, высокоэффективный ингибитор панкреатической α-амилазы, который выделен из актинии Stichodactyla helianthus. Это первый представитель нового структурного класса ингибиторов гликозидаз. Однако в отличие от вышеперечисленных пептидов, хелиантамид связывается с активным сайтом α-амилазы и включает ингибиторный мотив YIYH [81]. В Тихоокеанском институте биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН выделили и охарактеризовали структуру магнификамида – пептида, обнаруженного в слизи морской анемоны Heteractis magnifica. Магнификамид ингибирует панкреатическую и слюнную α-амилазы млекопитающих in vitro эффективнее, чем акарбоза. Так же как и хелиантамид, магнификамид содержит ингибиторный мотив YIYH. Кроме того, магнификамид обладает устойчивостью в кислой среде желудка и при физиологических температурах предположительно из-за наличия трех дисульфидных связей, что делает доступным пероральное применение этого пептида [82–84].
Пептиды фасоли пинто – LSSLEMGSLGALFVCM, PLPLHMLP, PPMHLP, PPHMGGP, PLPWGGAGF и PPHMLP – продемонстрировали превосходное ингибирование α-амилазы in vitro [23]. При гидролизе яичного белка с использованием алкалазы было получено восемь пептидов, среди которых RVPSLM и TPSPR проявили наибольшую ингибирующую активность в отношении α-гликозидазы [10]. С помощью молекулярного докинга установлено, что ингибирующую активность в отношении α-глюкозидазы имеют производные халкона из коры корня Morus alba: морусальбинс A–D, альбацин B, макроурин G, юнанензин A, мулберрофуран G и K, альбанол B, а также линалоол, выделенный из плодов Coriandrum sativum [85].
14. ГЛУТАМИНФРУКТОЗО-6-ФОСФАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА (GFAT)
GFAT – важная мишень, используемая в терапии СД2, т.к. он играет центральную роль в пути биосинтеза гексозамина и участвует в катализе первой и ограничивающей скорость стадии образования гексозамина [86]. GFAT катализирует образование глюкозамин-6-фосфата. Повышенная активность GFAT, по-видимому, связана с инсулинорезистентностью, постпрандиальной гипергликемией и окислительным стрессом при СД2. Недавние результаты показали, что гексозаминовый путь, регулируемый GFAT, ответственен за развитие сосудистых осложнений при СД2, особенно диабетической нефропатии. Следовательно, GFAT – многообещающая терапевтическая мишень для лечения СД2 и его осложнений [87].
14.1. Ингибиторы GFAT
Цианидин-3-О-глюкозид, содержащийся в черном рисе, обладает сильной антиоксидантной и антирадикальной активностью в отношении гидроксильных и супероксидных радикалов. Он уменьшает воспаление жировой ткани и стеатоз печени у диабетических крыс и тем самым снижает гипергликемию у мышей с диабетом. С использованием молекулярного докинга определено, что цианидин-3-О-глюкозид демонстрирует большую аффинность связывания с GFAT, чем нативный лиганд глюкозо-6-фосфат [85]. В растении Euphorbia thimifolia Linn. идентифицировано семь биологически активных соединений, которые проявляют высокую аффинность связывания с GFAT in vitro: космозиин, кверцетин-3-галактозид, кверцитрин, корилагин, 1-О-галлоил-β-D-глюкоза, β-амирин и тараксерол [85].
15. CCN3, или NOV (СВЕРХЭКСПРЕССИРУЕМЫЙ ГЕН НЕФРОБЛАСТОМЫ)
Недавно была открыта роль CCN3 как цитокина, играющего роль в метаболических нарушениях, связанных с ожирением и инсулинорезистентностью. NOV – ген, кодирующий CCN3. Концентрация CCN3 в плазме значительно повышена у пациентов с ожирением и гиперлипидемией, что коррелирует с повышением концентрации С-реактивного белка, индексом массы тела и массы висцерального жира. Блокирование CCN3 может предотвратить ожирение и повысить чувствительность тканей к инсулину, уменьшить воспаление в жировой ткани у диабетических мышей [88]. CCN3 – мишень для транскрипционного фактора FoxO1, являющегося важным медиатором передачи сигналов инсулина в β-клетках поджелудочной железы. CCN3 может ингибировать пролиферацию β-клеток, что приводит к снижению секреции инсулина в β-клетках поджелудочной железы. Таким образом, антагонисты CCN3 можно рассматривать как потенциальные препараты для лечения СД2 [89–91].
15.1. Ингибиторы CCN3
В связи с недавним открытием роли CCN3/NOV в развитии СД2 открывается возможность поиска ингибиторов CCN3/NOV. Ресвератрол, природный нефлавоноидный полифенол, может улучшить усвоение глюкозы адипоцитами путем снижения инсулинорезистентности in vitro [92, 93], что позволяет предположить его потенциальное терапевтическое воздействие при СД. Ресвератрол увеличивает потребление глюкозы и экспрессию miR-23a-3p, адипонектина, лептина, PI3K и Akt, а также снижает экспрессию CCN3/NOV в культуре адипоцитов диабетических мышей при его применении в концентрации 0.1 мкМ в течение 24 ч (табл. 1) [94].
16. PPAR-γ (ГАММА-РЕЦЕПТОР, АКТИВИРУЕМЫЙ ПРОЛИФЕРАТОРОМ ПЕРОКСИСОМ)
PPAR представляют собой факторы транскрипции, принадлежащие к суперсемейству белков ядерных рецепторов и играющие решающую роль в контроле многих процессов в организме человека [94]. PPAR-γ связываются с различными эндогенными лигандами, жирными кислотами и эйкозаноидами и таким образом регулируют работу > 100 генов, поддерживающих метаболический гомеостаз в клетке [95]. Специфическое удаление PPAR-γ из клеток жировой ткани, мозга, мышц и макрофагов изменяет гомеостаз глюкозы. Эпигенетические модификации или посттрансляционные модификации в структуре PPAR-γ считаются многообещающими путями лечения различных метаболических заболеваний, в том числе СД2 [96]. При активации рецепторов PPAR-γ регулируется углеводный обмен и существенно повышается чувствительность к инсулину у тканей [97, 98].
16.1. Активаторы PPAR-γ
PPAR-γ – одна из важнейших ядерных мишеней для тиазолидиндионов. Однако тиазолиндионы имеют ряд побочных эффектов, таких как сердечная недостаточность, увеличение веса, рак мочевого пузыря, увеличение объема плазмы [52, 94]. Куркумин из Curcuma longa проявляет противодиабетическую эффективность, аналогичную тиазолидиндиону. Дозозависимая регуляция куркумином PPAR-γ предотвращает рост гепатоцитов крыс за счет стимуляции клеточного цикла и индукции апоптоза: 24-часовая инкубация с 50 мкМ куркумина подавляет рост гепатоцитов на 63%. Предположительно, куркумин оказывает противовоспалительное действие in vivo за счет регуляции рецептора PPAR-γ, что приводит к снижению экспрессии провоспалительного медиатора NF-κB [99]. Полифенолы из кожуры Punica granatum играют значительную роль в его гипогликемическом действии по нескольким путям, включая повышение чувствительности инсулиновых рецепторов, повышение активности PPAR-γ и уровня параоксоназы 1. Диабетические мыши при пероральном введении экстракта граната в течение 5 месяцев в объеме 300 мкл, который содержит 0.35 ммоль полифенолов, демонстрируют снижение массы тела, триацилглицеридов и холестерина на фоне повышения уровня параоксоназы 1 (табл. 1) [100].
17. Nrf2 (ЯДЕРНЫЙ ФАКТОР, СВЯЗАННЫЙ С ЭРИТРОИДНЫМ ФАКТОРОМ 2)
Nrf2 – главный регулятор окислительно-восстановительного гомеостаза. В ответ на стресс Nrf2 перемещается в ядро, где связывается с генами, содержащими антиоксидантный чувствительный элемент [101]. Эти гены кодируют белки, участвующие в реакции клетки на окислительный стресс, а также ферменты детоксикации и метаболические ферменты [102]. Таким образом, активация Nrf2 запускает экспрессию ферментов, которые непосредственно нейтрализуют активные формы кислорода, повышают клеточную антиоксидантную защиту, снижают уровень глюкозы в крови через запуск пентозофосфатного пути окисления глюкозы. Таким образом, активация Nrf2 – возможное решение проблемы окислительного стресса, связанного с гипергликемией [103, 104]. На ранних стадиях сахарного диабета уровень Nrf2 повышается, т.к. он действует в виде естественной защиты организма от гипергликемии. Однако адаптивный процесс, по-видимому, дает сбой на более поздних стадиях при хронической гипергликемии. Химическая или генетическая активация Nrf2 увеличивает чувствительность тканей к инсулину у диабетических мышей [105]. Таким образом, экзогенная активация сигнального пути Nrf2 может служить средством поддержки эндогенных антиоксидантных систем и предотвращения развития или прогрессирования СД2.
17.1. Активаторы Nrf2
Недавно было обнаружено, что метформин приводит к снижению инсулинорезистентности благодаря активации Nrf2 [103]. Куркумин, кверцетин, ксантогумол, сульфорафан, лакцистин, ресвератрол, рапамицин, коричный альдегид и полисахарид из Lycium barbarum активируют Nrf2 in vitro и in vivo. Полисахариды из Lycium barbarum в дозе 100 мг/кг на модели СД2 у мышей C57BL/6 проявляют гипогликемические свойства в глюкозотолерантном тесте, а также взаимодействуют с PI3K и Nrf2 в клеточных культурах в концентрациях 100–600 мкг/мл (табл. 1) [105]. Куркумин из Curcuma longa был идентифицирован как активатор Nrf2 и его нижестоящих мишеней. У крыс с диабетом куркумин в дозах 100 и 200 мг/кг, вводимый в течение 16 недель, активировал в печени Akt и Erk1/2, являющиеся вышестоящими киназами Nrf2 [106].
18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В терапии СД2 наиболее распространены и эффективно используются природные соединения – полифенолы (в диапазонах доз 50–1638 мг/кг in vivo), в том числе флавоноиды растительных экстрактов, которые эффективны in vitro и in vivo в отношении PPAR-γ, PI3K/Akt/mTOR, Akt/Erk1/2/p38 MAPK, GLUT и в особенности IRS1 (полифенолы из граната и водоросли Gelidium elegans в дозах 50–350 мг/кг in vivo) и FFAR (флавоноиды в дозах 25 мг/кг – 200 мг/кг in vivo). Берберин (80, 100, 120 и 180 мг/кг in vivo) и бетаин (50 мг/кг in vivo), а также пигменты ресвератрол (1, 5 и 10 мг/кг in vivo) и фукоксантин (1.06 и 2.22% в корме лабораторных животных) показывают противодиабетическую активность в отношении сравнительно новых терапевтических мишеней для лечения СД2: FOXO1, CCN3, PI3K/Akt/mTOR, AMPK/SIRT1/PGC-1α. Корица, женьшень и куркума – источники соединений, имеющих высокую активность в отношении PTP1β, AMPK/ SIRT1/PGC-1α и Nrf2 при лечении СД2. Перспективными соединениями для лечения СД2, которые на сегодняшний момент в большом объеме изучены in silico, являются пептиды из растительных экстрактов, молочных белков и ядов, которые активны в отношении GLUT, DPP-4 и α-гликозидаз.
Таким образом, научно-технические достижения позволяют трансформировать традиционную медицину в эффективный метод поиска лекарств на основе природных компонентов для лечения СД2 [107–110].
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-74-20147).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит описания исследований с участием людей или использованием животных в качестве объектов исследования.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
N. A. Borozdina
Branch of the Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences; Branch of the Russian Biotechnological University (ROSBIOTECH)
Author for correspondence.
Email: borozdina@bibch.ru
Russian Federation, prosp. Nauki 6, Pushchino, 142290; prosp. Nauki 3, Pushchino, 142290
D. V. Popkova
G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences
Email: borozdina@bibch.ru
Russian Federation, prosp. 100 let Vladivostoku 159, Vladivostok, 690022
I. A. Dyachenko
Branch of the Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences; Branch of the Russian Biotechnological University (ROSBIOTECH)
Email: borozdina@bibch.ru
Russian Federation, prosp. Nauki 6, Pushchino, 142290; prosp. Nauki 3, Pushchino, 142290
References
- Danaei G., Finucane M.M., Lu Y., Singh G.M., Cowan M.J., Paciorek C.J., Lin J.K., Farzadfar F., Khang Y.H., Stevens G.A., Rao M., Ali M.K., Riley L.M., Robinson C.A., Ezzati M. // Lancet. 2011. V. 378. P. 31–40. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(11)60679-x
- Cho N.H., Shaw J.E., Karuranga S., Huang Y., da Rocha Fernandes J.D., Ohlrogge A.W., Malanda B. // Diabetes Res. Clin. Pract. 2018. V. 138. P. 271–281. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2018.02.023
- Artasensi A., Pedretti A., Vistoli G., Fumagalli L. // Molecules. 2020. V. 25. P. 1987. https://doi.org/10.3390/molecules25081987
- Moller D.E. // Cell Metab. 2012. V. 15. P. 19–24. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.10.012
- Maruthur N.M., Tseng E., Hutfless S., Wilson L.M., Suarez-Cuervo C., Berger Z., Chu Y., Iyoha E., Segal J.B., Bolen S. // Ann. Intern. Med. 2016. V. 164. P. 740–751. https://doi.org/10.7326/m15-2650
- Liu Z., Zhao X., Sun W., Wang Y., Liu S., Kang L. // Exp. Ther. Med. 2017. V. 13. P. 3137–3145. https://doi.org/10.3892/etm.2017.4333
- Wirngo F.E., Lambert M.N., Jeppesen P.B. // Rev. Diabet. Stud. 2016. V. 13. P. 113–131. https://doi.org/10.1900/rds.2016.13.113
- Wahab A. // Pharmaceuticals (Basel). 2010. V. 3. P. 2090–2110. https://doi.org/10.3390/ph3072090
- Kanwal A., Kanwar N., Bharati S., Srivastava P., Singh S.P., Amar S. // Biomedicines. 2022. V. 10. P. 331. https://doi.org/10.3390/biomedicines10020331
- Antony P., Vijayan R. // Int. J. Mol. Sci. 2021. V. 22. P. 9059. https://doi.org/10.3390/ijms22169059
- Borah A.K., Ahmed S.A., Borah J.C. // Phytomedicine Plus. 2022. V. 2. P. 100225. https://doi.org/10.1016/j.phyplu.2022.100225
- Navale A.M., Paranjape A.N. // Biophys. Rev. 2016. V. 8. P. 5–9. https://doi.org/10.1007/s12551-015-0186-2
- Ismail A., Tanasova M. // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 23. P. 8698. https://doi.org/10.3390/ijms23158698
- Konrad D., Bilan P.J., Nawaz Z., Sweeney G., Niu W., Liu Z., Antonescu C.N., Rudich A., Klip A. // Diabetes. 2002. V. 51. P. 2719–2726. https://doi.org/10.2337/diabetes.51.9.2719
- Lee J.O., Lee S.K., Kim J.H., Kim N., You G.Y., Moon J.W., Kim S.J., Park S.H., Kim H.S. // J. Biol. Chem. 2012. V. 287. P. 44121–44129. https://doi.org/10.1074/jbc.M112.361386
- Herman R., Kravos N.A., Jensterle M., Janež A., Dolžan V. // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 23. P. 1264. https://doi.org/10.3390/ijms23031264
- Bailey C., Day C. // Pract. Diabetes Int. 2004. V. 21. P. 115–117. https://doi.org/10.1002/pdi.606
- Rosak C., Mertes G. // Diabetes Metab. Syndr. Obes. 2012. V. 5. P. 357–367. https://doi.org/10.2147/dmso.s28340
- Shishtar E., Sievenpiper J.L., Djedovic V., Cozma A.I., Ha V., Jayalath V.H., Jenkins D.J., Meija S.B., de Souza R.J., Jovanovski E., Vuksan V. // PLoS One. 2014. V. 9. P. e107391. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107391.
- Kania-Dobrowolska M., Baraniak J. // Foods. 2022. V. 11. P. 2858. https://doi.org/10.3390/foods11182858
- Costello R.B., Dwyer J.T., Saldanha L., Bailey R.L., Merkel J., Wambogo E. // J. Acad. Nutr. Diet. 2016. V. 116. P. 1794–1802. https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.07.015
- Sharma S., Mandal A., Kant R., Jachak S., Jagzape M. // J. Pak. Med. Assoc. 2020. Vol. 70. P. 2065–2069.
- Hu K., Huang H., Li H., Wei Y., Yao C. // Nutrients. 2023. V. 15. P. 1096. https://doi.org/10.3390/nu15051096
- Choi J., Kim K.-J. Koh E.-J., Lee B.-Y. // Nutrients. 2018. V. 10. P. 51. https://doi.org/10.3390/nu10010051
- Kovacs P., Hanson R.L., Lee Y.-H., Yang X., Kobes S., Permana P.A., Bogardus C., Baier L.J. // Diabetes. 2003. V. 52. P. 3005–3009. https://doi.org/10.2337/diabetes.52.12.3005
- Eckstein S.S., Weigert C., Lehmann R. // Curr. Med. Chem. 2017. V. 24. P. 1827–1852. https://doi.org/10.2174/0929867324666170426142826
- Chang Q., Li Y., White M.F., Fletcher J.A., Xiao S. // Cancer Res. 2002. V. 62. P. 6035–6038.
- Wang Y., Nishina P.M., Naggert J.K. // J. Endocrinol. 2009. V. 203. P. 65–74. https://doi.org/10.1677/JOE-09-0026
- Faddladdeen K.A.J. // Folia Morphol. (Warsz). 2021. V. 80. P. 149–157. https://doi.org/10.5603/FM.a2020.0034
- Shrivastava S.R., Shrivastava P.S., Ramasamy J. // J. Diabetes Metab. Disord. 2013. V. 12. P. 14. https://doi.org/10.1186/2251-6581-12-14
- Stull A.J., Wang Z.Q., Zhang X.H., Yu Y., Johnson W.D., Cefalu W.T. // Diabetes. 2012. V. 61. P. 1415–1422. https://doi.org/10.2337/db11-0744
- Behl T., Gupta A., Sehgal A., Albarrati A., Albratty M., Meraya A.M., Najmi A., Bhatia S., Bungau S. // Biomed. Pharmacother. 2022. V. 153. P. 113405. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113405
- Jung H.J., Seong S.H., Ali M.Y., Min B.S., Jung H.A., Choi J.S. // Arch. Pharm. Res. 2017. V. 40. P. 1403– 1413. https://doi.org/10.1007/s12272-017-0992-0
- Coughlan K.A., Valentine R.J., Ruderman N.B., Saha A.K. // Diabetes Metab. Syndr. Obes. 2014. V. 7. P. 241–253. https://doi.org/10.2147/DMSO.S43731
- Dugan L.L., You Y.H., Ali S.S., Diamond-Stanic M., Miyamoto S., DeCleves A.E., Andreyev A., Quach T., Ly S., Shekhtman G., Nguyen W., Chepetan A., Le T.P., Wang L., Xu M., Paik K.P., Fogo A., Viollet B., Murphy A., Brosius F., Naviaux R.K., Sharma K. // J. Clin. Invest. 2013. V. 123. P. 4888–4899. https://doi.org/10.1172/JCI66218
- Wu H., Deng X., Shi Y., Su Y., Wei J., Duan H. // J. Endocrinol. 2016. V. 229. P. R99–R115. https://doi.org/10.1530/JOE-16-0021
- Kleiner S., Mepani R.J., Laznik D., Ye L., Jurczak M.J., Jornayvaz F.R., Estall J.L., Chatterjee Bhowmick D., Shulman G.I., Spiegelman B.M. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2012. V. 109. P. 9635–9640. https://doi.org/10.1073/pnas.1207287109
- Rius-Pérez S., Torres-Cuevas I., Millán I., Ortega Á.L., Pérez S. // Oxid. Med. Cell Longev. 2020. V. 2020. P. 1452696. https://doi.org/10.1155/2020/1452696
- Kim M.J., Yun H., Kim D.H., Kang I., Choe W., Kim S.S., Ha J. // J. Ginseng Res. 2014. V. 38. P. 16–21. https://doi.org/10.1016/j.jgr.2013.11.010
- Hsu W.H., Chen T.H., Lee B.H., Hsu Y.W., Pan T.M. // Food Chem. Toxicol. 2014. V. 64. P. 94–103. https://doi.org/10.1016/j.fct.2013.11.015
- Li X., Wang L., Ma H. // Mol. Med. Rep. 2019. V. 20. P. 1754–1760. https://doi.org/10.3892/mmr.2019.10391
- Xu Z., Sun J., Tong Q., Lin Q., Qian L., Park Y., Zheng Y. // Int. J. Mol. Sci. 2016. V. 17. P. 2001. https://doi.org/10.3390/ijms17122001
- Kawano Y., Ryder J.W., Rincon J., Zierath J.R., Krook A., Wallberg-Henriksson H. // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2001. V. 281. P. E1255–E1259. https://doi.org/10.1152/ajpendo.2001.281.6.e1255
- Huang X., Liu G., Guo J., Su Z. // Int. J. Biol. Sci. 2018. V. 14. P. 1483–1496. https://doi.org/10.7150/ijbs.27173.
- Song C., Liu D., Yang S., Cheng L., Xing E., Chen Z. // Exp. Ther. Med. 2018. V. 16. P. 3345–3352. https://doi.org/10.3892/etm.2018.6615
- Li J.C., Shen X.F., Shao J.A., Tao M.M., Gu J., Li J., Huang N. // Drug Des. Devel. Ther. 2018. V. 12. P. 2695–2706. https://doi.org/10.2147/DDDT.S171025
- Yang Q., Wen Y.M., Shen J., Chen M.M., Wen J.H., Li Z.M., Liang Y.Z., Xia N. // Diabetes Metab. Syndr. Obes. 2020. V. 13. P. 713–718. https://doi.org/10.2147/DMSO.S231979
- Cooper M.S., Stewart P.M. // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2009. V. 94. P. 4645–4654. https://doi.org/10.1210/jc.2009-1412
- Blum A., Loerz C., Martin H.J., Staab-Weijnitz C.A., Maser E. // J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2012. V. 128. P. 51–55. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2011.09.003
- Hintzpeter J., Stapelfeld C., Loerz C., Martin H.-J., Maser E. // PLoS One. 2014. V. 9. P. e84468. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084468
- Damayanti D.S., Utomo D.H., Kusuma C. // In Silico Pharmacol. 2016. V. 5. P. 3. https://doi.org/10.1007/s40203-017-0023-3
- Kang S., Tsai L.T., Rosen E.D. // Trends Cell Biol. 2016. V. 26. P. 341–351. https://doi.org/10.1016/j.tcb.2016.01.002
- Asadi S., Rahimi Z., Saidijam M., Shabab N., Goodarzi M.T. // Int. J. Mol. Cell Med. 2018. V. 7. P. 176–184. https://doi.org/10.22088/IJMCM.BUMS.7.3.176
- Kim D.H., Kim S.M., Lee B., Lee E.K., Chung K.W., Moon K.M., An H.J., Kim K.M., Yu B.P., Chung H.Y. // J. Nutr. Biochem. 2017. V. 45 P. 104–114. https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2017.04.014
- Marchelek-Mysliwiec M., Nalewajska M., TurońSkrzypińska A., Kotrych K., Dziedziejko V., Sulikowski T., Pawlik A. // Int. J. Mol. Sci. 2022. V. 23. P. 11611. https://doi.org/10.3390/ijms231911611
- Tang C., Ahmed K., Gille A., Lu S., Gröne H.J., Tunaru S., Offermanns S. // Nat. Med. 2015. V. 21. P. 173–177. https://doi.org/10.1038/nm.3779
- Prentice K.J., Wheeler M.B. // Cell Metab. 2015. V. 21. P. 353–354. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2015.02.015
- Feng X.T., Duan H.M., Li S.L. // Int. J. Mol. Med. 2017. V. 40. P. 922–930. https://doi.org/10.3892/ijmm.2017.3070
- Dwitiyanti D., Harahap Y., Elya B., Bahtiar A. // Adv. Pharmacol. Pharm. Sci. 2021. V. 2021. P. 8869571. https://doi.org/10.1155/2021/8869571
- De León D.D., Crutchlow M.F., Ham J.Y., Stoffers D.A. // Int. J. Biochem. Cell Biol. 2006. V. 38. P. 845–859. https://doi.org/10.1016/j.biocel.2005.07.011
- Li Y., Zhang W., Zhao R., Zhang X. // Bioact. Mater. 2022. V. 15. P. 392–408. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2022.02.025
- Seino Y., Fukushima M., Yabe D. // J. Diabetes Investig. 2010. V. 1. P. 8–23. https://doi.org/10.1111/j.2040-1124.2010.00022.x
- Chao E.C. // Clin. Diabetes. 2014. V. 32. P. 4–11. https://doi.org/10.2337/diaclin.32.1.4
- Saisho Y. // Diseases. 2020. V. 8. P. 14. https://doi.org/10.3390/diseases8020014
- Xu B., Li S., Kang B., Zhou J. // Cardiovasc. Diabetol. 2022. V. 21. P. 83. https://doi.org/10.1186/s12933-022-01512-w
- Moradi-Marjaneh R., Paseban M., Sahebkar A. // Phytother. Res. 2019. V. 33. P. 2518–2530. https://doi.org/10.1002/ptr.6421
- Anderson J.E. // Diabetes Spectr. 2020. V. 33. P. 165–174. https://doi.org/10.2337/ds19-0031
- Choi C.-I. // Molecules. 2016. V. 21. P. 1136. https://doi.org/10.3390/molecules21091136
- McCarty M.F., DiNicolantonio J.J. // Open Heart. 2015. V. 2. P. e000205. https://doi.org/10.1136/openhrt-2014-000205
- Taslimi P., Aslan H.E., Demir Y., Oztaskin N., Maraş A., Gulçin İ., Beydemir S., Goksu S. // Int. J. Biol. Macromol. 2018. V. 119. P. 857–863. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.08.004
- Li H., Zhou H., Zhang J., Fu X., Ying Z., Liu X. // Int. J. Food Properties. 2021. V. 24. P. 277–290. https://doi.org/10.1080/10942912.2021.1876087
- Brunkhorst C., Schneider E. // Res. Microbiol. 2005. V. 156. P. 851–857. https://doi.org/10.1016/j.resmic.2005.03.008
- Rosak C., Mertes G. // Curr. Diabetes Rev. 2009. V. 5. P. 157–164. https://doi.org/10.2174/157339909788920910
- Dalsgaard N.B., Gasbjerg L.S., Hansen L.S., Hansen N.L., Stensen S., Hartmann B., Rehfeld J.F., Holst J.J., Vilsbøll T., Knop F.K. // Eur. J. Endocrinol. 2021. V. 184. P. 383–394. https://doi.org/10.1530/EJE-20-1121
- Hofmann O., Vértesy L., Braunitzer G. // Biol. Chem. Hoppe Seyler. 1985. V. 366. P. 1161–1168. https://doi.org/10.1515/bchm3.1985.366.2.1161
- Heyl D.L., Fernandes S., Khullar L., Stephens J., Blaney E., Opang-Owusu H., Stahelin B., Pasko T., Jacobs J., Bailey D., Brown D., Milletti M.C. // Bioorg. Med. Chem. 2005. V. 13. P. 4262– 4268. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2005.04.019
- Ben Nejma M., Sioud O., Mastouri M. // 3 Biotech. 2018. V. 8. P. 1. https://doi.org/10.1007/s13205-017-1019-8
- Saxena L., Iyer B. K., Ananthanarayan L. // J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 2010. V. 878. P. 1549–1554. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2010.04.009
- Heo S.J., Hwang J.Y., Choi J.I., Han J.S., Kim H.J., Jeon Y.J. // Eur. J. Pharmacol. 2009. V. 615. P. 252– 256. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2009.05.017
- Admassu H., Gasmalla M.A.A., Yang R., Zhao W. // J. Agricult. Food Chem. 2018. V. 66. P. 4872–4882. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b00960
- Tysoe C., Williams L.K., Keyzers R., Nguyen N.T., Tarling C., Wicki J., Goddard-Borger E.D., Aguda A.H., Perry S., Foster L.J., Andersen R.J., Brayer G.D., Withers S.G. // ACS Cent Sci. 2016. V. 2. P. 154–161. https://doi.org/10.1021/acscentsci.5b00399
- Sintsova O., Popkova D., Kalinovskii A., Rasin A., Borozdina N., Shaykhutdinova E., Klimovich A., Menshov A., Kim N., Anastyuk S., Kusaykin M., Dyachenko I., Gladkikh I., Leychenko E. // Biomed. Pharmacother. 2023. V. 168. P. 115743. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.115743
- Sintsova O.V., Leychenko E.V., Gladkikh I.N., Anastyuk S.D., Monastyrnaya M.M., and Kozlovskaya E.P. // Vestnik of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences. 2018. V. 6S. P. 66. https://doi.org/10.25808/08697698.2018.202.6S.082
- Sintsova O., Gladkikh I., Kalinovskii A., Zelepuga E., Monastyrnaya M., Kim N., Shevchenko L., Peigneur S., Tytgat J., Kozlovskaya E., Leychenko E. // Marine Drugs. 2019. V. 17. P. 542. https://doi.org/10.3390/md17100542
- Bhuyan P., Sarma S., Ganguly M., Hazarika J., Mahanta R. // J. Mol. Structure. 2020. V. 1222. P. 128957. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128957
- Schleicher E.D., Weigert C. // Kidney Int. Suppl. 2000. V. 58. P. S13–S18. https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.07703.x
- Srinivasan V., Sandhya N., Sampathkumar R., Farooq S., Mohan V., Balasubramanyam M. // Clin. Biochem. 2007. V. 40. P. 952–957. https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2007.05.002
- Li J.Y., Wang Y.D., Qi X.Y., Ran L., Hong T., Yang J., Yan B., Liao Z.Z., Liu J.H., Xiao X.H. // Clin. Chim. Acta. 2019. V. 494. P. 52–57. https://doi.org/10.1016/j.cca.2019.03.006
- Peng L., Wei Y., Shao Y., Li Y., Liu N., Duan L. // Mediators Inflamm. 2021. V. 2021. P. 5576059. https://doi.org/10.1155/2021/5576059
- Paradis R., Lazar N., Antinozzi P., Perbal B., Buteau J. // PLoS One. 2013. V. 8. P. e64957. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0064957
- Wang H., Huang B., Hou A., Xue L., Wang B., Chen J., Li M., Zhang J.V. // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2021. V. 320. P. E786–E796. https://doi.org/10.1152/ajpendo.00230.2020
- Wang P., Sang S. // Biofactors. 2018. V. 44. P. 16–25. https://doi.org/10.1002/biof.1410
- Xia N., Daiber A., Förstermann U., Li H. // Br. J. Pharmacol. 2017. V. 174. P. 1633–1646. https://doi.org/10.1111/bph.13492
- Zheng T., Chen H. // Mol. Immunol. 2021. V. 137. P. 163–173. https://doi.org/10.1016/j.molimm.2021.06.011
- Frkic R.L., Richter K., Bruning J.B. // J. Biol. Chem. 2021. V. 297. P. 101030. https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.101030
- Rangwala S.M., Lazar M.A. // Trends Pharmacol. Sci. 2004. V. 25. P. 331–336. https://doi.org/10.1016/j.tips.2004.03.012.
- Ma X., Wang D., Zhao W., Xu L. // Front. Endocrinol (Lausanne). 2018. V. 9. P. 473. https://doi.org/10.3389/fendo.2018.00473
- Александров А.А. // РМЖ. 2011. Т. 13. С. 847.
- Mazidi M., Karimi E., Meydani M., GhayourMobarhan M., Ferns G.A. // World J. Methodol. 2016. V. 6. P. 112–127. https://doi.org/10.5662/wjm.v6.i1.112
- Balbaa M., El-Zeftawy M., Abdulmalek S.A. // Molecules. 2021. V. 26. P. 6836. https://doi.org/10.3390/molecules26226836
- Sireesh D., Dhamodharan U., Ezhilarasi K., Vijay V., Ramkumar K.M. // Sci. Rep. 2018. V. 8. P. 5126. https://doi.org/10.1038/s41598-018-22913-6
- Reis A.A. da S., Santos R. da S., Cruz A.H. da S., Silva E.G. da, Cruz A.D. da, Pedrino G.R. // InTech. 2016. https://doi.org/10.5772/66132
- Zamanian M.Y., Giménez-Llort L., Nikbakhtzadeh M., Kamiab Z., Heidari M., Bazmandegan G. // Curr. Mol. Pharmacol. 2023. V. 16. P. 331–345. https://doi.org/10.2174/1874467215666220620143655
- Cuadrado A., Manda G., Hassan A., Alcaraz M.J., Barbas C., Daiber A., Ghezzi P., León R., López M.G., Oliva B., Pajares M., Rojo A.I., Robledinos-Antón N., Valverde A.M., Guney E., Schmidt H.H.H.W. // Pharmacol. Rev. 2018. V. 70. P. 348–383. https://doi.org/10.1124/pr.117.014753
- Matzinger M., Fischhuber K., Heiss E.H. // Biotechnol. Adv. 2018. V. 36. P. 1738–1767. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2017.12.015
- Ghareghomi S., Rahban M., Moosavi-Movahedi Z., Habibi-Rezaei M., Saso L., Moosavi-Movahedi A.A. // Molecules. 2021. V. 26. P. 7658. https://doi.org/10.3390/molecules26247658
- Chang C.L., Lin Y., Bartolome A.P., Chen Y.C., Chiu S.C., Yang W.C. // Evid. Based Complement Alternat. Med. 2013. V. 2013. P. 378657. https://doi.org/10.1155/2013/378657
- Riyaphan J., Pham D.C., Leong M.K., Weng C.F. // Biomolecules. 2021. V. 11. P. 1877. https://doi.org/10.3390/biom11121877
- Agarwal P. // Res. Rev. J. Med. Health Sci. 2016. V. 5. P. 1–8.
- Atanasov A.G., Zotchev S.B., Dirsch V.M., International Natural Product Sciences Taskforce, Supuran C.T. // Nat. Rev. Drug Discov. 2021. V. 20. P. 200–216. https://doi.org/10.1038/s41573-020-00114-z
Supplementary files