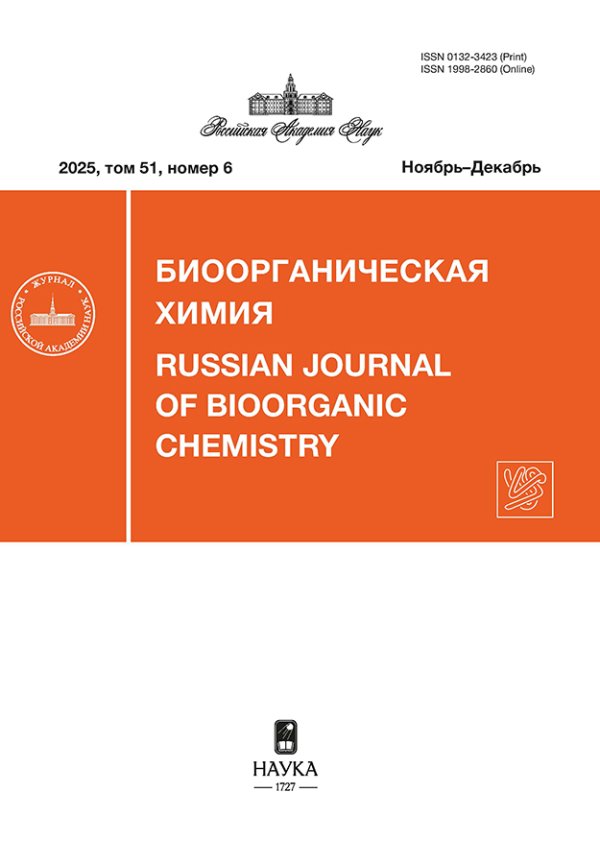Биотехнологический способ получения рекомбинантного двухкомпонентного лантибиотика лихеницидина в бактериальной системе экспрессии
- Авторы: Антошина Д.В.1, Баландин С.В.1,2, Тагаев А.А.1, Потемкина А.А.1,2, Овчинникова Т.В.1,2
-
Учреждения:
- ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
- Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
- Выпуск: Том 50, № 4 (2024)
- Страницы: 485-497
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-3423/article/view/267320
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324040081
- EDN: https://elibrary.ru/MWYNGK
- ID: 267320
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Лантибиотики представляют собой семейство рибосомально синтезируемых бактериальных антимикробных пептидов, которые подвергаются посттрансляционной модификации с образованием остатков лантионина (Lan) и метиллантионина (MeLan). Лантибиотики рассматриваются как перспективные средства для борьбы с антибиотикорезистентными бактериальными инфекциями. В настоящей работе представлен биотехнологический способ получения двух компонентов лантибиотика лихеницидина из Bacillus licheniformis B-511 – Lchα и Lchβ. Разработана система, позволяющая проводить в клетках Escherichia coli коэкспрессию генов lchА1 или lchA2, кодирующих предшественники α- или β-компонентов, соответственно, с генами lchM1 или lchM2 модифицирующих ферментов LchM1 и LchM2. Разработанная система гетерологичной экспрессии и очистки позволила получить с высоким выходом посттрансляционно модифицированный рекомбинантный Lchβ, полностью идентичный природному пептиду по структуре и биологической активности.
Ключевые слова
Полный текст
Сокращения: АМП – антимикробные пептиды.
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день поиск и разработка новых антимикробных препаратов выступают критически важными из-за широкого распространения заболеваний, вызванных антибиотикорезистентными инфекциями. Несмотря на успехи в создании синтетических антибиотиков, большой интерес представляют природные защитные соединения, в частности, антимикробные пептиды (АМП) и их аналоги. АМП обнаружены в различных природных источниках – от бактерий до млекопитающих – и играют важную роль в регулировании микробных сообществ и иммунной защите многоклеточных организмов, обеспечивая им невосприимчивость к патогенным микроорганизмам.
Бактериоцины – рибосомально синтезируемые АМП [1, 2], продуцируемые многими грамположительными и грамотрицательными бактериями, а также археями. В настоящее время известно несколько систем классификации бактериоцинов, основанных на различиях в химической структуре, биологической активности и механизмах действия [3]. Небольшие термостабильные бактериоцины молекулярной массой менее 10 кДа подразделяют на два класса. К классу I относят бактериоцины, содержащие посттрансляционные модификации, а к классу II — немодифицируемые пептиды. Среди посттрансляционно модифицируемых бактериоцинов наиболее многочисленное и хорошо исследованное семейство составляют лантибиотики, многие из которых имеют потенциал медицинского применения в качестве эффективных антимикробных средств [4]. Характерной особенностью лантибиотиков является наличие таких нетипичных аминокислотных остатков, как лантионин (Lan, Ala-S-Ala) и метиллантионин (MeLan, Abu-S-Ala), которые образуются в результате циклизации при взаимодействии дегидратированных остатков Ser (2,3-дегидроаланин, Dha) и Thr (2,3-дегидробутирин, Dhb) с остатками Cys с образованием тиоэфирных связей при участии специфичных модифицирующих ферментов [1]. В зависимости от структуры и механизма ферментативного катализа при формировании тиоэфирных связей лантипептиды подразделяются на четыре класса, при этом большинство лантипептидов с антибиотической активностью (лантибиотиков) относятся к классам I и II [5]. Лантибиотики класса I и их типичный представитель низин – широко используемый пищевой консервант Е234 – претерпевают посттрансляционную модификацию при участии двух различных ферментов: LanB, осуществляющего дегидратацию остатков Ser и Thr, и LanC, катализирующего циклизацию с образованием тиоэфирных связей. Модификацию лантибиотиков класса II осуществляет один бифункциональный фермент – LanM.
Среди лантибиотиков класса II отдельную подгруппу составляют двухкомпонентные лантибиотики [1, 5]. Данные пептиды отличаются тем, что функционируют в виде двух отдельных компонентов (α и β), каждый из которых кодируется отдельным геном (lanA1 и lanA2) и модифицируется при участии особого фермента (LanM1 или LanM2). Каждый из компонентов обладает самостоятельной антимикробной активностью, однако антимикробный эффект значительно возрастает при их совместном синергическом действии. На сегодняшний день известно 13 представителей двухкомпонентных лантибиотиков: лактицин 3147 [6], стафилококкцин [7], плантарицин W [8], BHT [9], Smb [10], лихеницидин [11–14], галодурацин [15], энтероцин W [16], флавецин [17], бицереуцин [18], тузин [19], формицин [20] и розеоцин [21]. Ранее нами был выделен двухкомпонентный лантибиотик лихеницидин из Bacillus licheniformis VK21, состоящий из компонентов Lchα и Lchβ и обладающий активностью в отношении грамположительных бактерий в наномолярном диапазоне концентраций [12]. Нами была установлена структура обоих компонентов лихеницидина [12] и исследован механизм действия Lchα [14]. Строение зрелых компонентов Lchα и Lchβ, схематичное представление их посттрансляционной модификации, а также структурная организация кластера генов биосинтеза лихеницидина изображены на рис. 1.
Рис. 1. (а) Схема биосинтеза и модификации компонентов лихеницидина [4]; (б) структурная организация кластера биосинтеза лихеницидина из B. licheniformis VK21 [12].
Ввиду сложности процесса созревания лантибиотиков и многостадийности внесения посттрансляционных модификаций природными системами биосинтеза получение достаточных количеств полностью модифицированных пептидов даже для их первоначальных структурно-функциональных исследований зачастую становится нетривиальной задачей. Во многих случаях выход зрелых лантибиотиков при очистке из культур природных продуцентов измеряется микрограммами на 1 л культуральной жидкости. Разработка биотехнологических систем для получения рекомбинантных лантибиотиков может позволить решить эту проблему, а также дать в руки исследователей удобный инструмент для дальнейшего изучения этих перспективных антимикробных соединений. Известны системы гетерологичной экспрессии генов лантибиотиков (в первую очередь, принадлежащих к классу I) на основе Lactococcus lactis и Bacillus subtilis. В ряде работ [22, 23] была показана возможность получения лантибиотиков лихеницидина и галодурацина в гетерологичной системе на основе E. coli. Однако, указанная методика получения рекомбинантного лихеницидина включает последовательные стадии экстракции примесей и целевого пептида органическими растворителями, что повышает её трудоемкость и лишает универсальности, необходимой для препаративной наработки и очистки потенциального прототипа фармацевтической субстанции. Настоящая работа посвящена разработке биотехнологического способа получения рекомбинантного двухкомпонентного лантибиотика лихенцидина из B. licheniformis B-511 в гетерологичной системе экспрессии в клетках E. coli BL21(DE3).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Разработка биотехнологического способа получения посттрансляционно модифицированных компонентов лихеницидина
Необходимость разработки способа получения рекомбинантного лихеницидина была обусловлена низкими выходами, которые наблюдались при очистке его компонентов из штаммов B. licheniformis VK21 и B-511 (порядка 0.1 мг/л для Lchα и 0,01 мг/л для Lchβ). В ходе данного исследования мы разработали биотехнологическую систему, которая позволяет получать рекомбинантные посттрансляционно модифицированные компоненты лихеницидина путём гетерологичной экспрессии в штамме E. coli BL21(DE3). Для этого нами были спроектированы и получены конструкции на основе плазмид серии pET, в которые были встроены последовательности генов, кодирующих предшественники компонентов лихеницидина (SP1LchA1 и SP2LchA2), включая сигнальные последовательности SP1 и SP2, и гены ферментов для их модификации (LchM1 и LchM2). Синтез полинуклеотидных последовательностей, кодирующих компоненты лихеницидина, проводили методом ПЦР путём амплификации целевых генов на матрице геномной ДНК штамма B. licheniformis B-511, идентичного штамму ATCC 14580. Сравнение штаммов B. licheniformis VK21 и B-511 показало, что они имеют одинаковые гены lchA1, lchA2 и lchM2 и небольшие отличия в гене lchM1, которые сводятся к заменам в пяти положениях (Val373Ala, Leu707Phe, Ile771Val, Lys818Arg, Leu946Phe). Как нами было установлено, эти замены не оказывают значительного влияния на активность фермента, поскольку указанные мутации локализованы в участках структуры фермента, отдаленных от каталитических центров дегидратации и циклизации. Каждую из полученных нуклеотидных последовательностей встраивали в вектор методом гомологичной рекомбинации in vivo в клетках E. coli DH10B. Остатки Met в структуре предшественника каждого из пептидов заменяли на Leu, что позволило использовать реакцию с бромцианом для удаления гистидиновой метки и сигнальной части пропептида. Дополнительные модификации обеих нуклеотидных последовательностей (введение мутаций в гены пептидов и ферментов, удаление гена белка-носителя) осуществляли методом сайтнаправленного мутагенеза с использованием амплификации полноразмерной плазмиды методом обратной ПЦР с мутагенизирующими праймерами [24]. Дальнейшую рециклизацию осуществляли путём гомологичной рекомбинации. В ходе оптимизации системы экспрессии рекомбинантных компонентов лихеницидина было показано, что присутствие белка-носителя тиоредоксина (TrxL), повышающего растворимость и выход гибридных белков, не препятствует осуществлению модификаций предшественников компонентов лихеницидина ферментами LchM1 и LchM2. Однако, наличие белка-носителя в смеси продуктов реакции с бромцианом затрудняло очистку зрелых компонентов лихеницидина из-за близких значений времени удерживания белков на колонке при проведении обращённо-фазовой ВЭЖХ (офВЭЖХ), вследствие чего было решено отказаться от его использования. Схема экспрессионных плазмид для получения рекомбинантных компонентов лихеницидина представлена на рис. 2.
Рис. 2. Схематичное представление экспрессионных плазмид для получения рекомбинантных компонентов лихеницидина.
Гетерологичная экспрессия и модификация компонентов лихеницидина в E. coli
Для получения каждого из пептидов проводили трансформацию Ca2+-компетентных клеток E. coli BL21(DE3) соответствующей плазмидой и дальнейшую коэкспрессию каждого из предшественников компонентов лихеницидина и соответствующего ему модифицирующего фермента. При этом биосинтез, модификация и накопление компонентов происходили в цитоплазме клеток E. coli. Очистка включала в себя металлохелатную хроматографию в денатурирующих условиях, отщепление олигогистидиновой метки и сигнальной части пропептида с помощью реакции с бромцианом в кислой среде и разделение продуктов реакции с помощью офВЭЖХ. Важно отметить, что в ходе совместной экспрессии предшественника пептида с ферментом его модификации синтезировался набор модифицированных форм с разной степенью зрелости (с различным числом фосфорилированных и дегидратированных остатков и тиоэфирных связей), имеющих различные времена удерживания на колонке при разделении методом офВЭЖХ. Хроматограммы очистки рекомбинантных компонентов Lchα и Lchβ, а также масс-спектрометрический анализ фракций, предположительно содержащих целевые зрелые пептиды, представлены на рис. 3 и 4.
Рис. 3. Хроматограммы очистки полученных рекомбинантных компонентов лихеницидина с помощью обращённо-фазовой ВЭЖХ. (а) – Lchα и другие незрелые формы LchA1, (б) – Lchβ и другие незрелые формы LchA2.
Рис. 4. МАЛДИ-масс-спектрометрический анализ полученных рекомбинантных компонентов лихеницидина. (а) – LchA1, (б) – LchA2. (а) – Lchα и другие незрелые формы LchA1; (б) – Lchβ и другие незрелые формы LchA2.
Как видно из хроматограммы и масс-спектра фракции, содержащей Lchα, в ходе коэкспрессии значительная часть пептида оставалась в немодифицированной форме. Лишь небольшая фракция имела в своей структуре все семь необходимых дегидратаций. Исходя из предположения, что низкая модифицирующая активность фермента LchM1 могла быть связана с низкой стабильностью его мРНК, мы повторили эксперимент с использованием штамма E. coli BL21 Star (DE3), мутантного по гену РНКазы E. При этом уровень экспрессии гена lchM1 значительно повысился, что привело к возрастанию суммарной доли полностью дегидратированной (−7 H2O) и предшествующей ей (−6 H2O) форм Lchα. Тем не менее, оставшаяся часть пептида все ещё была представлена преимущественно недегидратированной формой. Варьирование условий коэкспрессии генов lchA1 и lchM1 (введение осмолитов в состав питательной среды, снижение температуры инкубации до 16°С, использование автоиндукции лактозой, изменение продолжительности культивирования) также не привело к повышению выхода зрелой формы пептида Lchα.
Напротив, рекомбинантный компонент Lchβ был получен нами в аналогичной системе экспрессии с высоким выходом, составившим около 4 мг с 1 л культуры. На стадии офВЭЖХ был получен ряд пиков (рис. 4б), среди которых с помощью МАЛДИ масс-спектрометрии удалось выявить фракцию, содержащую пептид с молекулярной массой, соответствующей природному β-компоненту лихеницидина (Мрасч ~ 3019.5 Да). Идентичность структуры полученного рекомбинантного Lchβ с природным была подтверждена с помощью ЯМР-спектроскопии (данные не приведены). Таким образом, ферментативная активность LchM2 в полученной системе обеспечивает эффективное отщепление 12 молекул воды от предшественника пептида и образование четырех внутримолекулярных тиоэфирных связей.
Получение природных α- и β-компонентов лихеницидина из B. licheniformis B-511 проводили по ранее описанной нами методике [12]. Хроматограмма очистки пептидов с помощью офВЭЖХ и МАЛДИ масс-спектрометрический анализ полученных фракций пептидов представлены на рис. 5.
Fig. 5. Chromatogram of purification of natural lichenicidin using reversed-phase HPLC and MALDI mass spectrometric analysis of isolated natural components of lichenicidin.
Дополнительным подтверждением идентичности рекомбинантных компонентов природному лихеницидину стали результаты тестирования их антимикробной активности. Из-за малого количества получаемой зрелой формы Lchα, ее активность была протестирована только в отношении штамма Listeria monocytogenes EGD методом диффузии в твёрдую агаризованную среду, в результате чего была обнаружена зона ингибирования, свидетельствовавшая о наличии антимикробных свойств. Полученная зрелая форма рекомбинантного Lchβ проявила антимикробную активность в аналогичном тесте только в отношении штамма Staphylococcus aureus ATCC 29213 и не была активной в отношении других тестируемых штаммов бактерий. Однако в тестах методом серийных разведений в жидкой среде рекомбинантный Lchβ показал активность в отношении других штаммов бактерий (табл. 1). Кроме того, рекомбинантный Lchβ продемонстрировал синергизм при совместном действии с природным α-компонентом лихеницидина в отношении L. monocytogenes EGD (рис. 6) по результатам тестирования в твёрдой агаризованной и в жидкой среде (табл. 1).
Таблица 1. Антимикробная активность полученных компонентов лихеницидина в отношении чувствительных тест-штаммов бактерий
Тестируемый штамм | МИК, мкМ | |||||
Rβ | Nβ | Nα | Nα + Nβ | Nα + Rβ | Низин | |
Micrococcus luteus Ac-2229 | > 128 | > 32 | 4 | 0.125 + 0.125 | 0.25 + 0.25 | 0.0156 |
Listeria monocytogenes EGD | > 128 | > 32 | >16 | 2 + 2 | 2 + 2 | 0.0625 |
Bacillus subtilis B-886 | 32 | 32 | 32 | 1 + 1 | 2 + 2 | 0.0313 |
Mycobacterium phlei Ac-1221 | 32 | 32 | 16 | 4 + 4 | 4 + 4 | 0.25 |
* Nα – природный Lchα; Nβ – природный Lchβ; Rβ – рекомбинантный Lchβ; МИК – минимальная ингибирующая концентрация.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Получение плазмидных конструкций. Для получения нуклеотидных последовательностей, кодирующих предшественники компонентов лантибиотика лихеницидина LchA1 и LchA2 и модифицирующие их ферменты LchM1 и LchM2, соответственно, проводили амплификацию их генов на матрице геномной ДНК природного продуцента B. licheniformis B-511 (GeneBank: AAU25566.1, AFR74837.1, ADM36019.1, AAU42939.1) с помощью ПЦР. Синтезированные нуклеотидные последовательности встраивали в вектор pET-8хHis-TrxL из коллекции УНЦ ИБХ РАН методом гомологичной рекомбинации in vivo [24] в клетках E. coli DH10B. В случае lchA1 с помощью ПЦР синтезировали мутантный ген, кодирующий предшественник α-компонента лихеницидина LchA1 с заменой остатков M5L и M13L в сигнальной части, а также M28L в модифицируемой части пептида. Использованные в работе последовательности олигонуклеотидных праймеров приведены в табл. 2. Правильность сборки полученных плазмидных конструкций оценивали с помощью секвенирования по Сэнгеру (ЗАО «Евроген»). Для повышения достоверности полученных данных каждый клонированный фрагмент секвенировали дважды в противоположных направлениях.
Рис. 6. Синергическое действие эквимолярной смеси природного Lchα (Nα) и рекомбинантного Lchβ (Rβ) в отношении L. monocytogenes EGD (суммарная концентрация смеси пептидов – 1.0 мкг; концентрация Nα или Rβ – 1.0 мкг; (+) контроль – тетрациклин в концентрации 1.0 мкг; (–) контроль – 5% ацетонитрил, 0.1% трифторуксусная кислота.
Таблица 2. Последовательности олигонуклеотидных праймеров для ПЦР
№ | Нуклеотидная последовательность (5′→3′) | Назначение |
1 | ACGGATCCTCAAAAAAGGAACTGATTCTTTCATGGAAAAATCCTCTGTATCGCACTGAATCTTCT | Получение ампликона SP1LchA1_M13L-LchM1 |
2 | TTCCTTTTTTGAGGATCCGTGATG | |
3 | ACGGATCCTCAAAAAAGGAACTGATT CTTTCATGGAAAAATCCTCTGTATCGC ACTGAATCTTCT | Мутагенез сигнальной последовательности LchA1 (SP1_M5L, M13L) |
4 | CAGTTCCTTTTTTGAGGATCCGTGAT | |
5 | CCTCGACGCTAACCTGGCCGGATCCCATCA CCACCACCATCACGGAAAAACACTGAAAAATTC | Получение ампликона SP2LchA2-LchM2 |
6 | ACGGAAAAACACTGAAAAATTCAGCTGCCCGTG AAGCCTTCAAAGGAGCCAATCATCCGG | |
7 | AGGAGCCAATCATCCGGCAGGGCTGGTTTCCGA AGAGGAATTGAAAGCTTTGGTAGGAGG | |
8 | TTGAAAGCTTTGGTAGGAGGAAATGACGTCAAT CCTGAAATGACAACTCCTGCTACAACC | |
9 | GTGGTGGTGGTGCTCGAGAGAATTCTCACCTGCCCGTC |
Получение рекомбинантных компонентов лихеницидина. Штаммы-продуценты рекомбинантных компонентов лихеницидина получали путем трансформации Ca2+-компетентных клеток E. coli BL21(DE3) плазмидой, кодирующий октагистидин-меченый препропептид и фермент его модификации. Трансформированные клетки выращивали в течение 16 ч при 37°C в 10 мл среды LB, содержащей 100 мкг/мл ампициллина и 20 мМ глюкозы и вносили в 1.0 л среды LB для экспрессии, содержащей 20 мМ глюкозы, 1 мМ MgSO4 и 100 мкг/мл ампициллина. Культивирование осуществляли в термостатируемом шейкере при 37°C, 220 об/мин в течение 2–3 ч до плотности 0.8–1.0 OD600/мл, после чего добавляли индуктор изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид (ИПТГ) до конечной концентрации 0.2 мМ. Продолжали инкубацию клеточной культуры при температуре 30°C, 220 об/мин в течение 3–4 ч. Клеточную массу осаждали центрифугированием при скорости 4000 об/мин и температуре 4°C в течение 10 мин. Полученный клеточный осадок замораживали и хранили при температуре минус 20°C.
Выделение и очистка рекомбинантных компонентов лихеницидина. Металлохелатная хроматография. Клеточный осадок гомогенизировали с помощью ручного стеклянного гомогенизатора до однородной суспензии в буфере А для металлохелатной хроматографии (6 М гуанидина гидрохлорид, 100 мМ NaH2PO4, 30 мМ имидазол, pH 7.8), добавляя 9 мл буфера на 1 г осадка. Далее проводили ультразвуковой лизис полученной клеточной суспензии на льду в циклическом режиме (400 Дж на 1 мл суспензии). Центрифугировали лизат при скорости 17000 об/мин (30000 g) и температуре 4°C в течение 30 мин.
Гибридные белки, содержащие модифицированные предшественники пептидов Lchα и Lchβ, N-концевую октагистидиновую метку (8xHis) и сигнальный пептид (SP1 или SP2), очищали в денатурирующих условиях с помощью Ni2+-металлохелатной аффинной хроматографии на колонке (d = 1 см, h = 8 см), содержащей сорбент Ni-сефарозу 6 Fast Flow (GE Healthcare, США). Очистку проводили при нормальном давлении и скорости потока буферных растворов 1 мл/мин. Элюцию пептидов проводили с помощью буфера В для металлохелатной хроматографии (6 М гуанидина гидрохлорид, 100 мМ NaH2PO4, 500 мМ имидазол, pH 7.8). Время выхода гибридного белка детектировали по изменению оптического поглощения при длине волны 280 нм.
Отщепление вспомогательных аминокислотных последовательностей. Расщепление гибридного белка по остатку метионина, введенному между сигнальной последовательностью и зрелым пептидом, осуществляли с помощью реакции с бромцианом в кислой среде. К 1 мл элюата в буфере В для металлохелатной хроматографии добавляли 50 мкл 50% раствора бромциана, достигая приблизительно 100-кратного молярного избытка по отношению к остаткам метионина в составе белка, и 54 мкл концентрированной HCl (до расчетного значения pH ~ 1.0). Смесь инкубировали в темноте в течение 16–20 ч при комнатной температуре. Реакцию останавливали добавлением двухкратного объёма воды. Образец упаривали до исходного объёма на вакуумном концентраторе SpeedVac в течение 3 ч для удаления избытка бромциана и HCl. Полученные образцы титровали 4 М NaOH до значения pH 4.0.
Обращённо-фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография (офВЭЖХ). Финальную очистку рекомбинантных пептидов проводили с помощью офВЭЖХ на колонке Reprosil-Pur C18-AQ (d = 5 мкм, 250 × 10 мм) в системе буферов А1 (5% ацетонитрил, 0.1% трифторуксусная кислота) и B1 (80% ацетонитрил, 0.1% трифторуксусная кислота). Разделение смеси продуктов проводили при скорости потока 2 мл/мин в градиенте концентрации ацетонитрила от 5 до 80% буфера B1. Время выхода пептида детектировали по изменению оптического поглощения элюата при 214 и 280 нм. Собранные фракции элюата, соответствующие пикам целевых пептидов на хроматограмме, собирали и упаривали досуха на вакуумном концентраторе SpeedVac. При необходимости проводили повторную очистку с помощью офВЭЖХ на отдельной колонке Reprosil-Pur C18-AQ в тех же условиях.
Уровень экспрессии гибридных белков и ферментов LchM1 и LchM2, степень расщепления бромцианом и качество хроматографической очистки контролировали с помощью белкового электрофореза в денатурирующих условиях в полиакриламидном геле.
Получение и выделение природного лихеницидина. Получение и очистку лихеницидина из природного продуцента B. licheniformis B-511 и его дальнейшую очистку проводили по ранее описанной нами методике [12].
Культуру клеток B. licheniformis B-511 выращивали на чашке с LB-агаром при 37°С в течении 18 ч, затем клетки переносили в 50-миллилитровую пробирку с 10 мл минимальной среды М9 (4.8 мM Na2HPO4, 2.2 мM KH2PO4, 0.85 мM NaCl, 1.87 мM NH4Cl) и проводили культивирование в течение 18 ч на роторной качалке при 37°С и скорости вращения 220 об/мин. Препаративное культивирование проводили в двухлитровых колбах. В каждую колбу добавляли по 160 мл минимальной среды М9 и по 1–2 мл ночной культуры клеток. Проводили культивирование в течение 18 ч на роторной качалке при 37°С и скорости вращения 220 об/мин. Состав ростовой среды М9 с добавками: (4.8 мM Na2HPO4, 2.2 мM KH2PO4, 0.85 мM NaCl, 1.87 мM NH4Cl), 20 мМ глюкоза, 2 мМ MgSO4, 0.1 мМ CaCl2, 0.001% тиамин, 10 мкМ FeCl3, 0.00004% среда «2-3-1» (2% триптон, 3% дрожжевой экстракт, 1% NaCl).
По окончании культивирования клетки отделяли центрифугированием при 8000 g в течение 30 мин. К 1 л супернатанта добавляли 400 мл н-бутанола и проводили однократную экстракцию в течение 16 ч. Водную фазу удаляли с помощью делительной воронки, а полученный экстракт упаривали досуха на роторном испарителе. Перерастворяли образец в 50 мл буфера A2 (30 мМ ацетат аммония, рН 5.6, 30% ацетонитрил) и наносили на колонку с носителем Диасорб-100-C8 (2.5 × 10 см), уравновешенную буфером А2, при скорости потока 2 мл/мин. Элюцию проводили 50 мл буфера B2 (30 мМ ацетат аммония, рН 5.6, 80% ацетонитрил) при скорости потока 2 мл/мин. Полученный элюат упаривали на роторном испарителе досуха и перерастворяли в 3 мл 50% метанола. Финальную очистку компонентов природного лихеницидина проводили с помощью офВЭЖХ, как было описано выше для рекомбинантного пептида.
Анализ структуры полученных пептидов. МАЛДИ-масс-спектрометрия. Масс-спектрометрический анализ полученных пептидов проводили на МАЛДИ-времяпролетном масс-спектрометре Reflex III (Bruker Daltonics, Германия), оснащенном УФ-лазером с рабочей длиной волны 337 нм. В качестве матрицы использовали 10 мг/мл 2,5-дигидроксибензойной кислоты в 20% ацетонитриле, содержащем 0.1% ТФУ.
ЯМР-спектроскопия. Сопоставление структуры рекомбинантного и природного β-компонентов лихеницидина проводилось в лаборатории биомолекулярной ЯМР-спектроскопии ИБХ РАН. Спектры ЯМР измеряли на спектрометрах AVANCE-III 600 и AVANCE-III 800, оснащенных криогенно охлаждаемыми зондами (Bruker, Германия). Отнесение сигналов 1H было получено по стандартной методике с использованием 2D-спектров 1H,1H-TOCSY и 1H,1H-NOESY.
Тестирование антимикробной активности. Первичный скрининг антимикробной активности компонентов лихеницидина и их эквимолярной смеси осуществляли методом диффузии в твердую агаризованную среду, содержащую тестовый штамм бактерий. Тест-культуру бактерий выращивали в 10 мл жидкой питательной среды при 37°C до достижения оптической плотности OD600 ~ 1.0. Аликвоту полученной культуры добавляли к 10 мл расплавленного и охлажденного до 40°С агара в той же питательной среде до расчётного значения OD600 0.001 (приблизительно 2 × 105 КОЕ/мл). Приготовленные растворы заливали в чашки Петри. На поверхность застывшего агара наносили от 0.5 до 10 мкг тестируемых веществ. В качестве положительного контроля использовали антибиотики ампициллин или тетрациклин. Чашки инкубировали в термостате в течение 24 ч при 37°C.
Антимикробную активность пептидов также определяли методом двойных серийных разведений в жидкой питательной среде. Тестирование проводили в стерильных 96-луночных плоскодонных полистироловых планшетах (Eppendorf, Германия) в среде Мюллера-Хинтон (MH) (Sigma-Aldrich, США). Тест-культуры выращивали в жидкой питательной среде LB или MH при 37°С до достижения оптической плотности OD600 ~ 1.0, после чего разбавляли двухкратной средой MH до конечной концентрацией клеток 106 КОЕ/мл. Двойные серийные разведения исследуемых растворов компонентов лихеницидина проводили в лунках планшета в объёме 50 мкл в 0.1% стерильном растворе бычьего сывороточного альбумина (БСА) для предотвращения нежелательной сорбции пептидов. После этого в лунки вносили по 50 мкл приготовленных растворов бактериальных тест-культур и инкубировали планшет в течение 24 ч при температуре 37°С и перемешивании со скоростью 950 об/мин. Значения минимальных ингибирующих концентраций (МИК) определяли как минимальную концентрацию пептида, при которой не наблюдалось видимого роста бактериальной культуры.
Бактериальный рост оценивали визуально. При необходимости дополнительно добавляли в лунки по 20 мкг/мл хромогенного субстрата резазурина (Sigma-Aldrich, США) и инкубировали планшет в течение 2 ч при 37°С и перемешивании со скоростью 950 об/мин. Эксперименты по определению МИК проводили в трехкратной повторности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка способов биотехнологического получения лантибиотиков является необходимым условием для проведения всесторонних исследований этих антимикробных соединений как перспективных прототипов новых лекарственных средств. Создание гетерологичных суперпродуцентов на основе микроорганизмов, в которых гены лантибиотиков экспрессируются в контролируемых условиях, облегчает исследование механизмов их биосинтеза и секреции, а также изучение субстратной специфичности модифицирующих ферментов. В дальнейшем это позволит расширить область применения данных природных биосинтетических систем. Разработанный нами биотехнологический способ получения рекомбинантных компонентов лантибиотика лихеницидина одновременно демонстрирует возможности, которые открывает данный подход, и трудности на пути его реализации, которые могут быть связаны с особенностями конкретных ферментов или их субстратов. Достигнутые выходы рекомбинантного пептида Lchβ позволяют предположить, что модифицирующий фермент LchM2 может быть использован для модификации альтернативных субстратов и для получения других лантипептидов класса II в бактериальных системах экспрессии.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22-14-00380 (https://rscf.ru/project/22-14-00380/).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит описания исследований с участием людей или использованием животных в качестве объектов исследования.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
ВКЛАД АВТОРОВ
Антошина Д.В. и Баландин С.В. собрали и проанализировали литературные и экспериментальные данные, а также подготовили начальную версию рукописи. Антошина Д.В., Баландин С.В., Тагаев А.А., Потемкина А.А. принимали участие в проведении экспериментов. Овчинникова Т.В. сформулировала концепцию, обеспечила координацию и финансирование работ, провела анализ экспериментальных данных, осуществила редактирование и подготовку рукописи к публикации.
Окончательный вариант рукописи был утвержден всеми авторами.
Об авторах
Д. В. Антошина
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: ovch@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
С. В. Баландин
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Email: ovch@ibch.ru
Физтех-школа биологической и медицинской физики
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 141701 Долгопрудный, Институтский пер., 9А. А. Тагаев
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: ovch@ibch.ru
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
А. А. Потемкина
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Email: ovch@ibch.ru
Физтех-школа биологической и медицинской физики
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 141701 Долгопрудный, Институтский пер., 9Т. В. Овчинникова
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: ovch@ibch.ru
Физтех-школа биологической и медицинской физики
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10; 141701 Долгопрудный, Институтский пер., 9Список литературы
- Drider D., Rebuffat S. Prokaryotic Antimicrobial Peptides. From Genes to Applications / Springer. 2011. P. 1–451.
- Antoshina D.V., Balandin S.V., Ovchinnikova T.V. // Biochemistry (Moscow). 2022. V. 87. P. 1387–1403. https://doi.org/10.1134/S0006297922110165
- Zimina M., Babich O., Prosekov A., Sukhikh S., Ivanova S., Shevchenko M., Noskova S. // Antibiotics (Basel). 2020. V. 9. P. 553–574. https://doi.org/10.3390/antibiotics9090553
- Field D., Cotter P.D., Hill C., Ross R.P. // Front. Microbiol. 2015. V. 6. P. 1–8. https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01363
- Repka L.M., Chekan J.R., Nair S.K., van der Donk W.A. // Chem. Rev. 2017. V. 11. P. 5457–5520. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00591
- Ryan M.P., Rea M.C., Hill C., Ross R.P. // Appl. Environ. Microbiol. 1996. V. 62. P. 612–619. https://doi.org/10.1128/aem.62.2.612-619.1996
- Navaratna M.A., Sahl H.G., Tagg J.R. // Infect. Immun. 1999. V. 67. P. 4268–4271. https://doi.org/10.1128/iai.67.8.4268-4271.1999
- Holo H., Jeknic Z., Daeschel M., Stevanovic S., Nes I.F. // Microbiology (Reading). 2001. V. 147. P. 643–651. https://doi.org/10.1099/00221287-147-3-643
- Hyink O., Balakrishnan M., Tagg J.R. // FEMS Microbiol. Lett. 2005. V. 252. P. 235–241. https://doi.org/10.1016/j.femsle.2005.09.003
- Yonezawa H., Kuramitsu H.K. // Antimicrob. Agents Chemother. 2005. V. 49. P. 541–548. https://doi.org/10.1128%2FAAC.49.2.541-548.2005
- Begley M., Cotter P.D., Hill C., Ross R.P. // Appl. Environ. Microbiol. 2009. V. 75. P. 5451–5460. https://doi.org/10.1128/aem.00730-09
- Shenkarev Z.O., Finkina E.I., Nurmukhamedova E.K., Balandin S.V., Mineev K.S., Nadezhdin K.D., Yakimenko Z.A., Tagaev A.A., Temirov Y.V., Arseniev A.S., Ovchinnikova T.V. // Biochem. 2010. V. 49. P. 6462– 6472. https://doi.org/10.1021/bi100871b
- Barbosa J.C., Gonçalves S., Makowski M., Silva Í.C., Caetano T., Schneider T., Mösker E., Süssmuth R.D., Santos N.C., Mendo S. // Coll. Surf. B Biointerfaces. 2022. V. 211. P. 1–11. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.112308
- Panina I.S., Balandin S.V., Tsarev A.V., Chugunov A.O., Tagaev A.A., Finkina E.I., Antoshina D.V., Sheremeteva E.V., Paramonov A.S., Rickmeyer J., Bierbaum G., Efremov R.G., Shenkarev Z.O., Ovchinnikova T.V. // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24. P. 1332. https://doi.org/10.3390/ijms24021332
- McClerren A.L., Cooper L.E., Quan C., Thomas P.M., Kelleher N.L., van der Donk W.A. // Proc. Natl. Acad. Sci USA. 2006. V. 103. P. 17243–17248. https://doi.org/10.1073/pnas.0606088103
- Sawa N., Wilaipun P., Kinoshita S., Zendo T., Leelawatcharamas V., Nakayama J., Sonomoto K. // Appl. Environ. Microbiol. 2012. V. 78. P. 900–903. https://doi.org/10.1128/aem.06497-11
- Zhao X., van der Donk W.A. // Cell Chem. Biol. 2016. V. 23. P. 246–256. https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2015.11.014
- Huo L., van der Donk W.A. // J. Am. Chem. Soc. 2016. V. 138. P. 5254–5257. https://doi.org/10.1021/jacs.6b02513
- Xin B., Zheng J., Liu H., Li J., Ruan L., Peng D., Sajid M., Sun M. // Front Microbiol. 2016. V. 7. P. 1–12. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01115
- Collins F.W.J., O’Connor P.M., O’Sullivan O., Rea M.C., Hill C., Ross R.P. // Microbiology (Reading). 2016. V. 162. P. 1662–1671. https://doi.org/10.1099/mic.0.000340
- Singh M., Chaudhary S., Sareen D. // Mol. Microbiol. 2020. V. 113. P. 326–337. https://doi.org/10.1111/mmi.14419
- Caetano T., Krawczyk J.M., Mösker E., Süssmuth R.D., Mendo S. // Chem. Biol. 2011. V. 18. P. 90–100. https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2010.11.010
- Caetano T., Barbosa J., Möesker E., Süssmuth R.D., Mendo S. // Res Microbiol. 2014. V. 165. P. 600–604. https://doi.org/10.1016/j.resmic.2014.07.006
- Jones D.H., Howard B.H. // BioTechniques. 1991. V. 10. P. 62–66.
Дополнительные файлы