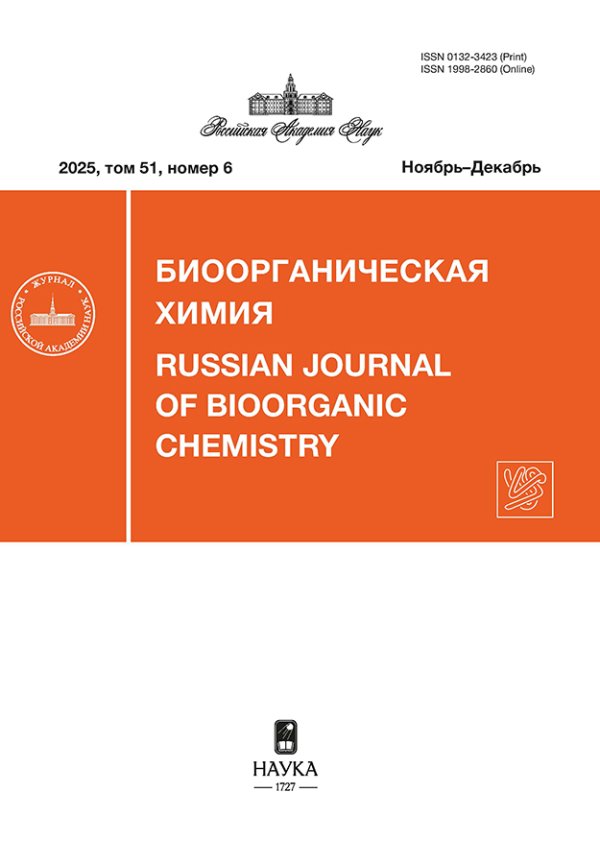Сверхбыстрая фотохимическая реакция родопсина Exiguobacterium sibiricum (ESR) при щелочном значении рН
- Авторы: Смитиенко О.А.1, Фельдман Т.Б.1,2, Петровская Л.Е.3, Крюкова Е.А.3, Шелаев И.В.4, Гостев Ф.Е.4, Черепанов Д.А.4, Кольчугина И.Б.2, Долгих Д.А.1,2,3, Надточенко В.А.4, Кирпичников М.П.2,3, Островский М.А.1,2
-
Учреждения:
- Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
- ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
- Выпуск: Том 50, № 4 (2024)
- Страницы: 508-516
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-3423/article/view/267322
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324040107
- EDN: https://elibrary.ru/MWPPND
- ID: 267322
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Родопсин эубактерии Exiguobacterium sibiricum (ESR) выполняет функцию светозависимого протонного транспорта. В основе работы ESR лежит сверхбыстрая фотохимическая реакция изомеризации ретинального хромофора, которая запускает темновые процессы, замкнутые в фотоцикл. Многие параметры фотоцикла определяются степенью протонирования первичного противоиона хромофорной группы и акцептора протона Asp85. ESR в мицеллах детергента наиболее эффективно прокачивает протоны при рН > 9, когда Asp85 почти полностью депротонирован. В настоящей работе методом фемтосекундной абсорбционной лазерной спектроскопии была исследована фотохимическая реакция ESR при рН 9.5. Показано, что фотоизомеризация хромофорной группы протекает за 0.51 пс, а вклад реакционного возбужденного состояния составляет ~80%. Сравнение с данными, полученными нами ранее при рН 7.4, показало, что при рН 9.5 реакция протекает значительно быстрее и эффективнее. Это подтверждает важную роль степени протонирования противоиона хромофорной группы в фотоактивируемых процессах родопсинов.
Ключевые слова
Полный текст
Сокращения: RPSB – протонированное основание Шиффа ретиналя (retinal protonated Schiff base); ESR – родопсин эубактерии Exiguobacterium sibiricum; ESA – поглощение из возбужденного состояния (excited state absorption); SE – вынужденное испускание (stimulated emission); GSB – выцветание основного состояния (ground state bleaching); PA – поглощение продукта фотореакции (product absorption); волновой пакет – набор когерентных возбужденных колебательных состояний; ППЭ – поверхность потенциальной энергии; FC – франк-кондоновское (Frank–Condon) состояние; CI – коническое пересечение поверхностей потенциальной энергии (conical intersection); HOOP – внеплоскостные колебания атомов водорода (hydrogen-out-of-plane).
ВВЕДЕНИЕ
В родопсинах I типа (микробных родопсинах) хромофорная группа – протонированное основание Шиффа ретиналя (RPSB) – под действием света изомеризуется из полностью транс- в 13-цис-форму [1]. Параметры этой фотохимической реакции существенно зависят от ближайшего белкового окружения. Один из основных факторов – отрицательно заряженный первичный противоион и акцептор протона, координирующий положительный заряд RPSB. В родопсине почвенной эубактерии Exiguobacterium sibiricum (ESR) эту функцию выполняет консервативный остаток Asp85, который, благодаря влиянию остатка His57, имеет сложную кривую титрования с pKa 2.3, 6.0 и 9.1 (в мицеллах детергента n-додецил-β-D-мальтопиранозида (DDM)) [2, 3]. Такой аспартат-гистидиновый комплекс характерен для протеородопсинов – наиболее распространенной группы микробных родопсинов, в которую также входит и ESR. В работах [2–6] было показано, что максимум поглощения ESR и параметры его фотоцикла (рис. 1) в субнано-миллисекундном временно́м диапазоне коррелируют с верхним значением pKa Asp85-His57. При рН выше этого значения, когда Asp85 и His57 полностью депротонированы, протоны прокачиваются наиболее эффективно. С одной стороны, это связано с активной ролью Asp85 как акцептора протона на стадии продукта М1 (рис. 1), а с другой – с возможным влиянием этого остатка на параметры фотореакции хромофорной группы.
Целью данной работы было выяснить, влияет ли степень протонирования первичного противоиона хромофорной группы и акцептора протона Asp85 на динамику первичных процессов фотопревращения ESR. Исследование проводили методом фемтосекундной абсорбционной лазерной спектроскопии в детергентном экстракте ESR при рН 9.5. Данные экспериментов были сопоставлены с ранее полученными результатами исследования фотопревращения ESR при рН 7.4 [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Спектры поглощения. На рис. 2 представлены стационарные спектры поглощения темно- и светоадаптированных образцов ESR, а также спектр возбуждающего импульса, использованного в экспериментах с фемтосекундным временны́м разрешением. Положение максимума спектров поглощения ESR сильно зависит от рН [2] и при рН 9.5 составляет 524 нм для темноадаптированной формы. При световой адаптации наблюдается незначительное смещение максимума поглощения на 1 нм в синюю область с небольшим падением коэффициента экстинкции. Это, скорее всего, отражает переход RPSB из полностью транс- в 13-цис-форму в небольшой доле молекул, как было показано для ESR при рН 7.4 [7].
Рис. 2. Нормированные по γ-полосе спектры поглощения темноадаптированного (черная кривая) и светоадаптированного (серая кривая) образцов ESR в DDM с указанием максимумов поглощения. На рисунке также представлен спектр возбуждающего импульса, использованный в экспериментах с фемтосекундным временны́м разрешением (пунктирная кривая).
Фемтосекундная спектроскопия ESR. На рис. 3а представлены дифференциальные спектры фотоиндуцированного поглощения ESR, зарегистрированные в диапазоне 400–880 нм. После действия возбуждающего импульса наблюдаются сигналы поглощения (ESA, excited state absorption) и вынужденного испускания (SE, stimulated emission) из возбужденного состояния I, выцветания исходного состояния ESR (GSB, ground state bleaching) и поглощения продуктов фотореакции J и K (PA, product absorption) (рис. 1 и 3). Сигналы ESA присутствуют в коротковолновой (ESA1) и длинноволновой (ESA2) спектральных областях. Наблюдаемые сигналы характерны для первичных реакций ретиналь-содержащих белков [8–13].
Как видно из рис. 3а, ко времени задержки 200 фс образуются ярко выраженная полоса ESA1 (400–500 нм) и слабо выраженные полосы ESA2 (570–680 и 700–800 нм), которые частично перекрываются с полосами GSB (500–550 нм) и SE (670–880 нм). Ко времени задержки 1 пс сигналы ESA1, SE и GSB значительно уменьшаются, а в области 550–700 нм образуется полоса поглощения первого продукта J, содержащего RPSB в 13-цис-форме. Сигнал РА за последующие 10– 20 пс смещается в синюю область на 15 нм с небольшим снижением интенсивности, что отражает образование следующего продукта K в процессе колебательной релаксации RPSB. На временах 1– 2 пс, когда продукт J уже полностью образован, все еще наблюдаются значительные по интенсивности сигналы ESA1 и SE, что говорит о наличии дополнительного долгоживущего возбужденного состояния, распад которого не ведет к образованию продукта. Ко времени задержки 20 пс сигналы из возбужденного состояния уже не наблюдаются, переход J→K завершен, и дифференциальный спектр состоит только из полосы GSB и полосы поглощения продукта K, время жизни которого при рН 9.5 составляет 2– 3 мкс [2].
Кинетические кривые фотоиндуцированного поглощения ESR хорошо иллюстрируют процессы, описанные ранее (рис. 3б). Кинетические кривые на длинах волн 460 и 850 нм отражают возникновение и исчезновение сигналов из возбужденного состояния I – ESA1 и SE соответственно. Кинетическая кривая на длине волны 550 нм отражает появление сигнала GSB ко времени задержки 200 фс за счет исчезновения сигнала ESA1 в этой спектральной области. На более поздних временах сигнал GSB уменьшается за счет возвращения части возбужденных молекул в исходное состояние. Кинетическая кривая на длине волны 600 нм отражает появление сигнала РА продукта J ко времени задержки 1–1.5 пс. Дальнейшее небольшое снижение интенсивности этого сигнала связано с образованием следующего продукта K с более коротковолновым максимумом поглощения в дифференциальном спектре – 585 нм по сравнению с 600 нм продукта J (рис. 3).
Рис. 3. (а) – Дифференциальные спектры фотоиндуцированного поглощения ESR в DDM, зарегистрированные на временах задержки –0.15 (1), 0.1 (2), 0.18 (3), 0.5 (4), 1 (5), 2 (6) и 20 (7) пс. В спектральных областях импульса возбуждения (λмакс = 523 нм) и исходного фемтосекундного импульса (λмакс = 802 нм) данные не приведены из-за интенсивного сигнала светорассеяния; (б) – кинетические кривые фотоиндуцированного поглощения ESR в DDM, зарегистрированные на длинах волн зондирования 460 (1), 550 (2), 600 (3) и 850 (4) нм. При времени задержки до 3 пс масштаб линейный, далее – логарифмический. Представлены также модельные экспоненциальные кривые (пунктирные кривые).
Кинетические кривые были проанализированы путем построения модельных трехэкспоненциальных кривых в выделенных спектральных диапазонах зондирования (рис. 3б, пунктирные кривые; табл. 1). Полученные характерные времена τ1–τ3 были приписаны образованию реакционного и нереакционного возбужденных состояний I (τ1) и процессам распада этих состояний (τ2 и τ3 соответственно). В табл. 1 также представлены средние значения полученных времен τ1–τ3 по всем выделенным спектральным диапазонам, в которых они характеризуют один и тот же процесс. Исключение составляет характерное время τ3ʹ, которое в спектральном диапазоне 600–620 нм отражает время перехода J→K.
Как видно из табл. 1, характерное время τ1 составляет ~60 фс. Это время характеризует начальную динамику волнового пакета (набора когерентных возбужденных колебательных состояний), созданного фемтосекундным импульсом на поверхности потенциальной энергии (ППЭ) S1 электронного состояния ESR (рис. 4). Волновой пакет переходит из франк-кондоновского состояния (FC, Franck–Condon) в возбужденное состояние I. Поскольку электронный уровень S1 имеет характер переноса заряда, переход FC → I сопровождается сдвигом положительного заряда от атома азота к β-иононовому кольцу RPSB, инверсией связей С–С и С=С полиеновой цепи и быстрой колебательной релаксацией этих связей [14, 15]. Таким образом, время τ1 отражает динамический сдвиг Стокса. Аналогичный процесс с характерным временем в среднем 50 фс наблюдали при возбуждении других микробных родопсинов [8, 10, 11, 16].
Таблица 1. Характерные времена динамики фотореакции ESR в спектральных диапазонах зондирования с доминированием сигналов ESA1, GSB, PA и SE
Сигнал | ∆λ, нм | τ1, пс | τ2, пс | τ3, пс | a2/a3 | τ3ʹ, пс |
ESA1 | 430–490 | 0.072 ± 0.002 | 0.45 ± 0.01 | 4.0 ± 0.4 | 0.81/0.19 | – |
GSB | 550–560 | 0.043 ± 0.001 | 0.72 ± 0.02 | 6.1 ± 0.6 | – | – |
PA | 600–620 | – | 0.31 ± 0.01 | – | – | 8.5 ± 0.5 |
SE | 850–860 | 0.06 ± 0.003 | 0.56 ± 0.03 | 5.2 ± 1.0 | 0.8/0.2 | – |
Среднее значение | 0.058 ± 0.002 | 0.51 ± 0.02 | 5.1 ± 0.7 | 0.81/0.19 | 8.5 ± 0.5 | |
Время τ2 составляет 0.51 пс (табл. 1) и характеризует процесс распада реакционного возбужденного состояния I, ведущий к образованию продукта J, содержащего 13-цис RPSB, и исходного состояния ESR, содержащего полностью-транс RPSB (рис. 4). Время τ2 хорошо согласуется со временем, за которое протекает фотореакция других микробных родопсинов (в среднем 0.3– 0.8 пс) [8, 10–13, 16–18]. Согласно модели трех состояний [19, 20], распад реакционного возбужденного состояния I осуществляется путем преодоления волновым пакетом барьера на S1 ППЭ и перехода через область конического пересечения (CI, conical intersection) S1/S0 ППЭ на S0 ППЭ продуктов реакции. При этом задействованы реакционные колебательные моды – внеплоскостные колебания атомов водорода (НООР) и торсионные колебания. Барьер на ППЭ электронного уровня S1, вероятно, возникает за счет влияния электронного уровня S2 [19], он характерен для RPSB не только в белковом окружении, но и в вакууме [21], и в растворе [22]. Белковый катализ обычно осуществляется в направлении понижения этого барьера и изменения строения области CI, что значительно ускоряет фотореакцию и увеличивает ее квантовый выход [8, 10–13, 16–18, 21, 23, 24].
Время τ3 составляет 5.1 пс и характеризует переход S1→S0 из нереакционного возбужденного состояния в исходное состояние ESR (табл. 1). Наличие такого пути распада было показано для ESR при рН 7.4 [7], как и для многих других родопсинов, в которых время распада находится в диапазоне ~2–5 пс [8, 10–13, 16–18]. Вклад этого процесса в общую динамику распада возбужденного состояния ESR составляет 19%. Возникновение нереакционных возбужденных состояний скорее всего связано с особой топологией ППЭ основного и возбужденных электронных уровней RPSB, которая может выражаться в увеличении барьера на S1 ППЭ, а также в отсутствии или особом строении области CI, благоприятном для образования исходного состояния.
Время τ3ʹ = 8.5 пс, полученное в спектральном диапазоне 600–620 нм, было приписано переходу J→K, в процессе которого завершается фотоизомеризация и последующая колебательная релаксация напряженной 13-цис-формы RPSB [25, 26].
Рис. 4. Строение поверхностей потенциальной энергии ESR, демонстрирующее путь распада реакционного возбужденного состояния. Координата реакции представлена реакционными колебательными модами, отмечены полностью транс-, 13-цис- и промежуточная формы RPSB. FC – франк-кондоновское состояние, CI – коническое пересечение.
Таким образом, для ESR в DDM при рН 9.5 были рассчитаны характерные времена следующих процессов: начальной динамики волнового пакета (~60 фс), распада реакционного и нереакционного возбужденных состояний I (0.51 и 5.1 пс соответственно) с соотношением 0.81/0.19, а также перехода J→K (8.5 пс). Аналогичные процессы наблюдались при исследовании ESR при рН 7.4, характерные времена которых составили 50 фс, 0.69, 5 и 6.3 пс соответственно [7]. Таким образом, при увеличении рН от 7.4 до 9.5 уменьшается время фотореакции от 0.69 до 0.51 пс и увеличивается время перехода J→K от 6.3 до 8.5 пс. Соотношение интенсивностей сигналов РА (t = = 20 пс) и ESA1 (t = 200 фс) зависит от общего квантового выхода фотореакции. Поэтому, используя данные, полученные в настоящей работе и ранее [7], можно оценить, что при повышении рН от 7.4 до 9.5 общий квантовый выход фотореакции ESR увеличивается на ~35%.
Наличие нескольких возбужденных состояний с разной динамикой распада связывают с разделением путей реакции в FC-состоянии [27, 28] или с исходной гетерогенностью белковой части молекулы и/или хромофора [11–13, 29]. Начальная гетерогенность белковой части молекулы была выявлена методами КМ/ММ-моделирования для натриевого насоса эубактерии Krokinobacter eikastus (KR2) [30]. Для “зеленого” протеородопсина (GPR), родственного ESR, было показано, что динамика возбужденного состояния напрямую связана с влиянием первичного противоиона Asp97 на RPSB [12]. Благодаря высокому значению pKa ~ 7.5 [31], этот аминокислотный остаток при слабощелочных значениях рН нативной для GPR морской среды присутствует одновременно в протонированной и депротонированной формах, последняя из которых активно взаимодействует с протоном основания Шиффа. Депротонированная форма Asp97 значительно ускоряет фотореакцию и увеличивает ее общий квантовый выход, а протонированная форма может быть основной причиной возникновения нереакционных возбужденных состояний. Аналогичные результаты были получены для бактериородопсина – протонного насоса археи Halobacterium salinarum, канального родопсина зеленой водоросли Chlamydomonas reinhardtii и KR2 [11, 13, 16]. Результаты, полученные в настоящей работе, демонстрируют, что первичный противоион Asp85 оказывает на динамику фотореакции ESR похожее воздействие. При повышении рН от 7.4 до 9.5 доля протонированной формы первичного противоиона Asp85 в комплексе с His57 уменьшается [2], что приводит к увеличению доли молекул с водородной связью между Asp85 и протоном основания Шиффа. Такая водородная связь влияет на всю структуру электронных уровней S0, S1 и S2 RPSB, приводя к ускорению фотореакции и увеличению ее квантового выхода [1, 19]. Полученные данные объясняют эффективное образование последующих короткоживущих продуктов фотоцикла ESR и активный транспорт протонов при высоких значениях рН [2, 3].
Регулирование основных параметров фотореакции RPSB путем протонирования/депротонирования первичного противоиона (Glu) было выявлено в родопсинах не только I типа, но и II типа, в которых этот аминокислотный остаток к тому же влияет на pKa основания Шиффа, спектральную настройку и образование сигнального состояния метародопсина II [1, 32, 33].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Реактивы были приобретены у Sigma (США), Panreac (Испания) и Anatrace (США).
Приготовление образцов ESR. ESR экспрессировали в Escherichia coli C41(DE3), очищали хроматографически и экстрагировали из клеточных мембран с помощью детергента DDM, как описано ранее [4, 7]. В результате были получены образцы ESR (0.1% DDM, 100 мМ NaOH, 50 мМ CHES, рН 9.5) с концентрацией 2.2–3.5 мг/мл и оптической плотностью в максимуме α-полосы поглощения 2.5–3.8 о.е./1 см.
Стационарная спектроскопия ESR. Стационарные спектры поглощения ESR регистрировали с помощью спектрофотометра UV 1700 (Shimadzu, Япония) и кварцевых кювет с длиной оптического пути 0.1 и 1 см. Темновую адаптацию ESR проводили в течение 72 ч при 4°С. Световую адаптацию осуществляли освещением галогенной лампой (КГМ24-250, 24 В, 250 Вт) в течение 3 мин.
Фемтосекундная абсорбционная спектроскопия. Спектры фотоиндуцированного поглощения измеряли на фемтосекундной установке методом “возбуждение-зондирование” [34]. Возбуждение образца осуществляли импульсами гауссовой формы с частотой 60 Гц, длительностью 28 фс, длиной волны 523 нм, энергией 80 нДж и диаметром 300 мкм в образце. Для зондирования использовали импульс суперконтинуума с энергией 10 нДж, диаметром 100 мкм и поляризацией по отношению к импульсу возбуждения под углом 54.7°. Шаг зондирующего импульса во временных диапазонах 0–3, 3–10 и 10–20 пс составлял 3.3, 10 и 50 фс соответственно. Дифференциальные спектры поглощения ΔA(λ) регистрировали в спектральном диапазоне 400–880 нм. Все эксперименты проводили при 21°С в кварцевой проточной кювете диаметром 0.5 мм с толщиной окна 0.1 мм. Для обработки данных применяли программное обеспечение Span, написанное с использованием пакета приложений Matlab.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе была исследована фотореакция ESR при рН 9.5, при котором первичный противоион Asp85 в комплексе с His57 почти полностью депротонирован. Показано, что начальная динамика волнового пакета характеризуется временем ~60 фс, фотореакция протекает за время 0.51 пс, время перехода из первого продукта J во второй продукт K составляет 8.5 пс, а время распада нереакционного возбужденного состояния – 5.1 пс. Также было продемонстрировано, что значение рН в диапазоне 7.4–9.5 влияет на скорость и эффективность фотореакции ESR.
Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что у ESR повышение эффективности функции светозависимого протонного транспорта при высоких значениях рН может быть связано с повышением эффективности первичных процессов при фотореакции этого микробного родопсина в фемто-пикосекундном диапазоне времени. Этот факт подтверждает важную роль степени протонирования противоиона хромофорной группы в фотоактивируемых процессах родопсинов.
Необходимы дальнейшие исследования в более широком диапазоне рН, чтобы выявить механизм взаимодействия RPSB с первичным противоионом не только в ESR, но и в других родопсинах.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение о предоставлении гранта № 075-15-2020-795 от 29.09.2020 г., уникальный идентификатор проекта: RF-190220X0027, номер государственной регистрации темы исследования: 122041400102-9).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит описания каких-либо исследований с участием людей или животных в качестве объектов.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
О. А. Смитиенко
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: djolia@gmail.com
Россия, 119334 Москва, ул. Косыгина, 4
Т. Б. Фельдман
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: djolia@gmail.com
Л. Е. Петровская
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: djolia@gmail.com
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
Е. А. Крюкова
ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: djolia@gmail.com
Россия, 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
И. В. Шелаев
ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
Email: djolia@gmail.com
Россия, 119991 Москва, ул. Косыгина, 4
Ф. Е. Гостев
ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
Email: djolia@gmail.com
Россия, 119991 Москва, ул. Косыгина, 4
Д. А. Черепанов
ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
Email: djolia@gmail.com
Россия, 119991 Москва, ул. Косыгина, 4
И. Б. Кольчугина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: djolia@gmail.com
биологический факультет
Россия, 119991 Москва, Ленинские горы, 1Д. А. Долгих
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: djolia@gmail.com
биологический факультет
Россия, 119334 Москва, ул. Косыгина, 4; 119991 Москва, Ленинские горы, 1; 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10В. А. Надточенко
ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
Email: djolia@gmail.com
Россия, 119991 Москва, ул. Косыгина, 4
М. П. Кирпичников
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; ФГБУН “Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова” РАН
Email: djolia@gmail.com
биологический факультет
Россия, 119991 Москва, Ленинские горы, 1; 117997 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10М. А. Островский
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: djolia@gmail.com
биологический факультет
Россия, 119334 Москва, ул. Косыгина, 4; 119991 Москва, Ленинские горы, 1Список литературы
- Ernst O.P., Lodowski D.T., Elstner M., Hegemann P., Brown L.S., Kandori H. // Chem. Rev. 2014. V. 114. P. 126−163. https://doi.org/10.1021/cr4003769
- Balashov S.P., Petrovskaya L.E., Lukashev E.P., Imasheva E.S., Dioumaev A.K., Wang J.M., Sychev S.V., Dolgikh D.A., Rubin A.B., Kirpichnikov M.P., Lanyi J.K. // Biochemistry. 2012. V. 51. P. 5748−5762. https://doi.org/10.1021/bi300409m
- Dioumaev A.K., Petrovskaya L.E., Wang J.M., Balashov S.P., Dolgikh D.A., Kirpichnikov M.P., Lanyi J.K. // J. Phys. Chem. B. 2013. V. 117. P. 7235− 7253. https://doi.org/10.1021/jp402430w
- Petrovskaya L.E., Lukashev E.P., Chupin V.V., Sychev S.V., Lyukmanova E.N., Kryukova E.A., Ziganshin R.H., Spirina E.V., Rivkina E.M., Khatypov R.A., Erokhina L.G., Gilichinsky D.A., Shuvalov V.A., Kirpichnikov M.P. // FEBS Lett. 2010. V. 584. P. 4193−4196. https://doi.org/10.1016/j.febslet.2010.09.005
- Balashov S.P., Petrovskaya L.E., Imasheva E.S., Lukashev E.P., Dioumaev A.K., Wang J.M., Sychev S.V., Dolgikh D.A., Rubin A.B., Kirpichnikov M.P., Lanyi J.K. // J. Biol. Chem. 2013. V. 288. P. 21254−21265. https://doi.org/10.1074/jbc.M113.465138
- Siletsky S.A., Mamedov M.D., Lukashev E.P., Balashov S.P., Dolgikh D.A., Rubin A.B., Kirpichnikov M.P., Petrovskaya L.E. // Biochim. Biophys. Acta. Bioenerg. 2016. V. 1857. P. 1741−1750. https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2016.08.004
- Smitienko O.A., Feldman T.B., Petrovskaya L.E., Nekrasova O.V., Yakovleva M.A., Shelaev I.V., Gostev F.E., Cherepanov D.A., Kolchugina I.B., Dolgikh D.A., Nadtochenko V.A., Kirpichnikov M.P., Ostrovsky M.A. // J. Phys. Chem. B. 2021. V. 125. P. 995–1008. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c07763
- Arlt T., Schmidt S., Zinth W., Haupts U., Oesterhelt D. // Chem. Phys. Lett. 1995. V. 241. P. 559−565. https://doi.org/10.1016/0009-2614(95)00664-P
- Wand A., Loevsky B., Friedman N., Sheves M., Ruhman S. // J. Phys. Chem. B. 2013. V. 117. P. 4670− 4679. https://doi.org/10.1021/jp309189y
- Inoue K., Tahara S., Kato Y., Takeuchi S., Tahara T., Kandori H. // J. Phys. Chem. B. 2018. V. 122. P. 6453– 6461. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.8b01279
- Tahara S., Takeuchi S., Abe-Yoshizumi R., Inoue K., Ohtani H., Kandori H., Tahara T. // J. Phys. Chem. B. 2018. V. 122. P. 4784−4792. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.8b01934
- Chang C.-F., Kuramochi H., Singh M., Abe-Yoshizumi R., Tsukuda T., Kandori H., Tahara T. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2019. V. 21. P. 25728−25734. https://doi.org/10.1039/C9CP04991F
- Chang C.-F., Kuramochi H., Singh M., Abe-Yoshizumi R., Tsukuda T., Kandori H., Tahara T. // Chem. Int. Ed. 2022. V. 61. P. e202111930. https://doi.org/10.1002/anie.202111930
- McCamant D.W., Kukura P., Mathies R.A. // J. Phys. Chem. B. 2005. V. 109. P. 10449−10457. https://doi.org/10.1021/jp050095x
- Yu J.K., Liang R., Liu F., Martinez T.J. // J. Am. Chem. Soc. 2019. V. 141. P. 18193−18203. https://doi.org/10.1021/jacs.9b08941
- Scholz F., Bamberg E., Bamann C., Wachtveitl J. // Biophys. J. 2012. V. 102. P. 2649–2657. https://doi.org/ 10.1016/j.bpj.2012.04.034
- Slouf V., Balashov S.P., Lanyi J.K., Pullerits T., Polivka T. // Chem. Phys. Lett. 2011. V. 516. P. 96−101. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2011.09.062
- Iyer E.S.S., Misra R., Maity A., Liubashevski O., Sudo Y., Sheves M., Ruhman S. // J. Am. Chem. Soc. 2016. V. 138. P. 12401−12407. https://doi.org/10.1021/jacs.6b05002
- Gozem S., Luk H.L., Schapiro I., Olivucci M. // Chem. Rev. 2017. V. 117. P. 13502−13565. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00177
- Gozem S., Johnson P.J.M., Halpin A., Luk H.L., Morizumi T., Prokhorenko V.I., Ernst O. P., Olivucci M., Miller R.J.D. // J. Phys. Chem. Lett. 2020. V. 11. 3889−3896. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c01063
- Kiefer H.V., Gruber E., Langeland J., Kusochek P.A., Bochenkova A.V., Andersen L.H. // Nat. Commun. 2019. V. 10. P. 1210. https://doi.org/10.1038/s41467-019-09225-7
- Zgrablic G., Novello A.M., Parmigiani F. // J. Am. Chem. Soc. 2012. V. 134. P. 955−961. https://doi.org/10.1021/ja205763x
- Govindjee R., Balashov S.P., Ebrey T.G. // Biophys. J. 1990. V. 58. P. 597−608. https://doi.org/10.1016/S0006-3495(90)82403-6
- Koyama Y., Kubo K., Komori M., Yasuda H., Mukai Y. // Photochem. Photobiol. 1991. V. 54. P. 433−443. https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1991.tb02038.x
- Doig S.J., Reid P.J., Mathies R.A. // J. Phys. Chem. 1991. V. 95. P. 6372−6379. https://doi.org/10.1021/j100169a054
- Shim S., Dasgupta J., Mathies R.A. // J. Am. Chem. Soc. 2009. V. 131. P. 7592−7597. https://doi.org/10.1021/ja809137x
- Huber R., Kohler T., Lenz M.O., Bamberg E., Kalmbach R., Engelhard M., Wachtveitl J. // Biochemistry. 2005. V. 44. P. 1800−1806. https://doi.org/10.1021/bi048318h
- Amsden J.J., Kralj J.M., Chieffo L.R., Wang X., Erramilli S., Spudich E.N., Spudich J.L., Ziegler L.D., Rothschild K.J. // J. Phys. Chem. B. 2007. V. 111. P. 11824−11831. https://doi.org/10.1021/jp073490r
- Hasson K.C., Gai F., Anfinrud P.A. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1996. V. 93. P. 15124−15129. https://doi.org/10.1073/pnas.93.26.15124
- Kusochek P.A., Scherbinin A.V., Bochenkova A.V. // J. Phys. Chem. Lett. 2021. V. 12. P. 8664−8671. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c02312
- Imasheva E.S., Balashov S.P., Wang J.M., Dioumaev A.K., Lanyi J.K. // Biochemistry. 2004. V. 43. P. 1648–1655. https://doi.org/10.1021/bi0355894
- Menon S.T., Han M., Sakmar T.P. // Physiol. Rev. 2001. V. 81. P. 1659–1688. https://doi.org/10.1152/physrev.2001.81.4.1659
- Kandori H. // In: Supramolecular Photochemistry: Controlling Photochemical Processes. Chapter 14 / Eds. Ramamurthy V., Inoue Y. John Wiley & Sons, Inc., 2011. P. 571–595. https://doi.org/10.1002/9781118095300.ch14
- Shelaev I.V., Gostev F.E., Mamedov M.D., Sarkisov O.M., Nadtochenko V.A., Shuvalov V.A., Semenov A.Y. // Biochim. Biophys. Acta. 2010. V. 1797. P. 1410−1420. https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.02.026
Дополнительные файлы