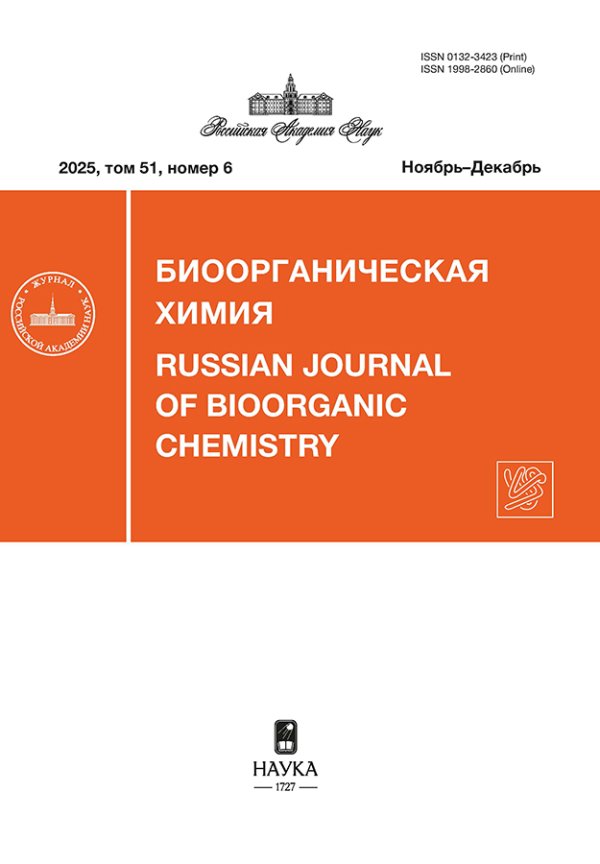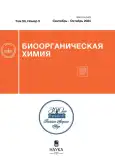Structural and functional features of protein-polysaccharide complexes based on cysteine proteases and hydrophilicly modified chitosan
- Authors: Lavlinskaya M.S.1, Sorokin A.V.1, Goncharova S.S.1, Holyavka M.G.1,2, Kondratyev M.S.1,3, Artyukhov V.G.1
-
Affiliations:
- Voronezh State University
- Sevastopol State University
- Institute of Cell Biophysics of the RAS
- Issue: Vol 50, No 5 (2024)
- Pages: 612-621
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-3423/article/view/272170
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324050047
- EDN: https://elibrary.ru/LRRAID
- ID: 272170
Cite item
Full Text
Abstract
In this work, complexes of cysteine proteases, namely bromelain, papain and ficin, with a graft copolymer of chitosan and poly(N,N-dimethyl amino ethyl methacrylate) were obtained. It was determined that the enzyme catalytic activity in the complexes is reduced compared to their native forms. The results of molecular docking showed that modified polysaccharide located in the catalytic pocket of cysteine proteases globules. The resulting complexes have increased stability when stored under physiological conditions, which makes them promising candidates for use in the development of treatments for wounds.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Белок-полисахаридные комплексы – структуры, образуемые путем нековалентного связывания соответствующих типов макромолекул, которые играют важную роль в функционировании живых организмов, а также представляют собой интересные объекты исследования для фундаментальной химии и биологии, позволяющие понять особенности функционирования ферментов в условиях in vivo. В результате взаимодействия биомакромолекул формируется уникальная среда, обладающая свойствами, отличными от параметров, присущих индивидуальным компонентам. Таким образом, получая комплексы белок–полисахарид, можно модулировать практически значимые характеристики обоих компонентов, что увеличивает не только возможности применения получаемых структур, но и расширяет представления об особенностях их взаимодействий.
Бромелин (КФ 3.4.22.32/33), папаин (КФ 3.4.22.2) и фицин (КФ 3.4.22.3) – растительные цистеиновые (папаиноподобные) протеиназы с высокой каталитической активностью и широкой субстратной специфичностью. Эти ферменты используются в медицине для терапии ожоговых и раневых повреждений мягких тканей [1, 2], профилактики и лечения кариеса [3, 4], обладают антибиопленочной [5, 6] и антибактериальной активностью [7, 8], что делает их перспективными кандидатами для разработки инновационных антибактериальных препаратов, в том числе эффективных против микроорганизмов, устойчивых к традиционным антибиотикам.
Практически значимые свойства и широкое применение названных ферментов обусловлено особенностями их строения. Бромелин, папаин и фицин представляют собой глобулярные мономерные белки, молекулы которых состоят из двух доменов: L-домена, содержащего α-спиральные фрагменты, и R-домена, включающего в себя преимущественно β-складчатые области. На их стыке образуется углубление, содержащее активный центр – “каталитический карман”. Активный центр этих ферментов представляет собой триаду Cys-His-Asp, совершающую акт катализа путем нуклеофильной атаки на субстрат посредством тиольной группы цистеина, в депротонировании которой принимает участие имидазольное кольцо гистидина. Положение азольного цикла относительно SH-группы регулируется путем образования водородной связи с остатком Asp, однако значимость аспарагиновой кислоты в процессе катализа меняется для различных представителей цистеиновых протеаз [9]. Из-за наличия в активном центре остатка Cys, содержащего тиольную группу, а также процесса автолиза, свойственного для всех протеаз, эти ферменты характеризуются низкой стабильностью и достаточно быстро инактивируются под действием кислорода воздуха.
Учитывая специфику применения бромелина, папаина и фицина, перспективным способом повышения их стабильности является комплексообразование с нетоксичными и биосовместимыми полисахаридами, например, хитозаном. Хитозан представляет собой статистический сополимер N-ацетил-D-глюкозамина и D-глюкозамина, соединенных между собой 1,4-β-гликозидными связями. За счет наличия большого количества доступных первичных аминогрупп он проявляет поликатионные свойства и растворим в водных средах при рН < 6.5 при содержании звеньев N-ацетил-D-глюкозамина не более 55% масс. [10]. Однако ограниченная растворимость и малое количество типов функциональных групп делают хитозан практически не пригодным для получения водорастворимых комплексов ферментов, используемых, например, в терапии ран [6]. В связи с этим представляется необходимым осуществить модификацию хитозана, повышающую его способность к растворению в воде, а также вносящую новые функциональные группы в структуру макромолекул для повышения эффективности его взаимодействия с цистеиновыми протеазами.
Перспективный метод модификации полисахаридов – их прививочная сополимеризация с различными синтетическими полимерами. Подход позволяет вводить в состав намного большее количество функциональных групп по сравнению с полимер-аналогичными превращениями (например, карбоксиметилированием, этерификацией и т.д.), при этом для привитых сополимеров с относительно невысокой частотой прививки сохраняется стерическая доступность и реакционная способность большей части групп исходного полисахарида [11, 12].
В настоящей работе мы получили привитой сополимер хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата – нетоксичного водорастворимого полимера с высокой комплексообразующей способностью, обладающего также термо- и рН-чувствительными свойствами в физиологических диапазонах, способствующими контролируемому и пролонгированному высвобождению целевого компонента, например, фермента при терапии ран. Архитектура привитого сополимера позволяет обеспечить стерическую доступность синтетических цепей для взаимодействия с молекулами фермента. Кроме того, известно, что прививка звеньев поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата может повысить сорбционную емкость полисахарида по отношению к сложным молекулам природного происхождения, таким как паклитаксел [12].
Таким образом, целью настоящей работы было исследование структурно-функциональных особенностей комплексов цистеиновых протеаз – бромелина, папаина и фицина – с привитым сополимером хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата (ХТЗ-ДМАЭМА), включающее в себя оценку влияния процессов комплексообразования на протеазную активность и стабильность молекул рассматриваемых ферментов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Привитой сополимер хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата (ХТЗ-ДМАЭМА) получали растворной радикальной полимеризацией в 2%-ном растворе уксусной кислоты при 40°С в течение 18 ч. В качестве инициатора реакции использовали смесь персульфата калия и метабисульфита натрия в мольном соотношении 1 : 1. Значение рН итоговой реакционной смеси составляло 4.9 ± 0.2. Согласно имеющимся литературным данным, условия протекания сополимеризации винилового мономера и полисахарида, в особенности температура и значения рН реакционной среды, оказывают значительное влияние на архитектуру образующейся структуры. В жестких условий (рН < 2, T > 60°C) формируется преимущественно блок-сополимер полисахарида и выбранного мономера. В случае осуществления процесса в мягких условиях (рН > 5, T > 30–50°C) основной продукт реакции – это привитой сополимер [11–13]. Кроме того, в таких условиях наблюдается меньшее количество побочных реакций, в том числе окисления полисахаридов до токсичных соединений, что повышает выход целевого продукта и чрезвычайно важно для полимеров биомедицинского назначения. Механизм образования целевого продукта – привитого сополимера – представлен на схеме 1.
Схема 1. Процесс образования целевого продукта – привитого сополимера хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата.
Важнейшие параметры, характеризующие привитой сополимер, – это эффективность и частота прививки боковых звеньев. В табл. 1 представлены эти данные, а также величина молекулярной массы привитых боковых цепей, выделенных путем деструкции полигликозидного остова макромолекул. Как видно из представленных данных, привитые цепи поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата характеризуются довольно высокими значениями эффективности и частоты прививки и небольшой величиной молекулярных масс, что увеличивает их стерическую доступность, а также комплексообразующую способность [15, 16]. В свою очередь, невысокие значения молекулярных масс привитых цепей могут указывать на протекание побочных процессов, таких как реакции передачи цепи и образование гомополимера [11, 12]. На основании этого можно предположить, что синтезированный привитой сополимер позволит получать устойчивые комплексы с цистеиновыми протеазами, стабилизированными за счет различных типов взаимодействий, в том числе с привитыми цепями.
Таблица 1. Характеристики привитого сополимера хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата
Конверсия, % | Привитый полимер в сополимере, % мол. | ЭП, % | ЧП × 102 | Mw привитых цепей |
55 | 35 | 23 | 2.7 | 7000 |
Примечание: ЭП – эффективность прививки, ЧП – частота прививки.
В результате определения содержания белка в полученных комплексах по методу Лоури выявлено, что наибольший выход комплексообразования по белку достигается для папаина (93%, 37.37 ± 1.69 мг/г), а наименьший – для фицина (37%, 14.95 ± 0.66 мг/г) (рис. 1). Эта же тенденция сохраняется для общей протеолитической активности комплексов: их активность ниже по сравнению со свободными ферментами, для папаина она составляет 70% (66.81 ± 2.22 ед./мл), для бромелина – 31% (30.06 ± 1.57 ед./мл), для фицина – 29% (27.87 ± 1.79 ед./мл) (рис. 2).
Рис. 1. Содержание белка (мг/г носителя) в комплексах бромелина, папаина и фицина с привитым сополимером хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата. Указан выход комплексообразования по белку, выраженный в процентах сорбированного фермента от его количества в растворе в процессе взаимодействия, принятого за 100%.
Рис. 2. Общая каталитическая активность (ед./мл раствора) комплексов бромелина, папаина и фицина с привитым сополимером хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата. Указана также эффективность комплексообразования ферментов (по общей каталитической активности), выраженная в процентах сохранения протеолитической активности фермента после иммобилизации по отношению к активности ферментов в растворе, принятой за 100%.
Для того чтобы установить причины снижения каталитической активности ферментов в комплексах с привитым сополимером, нами были проведены соответствующие расчеты методом молекулярного докинга. На рис. 3 представлена топология образующихся комплексов ХТЗ-ДМАЭМА–цистеиновая протеаза. Как видно из представленных данных, во всех случаях лиганды располагаются непосредственно в каталитическом кармане глобул фермента, при этом из-за объемности полисахарида он выходит за пределы щели между доменами. Особенно ярко это проявляется в случае фицина (рис. 3в): в его глобуле пространство между доменами более узкое и вытянутое по сравнению с бромелином и папаином. В результате этого над активным центром ферментов образуется плотное “покрытие” из модифицированного полисахарида, создающее диффузионные затруднения для продвижения высокомолекулярного субстрата – азоказеина – к активному центру цистеиновой протеазы, что приводит к снижению ее каталитической активности.
Рис. 3. Топология комплексов бромелина (а), папаина (б) и фицина (в) с привитым сополимером хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата, рассчитанная методом гибкого молекулярного докинга. Фрагмент молекулы привитого сополимера хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата обозначен розовым цветом. α-Спиральные фрагменты молекулы фермента, входящие в состав преимущественно L-домена, обозначены бирюзовым цветом. Красным цветом выделены β-складчатые области, преобладающие в составе R-домена. На стыке L- и R-доменов образуется углубление (каталитический карман), содержащее активный центр фермента.
Кроме того, для всех ферментов наблюдается непосредственное связывание каталитически значимых аминокислотных остатков с молекулой сополимера: в случае папаина и фицина происходит образование водородных связей с аминокислотами активного центра – Cys25 и His162 соответственно; для бромелина наблюдаются лишь слабые физические взаимодействия с His158 (рис. 4, табл. 2). Однако при этом папаин в комплексе сохраняет наибольшую каталитическую активность по сравнению с другими исследуемыми ферментами (см. рис. 2). По-видимому, это связано со способностью папаина депротонировать SH-группу активного центра еще до начала катализа без участия прочих аминокислот каталитической триады [17].
Рис. 4. Связи и взаимодействия между бромелином (а), папаином (б) и фицином (в) и привитым сополимером хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата (пунктирными линиями обозначены водородные связи, длина связей приведена в ангстремах). Каталитически значимые остатки выделены полужирным шрифтом.
Таблица 2. Аминокислотные остатки ферментов, формирующие связи и взаимодействия с привитым сополимером хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата
Аффинность, ккал/моль | Аминокислотные остатки, образующие | |
H-связи (длина, Å) | прочие взаимодействия | |
Бромелин | ||
–6.3 | Gln20 (3.31) Asn21 (2.79) Cys63 (2.97) Lys64 (3.05) Gln141 (2.88) | Ser16, Val17, Lys18, Asn19, Asn21, Pro22, Cys23, Gly24, Phe29, Ala30, Ala33, Tyr61, Cys63, Lys64, Gly65, Trp67, Ala133, Ala136, Asn137, Phe140, Gln141, Leu156, Asn157, His158, Ala159, Val160, Thr161, Ala178, Trp180, Gly184, Tyr185, Ile203, Asp204 |
Папаин | ||
–4.5 | Ser21 (2.93) Cys25 (2.98 и 3.27) Cys63 (3.09) Asn64 (3.21 и 2.77) Val157 (3.05) | Asn18, Gln19, Gly20, Ser21, Cys22, Gly23, Cys25, Tyr61, Cys63, Asn64, Gly65, Tyr67, Val133, Ala136, Gln142, Asp158, Val157, His159, Ala160, Gly180, Trp177, Trp181 |
Фицин | ||
–4.5 | Gly20 (2.75) Cys22 (2.91 и 3.09) Gly68 (3.26 и 2.92) Asp161 (2.89) His162 (3.18) | Asn18, Gln19, Gly20, Asn18, Arg21, Cys22, Gly23, Leu63, Cys65, Ser66, Gly67, Gly68, Trp69, Lys94, Lys95, Gly140, Glu145, Leu146, Lys148, Asp161, His162, Trp184, Trp188 |
Примечание: полужирным шрифтом выделены каталитически значимые аминокислотные остатки.
Несмотря на то, что, согласно результатам расчетов молекулярного докинга, все ферменты образуют сопоставимое количество связей и взаимодействий с полисахаридом, для фицина наблюдается наименьший выход комплексообразования по белку. Это можно объяснить тем, что расчет in silico проводили без учета внешних условий, таких как наличие молекул растворителя или других лигандов, рН или ионная сила среды. Комплексообразование осуществляли в глициновом буфере с рН 9.0, это значение соответствует изоэлектрической точке фицина, в то время как для бромелина и папаина эти значения ниже – 8.43 и 8.75 соответственно [18]. Таким образом, в случае комплексообразования в среде со значением рН, равным изоэлектрической точке фицина, снижается вклад электростатических сил во взаимодействие между ферментом и полисахаридом, что отражается на итоговом содержании белка в комплексе.
Хорошо известно, что комплексообразование способствует стабилизации каталитической активности ферментов. Поэтому на заключительном этапе исследования мы оценили сохранение каталитической активности полученных продуктов при инкубации при 37°С в Tris-HCl-буфере (рН 7.5) в течение 21 сут. Выбор параметров инкубации был обусловлен тем, что они соответствуют физиологическим условиям раневого поражения мягких тканей – одной из самых вероятных сфер применения полученных комплексов. На рис. 5 представлены зависимости степени сохранения каталитической активности комплексов и растворов ферментов от времени. Как ожидалось, стабильность комплексов ферментов превышает стабильность их нативной формы: уже на первые сутки инкубации активность свободных фицина и бромелина не превышает 53%, а для комплексов эта величина достигает 90%. На третьи сутки активность комплекса папаина составляет 71%, а фермента в растворе – 57%. На пятые сутки инкубации активность свободных цистеиновых протеаз не превышает 36% от начальной, в то время как комплексы с привитым сополимером сохраняют до 64% активности. На 21-е сутки активность свободных бромелина, папаина и фицина составляет не более 16%, для комплексов эта величина достигает 26%.
Рис. 5. Остаточная каталитическая активность ферментов после инкубации образцов при 37°С: в ед./мл раствора (а) и в процентах от первоначального уровня (б). Легенда для обеих диаграмм приведена на рис. 5а.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объекты исследования и материалы. В работе использовали коммерческие ферменты бромелин (B4882), папаин (P4762) и фицин (F4165), в качестве субстрата для гидролиза – азоказеин (A2765), все производства Sigma Aldrich (Германия). Для синтеза привитого сополимера ХТЗ-ДМАЭМА применяли хитозан с молекулярной массой 350 кДа и степенью деацетилирования 0.85 (Биопрогресс, Россия) и мономер N,N-диметиламиноэтилметакрилат (Sigma Aldrich, Германия). Мономер очищали вакуумной дистилляцией непосредственно перед синтезом и характеризовали следующими параметрами: Tкип = 62–65°C/11 мм рт. ст., n20D = = 1.4395.
Синтез ХТЗ-ДМАЭМА и анализ его характеристик. Графт-сополимер хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата получали по следующей методике: навеску хитозана массой 0.5 г вносили в термостатируемый реактор, снабженный перемешивающим устройством, и растворяли в 85 мл 2%-ного раствора уксусной кислоты, после чего добавляли 2.67 мл N,N-диметиламиноэтилметакрилата. Полученную смесь дегазировали трехкратным повторением циклов замораживание–вакуумирование–оттаивание, затем вносили под током аргона инициирующую смесь, состоящую из 0.05 г персульфата калия и 0.04 г. метабисульфита натрия. Синтез проводили в течение 18 ч при 40°С. По завершении времени процесса реакционную массу нейтрализовали 10%-ным водным раствором NaOH (Вектон, Россия) до рН ~ 7, продукт осаждали в ацетон (Вектон, Россия), после чего центрифугировали, осадок собирали, растворяли в 50 мл дистиллированной воды и диализовали против дистиллированной воды через мембрану из регенерированной целлюлозы (размер пор 10 кДа) в течение трех суток для очистки продуктов от гомополимера и прочих примесей. Выделяли полимер путем лиофильной сушки до постоянной массы.
Конверсия мономера (К) была определена как разность масс продукта реакции до очистки m1 (г) и исходного хитозана mCht (г), отнесенная к массе исходного мономера mmon (г):
(1)
Эффективность прививки (ЭП) определяли как разность масс очищенного продукта реакции (m2, г) и используемого хитозана (mCht, г), отнесенную к массе загруженного N,N-диметиламиноэтилметакрилата (mmon, г) [11, 13]:
(2)
Состав сополимера для последующего расчета частоты прививки определяли из данных ИК-спектроскопии путем соотнесения площадей под полосами поглощения при 1730 см–1 (νС=О остатков ДМАЭМА) и при 1153 см–1, отвечающей колебаниям гликозидной связи хитозана. ИК-спектр образца, представляющего собой сухой тонкодисперсный порошок, регистрировали на ИК-спектрометре IRAffinity1 (Shimadzu Scientific Instruments, Япония), оснащенном приставкой НПВО с призмой из селенида цинка, спектральное разрешение – 4 см–1. Твердый образец помещали на поверхность призмы НПВО и термостатировали при 25°С. Регистрировали 128 спектров в диапазоне от 4000 до 700 см–1 с последующим усреднением.
Частоту прививки (ЧП), выраженную как число привитых полимерных цепей (ППЦ) на одно гликозидное кольцо (ГК) основной цепи, рассчитывали по формуле [11, 13]:
(3)
где ППЦ, % масс. – содержание привитых цепей в сополимере; Mw ППЦ – средневесовая молекулярная масса привитых цепей; M ГК – молярная масса гликозидного кольца хитозана c учетом степени деацетилирования; ПС, % масс. – содержание полисахарида в сополимере.
Для определения молекулярной массы привитых цепей поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата привитой сополимер растворяли в 250 мл 0.1 N раствора NaNO2, добавляли эквимольное количество 0.1 N раствора HCl, выдерживали в течение суток при комнатной температуре. Затем смесь осаждали в ацетон, осадок выделяли центрифугированием и сушили в вакуумном сушильном шкафу при 50 ± 2°С до постоянной массы.
Молекулярную массу (Mw) определяли методом гель-проникающей хроматографии на хроматографе Agilent 1200 Series (Agilent Technologies, США), оснащенном изократическим насосом, рефрактометрическим детектором и колонкой PLmixC. Для этого готовили раствор выделенного полимера в N-метилпирролидоне с концентрацией 1 мл/г. В качестве элюента использовали 0.03 М LiCl в N-метилпирролидоне при 50°С, скорость потока составляла 0.5 мл/мин, объем вводимой пробы – 20 мкл. Калибровку проводили по узкодисперсным образцам полистирола.
Получение комплексов белок–полисахарид. Комплексообразование ферментов с полученным сополимером осуществляли по следующей методике: к 0.5 г сополимера добавляли 10 мл раствора фермента (в концентрации 2 мг/мл в глициновом буфере, рН 9.0), инкубировали в течение 2 ч. После окончания инкубации образовавшийся осадок (в виде геля) промывали 50 мМ Tris-HCl-буфером (pH 7.5) до отсутствия в промывных водах белка, контроль осуществляли на спектрофотометре СФ-2000 (Спектр, Россия) при λ = 280 нм [19].
Содержание белка в комплексах белок–полисахарид и их протеолитическая активность. Содержание белка в полученных комплексах определяли методом Лоури [20] со следующей модификацией: на первом этапе анализа разрушали связи между полисахаридом и молекулами ферментов [21, 22]. Для этого комплексы обрабатывали раствором K,Na-тартрата (в концентрации 20 мг/мл или 0.7 М), приготовленным на 1 М NaOH, при 50°С в течение 10 мин. Отсутствие процессов разрушения фермента контролировали путем регистрации и анализа его спектра поглощения на спектрофотометре UV-2550PC (Shimadzu Scientific Instruments, Япония).
Протеолитическую активность фермента оценивали на субстрате азоказеине [23]. К 50 мг образца добавляли 200 мкл Tris-HCl-буфера (pH 7.5), 800 мкл азоказеина (0.5% в 50 мМ Tris-HCl-буфере, pH 7.5) и инкубировали 2 ч при 37°C. Далее добавляли 800 мкл 5%-ного водного раствора трихлоруксусной кислоты (ТХУ), инкубировали 10 мин при 4°C, затем центрифугировали в течение 3 мин при 11 700 g для удаления негидролизованного азоказеина. К 1200 мкл супернатанта добавляли 240 мкл 3%-ного NaOH для нейтрализации кислоты, после чего измеряли оптическую плотность опытной пробы при 410 нм в 10-мм кювете. Контрольная проба содержала 800 мкл азоказеина, 800 мкл ТХУ, 50 мг образца и 200 мкл Tris-HCl-буфера.
За единицу каталитической активности принимали количество азоказеина (в мг белка), которое в условиях эксперимента гидролизует 1 мкмоль комплекса за 1 мин.
Статистическую значимость различий величин контрольных и опытных показателей определяли по t-критерию Стьюдента (при p < 0.05), поскольку все показатели характеризовались нормальным распределением.
Молекулярный докинг. Гибкий молекулярный докинг цистеиновых протеаз и сополимера ХТЗ-ДМАЭМА проводили в программном пакете AutoDock Vina (https://sourceforge.net/projects/autodock-vina-1-1-2-64-bit/) с использованием трехмерных структур бромелина (PDB ID: 1W0Q, https://www.rcsb.org/structure/1W0Q), папаина (PDB ID: 9PAP, https://www.rcsb.org/structure/9PAP) и фицина (PDB ID: 4YYW, https://www.rcsb.org/structure/4YYW). Подготовку модели структуры фермента и оптимизацию матрицы полимера-носителя проводили, как описано нами ранее [24]. Структурную модель привитого сополимера строили в молекулярном конструкторе HyperChem (http://www.hypercubeusa.com/), после чего ее последовательно оптимизировали сначала в силовом поле AMBER, а затем квантово-химически параметрическим методом PM3. Лиганд в расчетах обладал максимальной конформационной свободой: допускалось вращение функциональных групп вокруг всех одинарных связей. Расстановку заряда на молекуле носителя и его протонирование/депротонирование осуществляли автоматически в программном пакете MGLTools 1.5.6 (https://ccsb.scripps.edu/mgltools/1-5-6/).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получены комплексы бромелина, папаина и фицина с привитым сополимером хитозана и поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата. Установлено, что эти объекты характеризуются меньшей протеазной активностью по сравнению с нативными формами ферментов. Причина этого заключается в расположении молекул полисахаридов в каталитическом кармане глобул ферментов и взаимодействии с каталитически значимыми аминокислотными остатками. В результате комплексообразования активный центр цистеиновых протеаз экранируется от субстрата, что затрудняет процесс катализа. Полученные комплексы более стабильны по сравнению с нативными ферментами и сохраняют до 26% протеазной активности после 21 сут инкубации при 37°С в Tris-HCl-буфере (рН 7.5).
Таким образом, полученные комплексы – перспективные кандидаты для разработки средств по уходу за раневыми поражениями мягких тканей ввиду своей повышенной стабильности в физиологических условиях.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 21-74-20053).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит описания исследований, выполненных кем-либо из авторов данной работы, с участием людей или использованием животных в качестве объектов.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
M. S. Lavlinskaya
Voronezh State University
Email: holyavka@rambler.ru
Russian Federation, Universitetskaya Ploshchad 1, Voronezh, 394018
A. V. Sorokin
Voronezh State University
Email: holyavka@rambler.ru
Russian Federation, Universitetskaya Ploshchad 1, Voronezh, 394018
S. S. Goncharova
Voronezh State University
Email: holyavka@rambler.ru
Russian Federation, Universitetskaya Ploshchad 1, Voronezh, 394018
M. G. Holyavka
Voronezh State University; Sevastopol State University
Author for correspondence.
Email: holyavka@rambler.ru
Russian Federation, Universitetskaya Ploshchad 1, Voronezh, 394018; Universitetskaya ul. 33, Sevastopol, 299053
M. S. Kondratyev
Voronezh State University; Institute of Cell Biophysics of the RAS
Email: holyavka@rambler.ru
Russian Federation, Universitetskaya Ploshchad 1, Voronezh, 394018; Institutskaya ul. 3, Pushchino, 142290
V. G. Artyukhov
Voronezh State University
Email: holyavka@rambler.ru
Russian Federation, Universitetskaya Ploshchad 1, Voronezh, 394018
References
- Sharaf A., Muthayya P. // Burns. 2022. V. 48. P. 1618– 1625. https://doi.org/10.1016/j.burns.2021.12.004
- Wen J., Johnson K., O’Boyle C. // Burns. 2022. V. 48. P. 1706–1709. https://doi.org/10.1016/j.burns.2022.02.008
- Kusumasari C., Abdou A., Nakajima M., Tagami J. // J. Dent. 2021. V. 109. P. 103665. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2021.103665
- Maashi M.S., Elkhodary H.M., Alamoudi N.M., Bamashmous N.O. // Saudi Dent. J. 2023. V. 35. P. 233–243. https://doi.org/10.1016/j.sdentj.2023.01.010
- Baidamshina D.R., Koroleva V.A., Trizina E. Yu., Pankova S.M., Agafonova M.N., Chirkova M.N., Vasileva O.S., Akhmetov N., Shubina V.V., Porfiryev A.G., Semenova E.V., Sachenkov O.A., Bogachev M.I., Artyukhov V.G., Baltina T.V., Holyavka M.G., Kayumov A.R. // Int. J. Biol. Macromol. 2020. V. 164. P. 4205–4217. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.09.030
- Holyavka M.G., Goncharova S.S., Sorokin A.V., Lavlinskaya M.S., Redko Y.A., Faizullin D.A., Baidamshina D.R., Zuev Y.F., Kondratyev M.S., Kayumov A.R., Artyukhov V.G. // Polymers. 2022. V. 14. P. 5110. https://doi.org/10.3390/polym14235110
- dos Anjos M.M., da Silva A.A., de Pascoli I.C., Graton Mikcha J.M., Machinski M., Peralta R.M., de Abreu Filho B.A. // Int. J. Food Microbiol. 2016. V. 216. P. 121–126. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2015.10.007
- Hasannasab M., Nourmohammadi J., Dehghan M.M., Ghaee A. // Int. J. Pharm. 2021. V. 610. P. 121227. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.121227
- Fernandez-Lucas J., Castaneda D., Hormigo D. // Trends Food Sci. Technol. 2017. V. 68. P. 91–101. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.08.017
- Liu H., Wang C., Zou S., Wei Z., Tong Z. // Langmuir. 2012. V. 28. P. 11017–11024. https://doi.org/10.1021/la3021113
- Bhattacharya A., Misra B.N. // Progress Polym. Sci. 2004. V. 2009. P. 767–814. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2004.05.00
- Messina M., Bhattacharya A., Montgomery H., Maynard H. // Progress Polym. Sci. 2020. V. 100. P. 10186. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2019.101186
- Sorokin A.V., Kuznetsov V.A., Lavlinskaya M.S. // Polymer Bulletin. 2021. V. 78. P. 2975–2992. https://doi.org/10.1007/s00289-020-03250-z
- Kuznetsov V.A., Sorokin A.V., Lavlinskaya M.S., Sinelnikov A.A., Bykovskiy D.V. // Polymer Bulletin. 2019. V. 76. P. 4929–4949. https://doi.org/10.1007/s00289-018-2635-0
- Shatalov G.V., Lavlinskaya M.S., Pakhomova O.A., Mokshina N.Ya., Kuznetsov V.A. // Russ. J. Appl. Chem. 2016. V. 89. P. 140–146. https://doi.org/10.1134/S1070427216010225
- Kuznetsov V.A., Lavlinskaya M.S., Ostankova I.V., Shatalov G.V., Shikhaliev Kh.S., Ryzhkova E.A. // Polymer Bulletin. 2018. V. 75. P. 1237–1251. https://doi.org/10.1007/s00289-017-2091-2
- Beveridge A.J. // Protein Sci. 1996. V. 5. P. 1355–1365. https://doi.org/10.1002/pro.5560050714
- Handbook of Proteolytic Enzymes. 3rd Edn. / Eds. Rawlings N.D., Salvesen G. New York: Acad. Press, 2013. 3932 p.
- Sorokin A.V., Olshannikova S.S., Lavlinskaya M.S., Holyavka M.G., Faizullin, D.A., Zuev Y.F., Artukhov V.G. // Polymers. 2022. V. 14. P. 2279. https://doi.org/10.3390/polym14112279
- Lowry О.H., Rosebrough N.J., Faar A.L., Randall R.J. // J. Biol. Chem. 1951. V. 193. P. 265–275.
- Sorokin A.V., Goncharova S.S., Lavlinskaya M.S., Holyavka M.G., Faizullin, D.A., Zuev Y.F., Kondratyev M.S., Artyukhov V.G. // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24. P. 11246. https://doi.org/10.3390/ijms241411246
- Sorokin A.V., Goncharova S.S., Lavlinskaya M.S., Holyavka M.G., Faizullin D.A., Kondratyev M.S., Kannykin S.V., Zuev Y.F. Artyukhov V.G. // Polymers. 2023. V. 15. P. 649. https://doi.org/10.3390/polym15030649
- Sabirova A.R., Rudakova N.L., Balaban N.P., Ilyinskaya O.N., Demidyuk I.V., Kostrov S.V., Rudenskaya G.N., Sharipova M.R. // FEBS Lett. 2010. V. 584. P. 4419–4425. https://doi.org/10.1016/j.febslet.2010.09.049
- Абдуллатыпов А.В., Кондратьев М.С., Холявка М.Г., Артюхов В.Г. // Биофизика. 2016. Т. 61. № 4. С. 669– 676.
Supplementary files