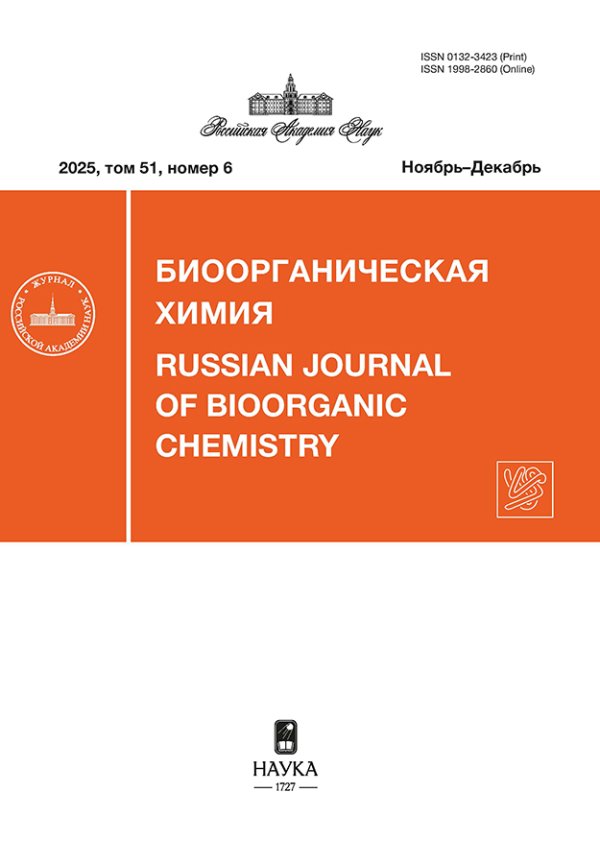Выявление мутаций генов IDH1/2 в образцах опухоли c низкой представленностью мутантного аллеля
- Авторы: Варачев В.О.1, Гуськов Д.А.1, Сусова О.Ю.2, Шехтман А.П.3, Рогожин Д.В.3, Суржиков С.А.1, Чудинов А.В.1, Заседателев А.С.1, Наседкина Т.В.1
-
Учреждения:
- ФГБУН “Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта” РАН
- ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина” Минздрава России
- Российская детская клиническая больница ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
- Выпуск: Том 50, № 5 (2024)
- Страницы: 686-693
- Раздел: ПИСЬМА РЕДАКТОРУ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0132-3423/article/view/272182
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324050117
- EDN: https://elibrary.ru/LQRGLT
- ID: 272182
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Определение драйверных мутаций в опухоли – крайне важная задача в онкологии для выбора стратегии лечения и оценки эффективности терапии. Во многих случаях, особенно при мониторинге заболевания, возникает необходимость выявления малого количества копий мутантного аллеля на фоне избыточного содержания ДНК дикого типа. В данной работе исследованы возможности высокочувствительной детекции мутаций в генах IDH1 и IDH2 при подавлении амплификации ДНК дикого типа с помощью олигомеров “замкнутых” нуклеиновых кислот (locked nucleic acid, LNA) с последующей гибридизацией флуоресцентно меченого продукта полимеразной цепной реакции на биологическом микрочипе (биочипе). Предел обнаружения мутантной ДНК составляет 0.1% на фоне ДНК дикого типа. Эффективность данного подхода продемонстрирована на примере анализа 26 образцов хондроидных опухолей и глиальных опухолей мозга с низкой представленностью мутантного аллеля, в трех случаях были выявлены ранее не обнаруженные мутации R132C, R132L и R132H.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Выявление мутаций в генах, вовлеченных в развитие злокачественных новообразований, становится важнейшим инструментом для выбора схем лечения в онкологии [1]. Поскольку мутация обычно возникает в отдельных клетках среди большой популяции нормальных клеток, часто возникает проблема обнаружения мутантного аллеля на фоне большого числа копий дикого типа [2]. Стандартные методы диагностики мутаций используют ПЦР-амплификацию фрагментов целевых генов с последующей регистрацией мутантной последовательности различными мето-дами, включая секвенирование по Сэнгеру [3], пиросеквенирование [4], секвенирование нового поколения (NGS) [5], метод масс-спектрометрии (MALDI-TOF MS) [6], высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) [7], анализ кривых плавления с TaqMan-зондом [8]. При использовании этих методов доля детектируемой мутантной последовательности по отношению к последовательности дикого типа обычно имеет нижний предел от 5 до 15–20%.
Для преодоления этого ограничения разрабатываются различные способы обогащения ПЦР-продукта мутантными аллелями. Распространенная стратегия обогащения – аллель-специфичная ПЦР [2], альтернативный подход заключается в подавлении амплификации ДНК дикого типа за счет образования двухцепочечной структуры аллелей дикого типа (но не мутантного аллеля) при ПЦР. В методе “холодной” ПЦР (cold-PCR) в качестве блокирующей комплементарной цепи дикого типа используют целые участки ампликона, что позволяет достичь обогащения мутантной последовательностью в 5–100 раз [9]. В последние годы широкое применение находят короткие комплементарные последовательности, представленные аналогами нуклеиновой кислоты, которые образуют более стабильные пары оснований по сравнению с природной ДНК: пептидно-нуклеиновая кислота (peptide, nucleic acid PNA), замкнутая нуклеиновая кислота (locked nucleic acid, LNA) или мостиковая нуклеиновая кислота (bridge nucleic acid, BNA) [10, 11]. LNA и BNA состоят из нуклеотидов, в которых рибоза модифицирована дополнительным мостиком между 2'-атомом кислорода и 4'-атомом углерода, в состав мостика могут входить как метиленовые, так и неметиленовые группы (например, аминогруппы) [11, 12]. Нуклеотиды LNA/BNA способны образовывать более стабильные структуры по сравнению с нативной ДНК и, таким образом, повышать температуру плавления дуплексов при гибридизации, при этом число копий мутантного аллеля, полученных в результате ПЦР, возрастает в 100–1000 раз [11–13]. Олигонуклеотиды LNA/BNA широко используются для блокирования амплификации определенных последовательностей, т.к. они совместимы с различными платформами секвенирования [14], способами амплификации (включая изотермическую и асимметричную ПЦР [13, 15]), а также с технологией биологических микрочипов [16].
Драйверные мутации в генах изоцитратдегидрогеназ IDH1/2 – важные биомаркеры для целого ряда злокачественных новообразований, прежде всего опухолей головного мозга и хондроидных опухолей [17, 18], кроме того, они могут служить молекулярными мишенями для таргетной терапии. Активно разрабатываются таргетные препараты – ингибиторы мутантных форм IDH: например, для лечения пациентов с холангиокарциномой и наличием мутации IDH1 был одобрен препарат ивосидениб [18, 19]. Применение высокочувствительных методов детекции мутаций IDH1/2 особенно актуально для оценки эффективности терапии и ранней диагностики рецидива. Ранее нами был разработан биочип для определения мутаций IDH1/2 [20], однако чувствительность метода не превышала 10–15%, что не позволяло выявлять мутации в образцах с малым количеством опухолевых клеток.
В настоящем исследовании мы применили LNA-опосредованное блокирование амплификации ДНК дикого типа для разработки высокочувствительного способа детекции мутаций в генах IDH1 и IDH2 с использованием биочипов. Оптимизированы условия подавления амплификации аллелей дикого типа генов IDH1 и IDH2 с помощью LNA-олигомеров, определена аналитическая чувствительность метода гибридизационного анализа на биочипе в сочетании с LNA-блокирующей амплификацией, продемонстрирована эффективность детекции мутаций IDH1/2 c помощью данного подхода при анализе образцов опухоли с низкой представленностью мутантного аллеля.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследовали образцы ДНК, выделенные из тканей глиальных (глиома, глиобластома) и хондроидных опухолей, заключенных в парафиновые блоки. Для блокирования амплификации аллелей дикого типа R132 (ген IDH1) и R172 (ген IDH2) в образцах опухоли в реакционную смесь ПЦР добавляли LNA-олигомеры. Были синтезированы LNA-олигомеры с различной температурой плавления (Tm) от 73.0 до 83.9°С, а также комплементарные (+)- и (–)-цепям ДНК генов IDH1 и IDH2 (табл. 1). Для оптимизации условий блокирующей ПЦР в присутствии LNA-олигомеров использовали метод ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) и метод кривых плавления ДНК с TaqMan-зондом. По результатам экспериментов были выбраны олигомеры длиной 13 нт с Tm = 79°С для мутации R132 IDH1 (LNA11) и с Tm = 80°С для R172 IDH2 (LNA21), в обоих случаях соответствующие (–)-цепи ДНК дикого типа. При проведении ПЦР-РВ видно, что с возрастанием концентрации LNA-олигомера в реакции значение порогового цикла заметно увеличивается для аллеля дикого типа гена IDH1 и практически не изменяется для мутантного аллеля (рис. 1). Аналогичные результаты были получены для мутации в гене IDH2.
Таблица 1. Последовательности LNA-олигомеров для блокирования амплификации аллелей дикого типа генов IDH1 и IDH2
Ген | Название олигомера | Последовательность (5'–3') | Длина, нт | Tm, °С | Ориентация |
IDH1 | LNA11 | GCA+T+G+A+C+G+A+C+C+TA-p | 13 | 79.2 | (–)-цепь |
LNA12 | GCAT+G+A+C+G+A+C+CTA-p | 13 | 73.0 | (–)-цепь | |
LNA13 | TA+G+G+TC+G+T+C+A+T+GC-p | 13 | 79.4 | (+)-цепь | |
IDH2 | LNA21 | G+CGT+G+C+C+T+G+CCAA-p | 13 | 80.0 | (–)-цепь |
LNA22 | GC+G+T+G+C+C+T+G+C+CAA-p | 13 | 83.9 | (–)-цепь | |
LNA23 | GCGT+G+C+C+T+G+CCAA-p | 13 | 77.1 | (–)-цепь |
Примечание: LNA-нуклеотиды отмечены надстрочным знаком “плюс” перед обозначением буквы основания. Полужирным шрифтом выделены LNA-олигомеры, отобранные для дальнейшей работы. Зонды содержали на 3'-конце фосфатную группу.
Рис. 1. Подавление амплификации аллеля дикого типа R132 IDH1 в образце, содержащем ~50% мутантного аллеля R132H, при различных концентрациях LNA-олигомера. (а) – Кривые амплификации аллеля дикого типа R132 и мутантного аллеля R132H: аллель дикого типа (wt) – кривые 1 (0 нМ), 2 (50 нМ) и 3 (100 нМ); мутантный аллель (R132H) – кривые 4 (0 нМ), 5 (50 нМ) и 6 (100 нМ); (б) – разница в значениях порогового цикла кривых амплификации аллеля дикого типа (wt) и мутантного аллеля (R132H) при различной концентрации LNA по сравнению с нулевой концентрацией.
Подавление амплификации аллеля дикого типа может существенно повысить чувствительность метода в определении мутаций при анализе кривых плавления с TaqMan-зондом. При достаточно сильном подавлении амплификации ДНК дикого типа образуется ПЦР-продукт, представленный преимущественно мутантным аллелем (рис. 2).
Рис. 2. Анализ кривых плавления с TaqMan-зондом при подавлении амплификации аллеля дикого типа R132 IDH1 (wt) в образце, содержащем 15–20% мутантного аллеля (R132H) при различных концентрациях LNA-олигомера: 1 – образец дикого типа (0 нМ); образцы с мутацией R132H – кривые 2 (0 нМ), 3 (50 нМ) и 4 (100 нМ). Заметно увеличение пика R132H при возрастании концентрации LNA-олигомера.
При анализе мутаций IDH1/2 с помощью биологического микрочипа подавление амплификации аллеля дикого типа использовали на первом этапе гнездовой ПЦР (см. “Эксперим. часть”). Для определения предела чувствительности метода проводили анализ образцов с различным процентным содержанием мутантного аллеля на фоне аллеля дикого типа (10, 5, 1, 0.5 и 0.1%). При сочетании LNA-блокирующей ПЦР с гибридизационным анализом на биочипе метод позволяет обнаружить не менее 0.1% мутантной ДНК на фоне ДНК дикого типа, эффективность выявления мутации также зависит от эффективности подавления ДНК дикого типа и коррелирует с концентрацией LNA-олигомера (рис. 3).
Рис. 3. Детекция мутации R132H IDH1 в образце, содержащем 0.5% мутантного аллеля, при различных концентрациях LNA-олигомера. Картины гибридизации: (а) – 0 нМ LNA, (б) – 50 нМ LNA, (в) – 100 нМ LNA; (г) – нормированные значения флуоресцентных сигналов.
Для проверки способности метода выявлять мутации IDH1/2 в образцах опухоли с низкой представленностью мутантного аллеля была сформирована коллекция образцов ДНК, выделенных из ткани хондросаркомы и имеющих IDH1-мутантный статус по данным иммуногистохимического анализа (ИГХ). Методом гибридизационного анализа на биочипе без подавления амплификации ДНК дикого типа гена IDH1 было проанализировано 14 образцов хондросаркомы. В двух случаях метод биологических микрочипов не подтвердил наличие выявленной методом ИГХ мутации в кодоне R132 гена IDH1. Использование LNA-блокирующего этапа ПЦР при получении флуоресцентной ДНК-мишени для гибридизации на биочипе позволило идентифицировать в этих образцах мутации R132C и R132L (рис. 4).
Рис. 4. Детекция мутаций в гене IDH1 в образцах опухоли (хондросаркома) с низким содержанием мутантного аллеля. В верхней части рисунка представлены гибридизационные картины на биочипе, в нижней части – нормированные значения сигналов флуоресценции. Образец с мутацией R132C: (а) – 0 нМ LNA-олигомера в реакции ПЦР, (б) – при добавлении 100 нМ LNA-олигомера. Образец с мутацией R132L: (в) – 0 нМ LNA-олигомера в реакции ПЦР, (г) – при добавлении 100 нМ LNA-олигомера. По углам биочипа расположены ячейки с флуоресцентным красителем Cy5, выполняющие роль маркера.
Также метод LNA-блокирующей ПЦР и гибридизации на биочипе апробировали при анализе 12 образцов глиом. В одном образце была выявлена мутация IDH1 R132H, что соответствовало клиническим характеристикам данного случая: IDHмутантный подтип глиомы 4-й степени злокачественности, рецидив опухоли (пример определения мутации R132H представлен на рис. 3). Результат был подтвержден секвенированием по Сэнгеру. Мутаций в гене IDH2 выявлено не было.
Подавление амплификации аллеля дикого типа с использованием LNA-олигонуклеотидов – эффективный методический подход, используемый при выявлении соматических мутаций в опухоли [13, 16, 21, 22]. При дизайне LNA-олигомеров для блокирования амплификации целевых последовательностей дикого типа критическим параметром является температура плавления, которая должна превышать температуру отжига и элонгации праймеров на определенное число градусов. В нашей работе мы использовали программное обеспечение компании IDT (https://www.idtdna.com/calc/analyzer) для расчета температур плавления LNA-олигомеров. Оптимальными значениями было превышение Tm LNA-олигомера на 16–20°C температуры отжига и на 8–10°C температуры элонгации праймеров в реакции амплификации.
Детекция результатов амплификации с помощью биочипа – достаточно простой, надежный и специфичный метод определения мутаций, который ранее был успешно применен при анализе соматических мутаций в генах EGFR, BRAF, KRAS и NRAS [16, 23]. В настоящей работе мы продемонстрировали эффективность этого подхода для детекции мутаций в генах IDH1 и IDH2. Одна из проблем при определении мутаций с помощью биочипов – открытая система проведения эксперимента, как следствие, высокочувствительный формат анализа становится уязвимым с точки зрения потенциальной контаминации посторонней ДНК. Этого недостатка лишен метод кривых плавления с TaqMan-зондом, который представляет собой закрытую систему, при этом чувствительность метода также может быть существенно повышена за счет добавления в реакционную смесь LNA-олигомеров. Слабое звено этого подхода – необходимость секвенировать амплифицированную последовательность ДНК для идентификации мутации. С этой точки зрения перспективным направлением является разработка закрытых систем “лаборатория-на-чипе”, в которых сочетается мультиплексность и информативность анализа с использованием биочипов и закрытое реакционное пространство методов ПЦР в реальном времени [24].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Образцы. В исследование было включено 26 клинических образцов, из них 14 образцов хондросаркомы основания черепа и 12 образцов опухолей головного мозга (глиома, глиобластома). Образцы хондросаркомы были предоставлены патологоанатомическом отделением РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, образцы опухолей мозга получены из отделения нейрохирургии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Материал опухоли фиксировали 4%-ным раствором формальдегида и заключали в парафиновые блоки по стандартной методике приготовления гистологических препаратов.
Выделение ДНК. Из парафиновых срезов опухолевых тканей, фиксированных формальдегидом, выделяли ДНК с использованием набора QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (Qiagen, Германия) по протоколу производителя.
ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ). ПЦР-РВ проводили в двух модификациях: анализ кривых амплификации с использованием интеркалирующего красителя EvaGreen (Евроген, Россия) и анализ кривых плавления с использованием TaqMan-зонда. Определение мутаций в генах IDH1 и IDH2 проводили в различных пробирках. Последовательности праймеров и TaqMan-зондов приведены ранее [20]. Для проведения реакции использовали смесь для ПЦР 5× qPCRmix-HS (Евроген, Россия). В реакцию добавляли LNA-олигомеры (ДНК-Синтез, Россия) в концентрации 20–200 нМ (последовательности представлены в табл. 1) и образец ДНК в количестве 5–10 нг. Реакцию проводили в амплификаторе LightCycler 96 (Roche, Швейцария) для пар праймеров IDH1 и IDH2: 95°С – 5 мин; (95°С – 13 с, 60°С – 40 с, 72°С – 20 с) × 53 цикла. При использовании TaqMan-зондов проводили амплификацию и плавление продуктов ПЦР: 95°С – 1 мин, 55°С – 4 мин, далее от 55 до 90°С повышение температуры на 0.2°С при каждом шаге с продолжительностью шага 12 с. Секвенирование по Сэнгеру проводили на автоматическом секвенаторе Applied Biosystems 3730 DNA Analyzer (Applied Biosystems, США).
Гибридизационный анализ с использованием биочипа. Для наработки одноцепочечного флуоресцентно-меченого фрагмента ДНК для гибридизации на биочипе использовали метод гнездовой ПЦР в два этапа, как описано ранее [20, 23]. На первом этапе добавляли в реакционную смесь LNA-олигомеры в концентрации 20–200 нМ. В ходе первого этапа происходило подавление амплификации последовательностей дикого типа, преимущественно нарабатывался двухцепочечный продукт мутантной ДНК (при наличии мутации). На втором этапе использовали в качестве матрицы продукт первого этапа и проводили асимметричную ПЦР с одновременным включением в ПЦР-продукт флуоресцентной метки в виде Cy5-dUTP. Реакцию гнездовой ПЦР для генов IDH1 и IDH2 проводили в разных пробирках, далее флуоресцентно-меченые продукты второго этапа ПЦР добавляли в гибридизационную смесь и наносили на биочип, гибридизацию проводили, как описано ранее [16, 23]. Биочипы изготавливали методом фотоиндуцируемой совместной полимеризации олигонуклеотидов и компонентов акриламидного геля, как описано ранее [16, 23]. Флуоресцентные сигналы регистрировали с помощью анализатора биочипов, анализ изображения проводили с помощью программы ImaGeWare (ООО “БИОЧИП-ИМБ”, Россия). Наличие мутации устанавливали, если при обработке флуоресцентных сигналов ячеек биочипа получали, что J(mut) > J(wt) и J(mut)/Bm ≥ 2, где J(mut) и J(wt) – нормированные на фон сигналы ячеек биочипа, Bm – сигнал фона [16]. Последовательности зондов и их расположение на биочипе приведены ранее [20]. Для определения чувствительности метода смешивали образец с мутацией гена IDH1, в котором доля мутантного аллеля была определена методом ПЦР-РВ или методом NGS, с образцом ДНК, не содержащем мутацию, в различных соотношениях. Была получена серия разведений с долей IDH1-мутантной ДНК в образце 10, 5, 1, 0.5 и 0.1%. Далее проводили ПЦР в присутствии LNA-олигомера, полученный продукт гибридизовали на биочипе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан высокочувствительный формат метода определения соматических мутаций в генах IDH1/2 с использованием LNA-опосредованного блокирования амплификации аллелей дикого типа и гибридизации на биологическом микрочипе. Предел обнаружения мутантной ДНК в образцах опухолевой ткани составил 0.1% на фоне ДНК дикого типа. Метод апробирован на коллекции 26 образцов парафинизированной опухолевой ткани (глиома, глиобластома, хондросаркома), в трех случаях на примере гена IDH1 показана эффективность выявления мутаций R132C, R132L и R132H в образцах опухоли с низкой представленностью мутантного аллеля.
Дальнейшее развитие метода может быть связано с разработкой закрытой системы типа “лаборатория-на-чипе”, что позволит повысить специфичность и надежность проводимого анализа.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 22-15-00304).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Все процедуры, выполненные в данной работе, соответствуют этическим стандартам институционального комитета по исследовательской этике и Хельсинкской декларации 1964 года и ее последующим изменениям или сопоставимым нормам этики.
Исследование одобрено локальным этическим комитетом НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России (протокол № 7 от 27 июля 2023 г.). От пациентов получено письменное добровольное информированное согласие на использование результатов исследования в обезличенной форме в научных целях.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
В. О. Варачев
ФГБУН “Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта” РАН
Email: tanased06@rambler.ru
Россия, 119991 Москва, ул. Вавилова, 32
Д. А. Гуськов
ФГБУН “Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта” РАН
Email: tanased06@rambler.ru
Россия, 119991 Москва, ул. Вавилова, 32
О. Ю. Сусова
ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина” Минздрава России
Email: tanased06@rambler.ru
Россия, 115478 Москва, Каширское шоссе, 23
А. П. Шехтман
Российская детская клиническая больница ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Email: tanased06@rambler.ru
Россия, 119117 Москва, Ленинский просп., 117
Д. В. Рогожин
Российская детская клиническая больница ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Email: tanased06@rambler.ru
Россия, 119117 Москва, Ленинский просп., 117
С. А. Суржиков
ФГБУН “Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта” РАН
Email: tanased06@rambler.ru
Россия, 119991 Москва, ул. Вавилова, 32
А. В. Чудинов
ФГБУН “Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта” РАН
Email: tanased06@rambler.ru
Россия, 119991 Москва, ул. Вавилова, 32
А. С. Заседателев
ФГБУН “Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта” РАН
Email: tanased06@rambler.ru
Россия, 119991 Москва, ул. Вавилова, 32
Т. В. Наседкина
ФГБУН “Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта” РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: tanased06@rambler.ru
Россия, 119991 Москва, ул. Вавилова, 32
Список литературы
- Angulo B., Lopez-Rios F., Gonzalez D. // Exp. Rev. Mol. Diagn. 2014. V. 14. P. 517–524. https://doi.org/10.1586/14737159.2014.910120
- Matsuda K. // Adv. Clin. Chem. 2017. V. 80. P. 45–72. https://doi.org/10.1016/bs.acc.2016.11.002
- Wilkening S., Hemminki K., Thirumaran R.K., Bermejo J.L., Bonn S., Försti A., Kumar R. // Biotechniques. 2005. V. 39. P. 853–858. https://doi.org/10.2144/000112027
- Ogino S., Kawasaki T., Brahmandam M., Yan L., Cantor M., Namgyal C., Mino-Kenudson M., Lauwers G.Y., Loda M., Fuchs C.S. // J. Mol. Diagn. 2005. V. 7. P. 413–421. https://doi.org/10.1016/S1525-1578(10)60571-5
- Reckamp K.L., Melnikova V.O., Karlovich C., Sequist L.V., Camidge D.R., Wakelee H., Perol M., Oxnard G.R., Kosco K., Croucher P., Samuelsz E., Vibat C.R., Guerrero S., Geis J., Berz D., Mann E., Matheny S., Rolfe L., Raponi M., Erlander M.G., Gadgeel S.J. // Thorac. Oncol. 2016. V. 11. P. 1690–1700. https://doi.org/10.1016/S1525-1578(10)60571-5
- Thomas R.K., Baker A.C., Debiasi R.M., Winckler W., Laframboise T., Lin W.M., Wang M., Feng W., Zander T., MacConaill L., Lee J.C., Nicoletti R., Hatton C., Goyette M., Girard L., Majmudar K., Ziaugra L., Wong K.K., Gabriel S., Beroukhim R., Peyton M., Barretina J., Dutt A., Emery C., Greulich H., Shah K., Sasaki H., Gazdar A., Minna J., Armstrong S.A., Mellinghoff I.K., Hodi F.S., Dranoff G., Mischel P.S., Cloughesy T.F., Nelson S.F., Liau L.M., Mertz K., Rubin M.A., Moch H., Loda M., Catalona W., Fletcher J., Signoretti S., Kaye F., Anderson K.C., Demetri G.D., Dummer R., Wagner S., Herlyn M., Sellers W.R., Meyerson M., Garraway L.A. // Nat. Genet. 2007. V. 39. P. 347–351. https://doi.org/10.1038/ng1975
- Mitchell M., Cutler J. // Methods Mol. Biol. 2011. V. 688. P. 17–33. https://doi.org/10.1007/978-1-60761-947-5_3
- Botezatu I.V., Kondratova V.N., Shelepov V.P., Mazurenko N.N., Tsyganova I.V., Susova O.Y., Lichtenstein A.V. // Anal. Biochem. 2020. V. 590. P. 113517. https://doi.org/10.1016/j.ab.2019.113517
- Li J., Wang L., Mamon H., Kulke M.H., Berbeco R., Makrigiorgos G.M. // Nat. Med. 2008. V. 14. P. 579– 584. https://doi.org/10.1038/nm1708
- Nagai Y., Miyazawa H., Huqun, Tanaka T., Udagawa K., Kato M., Fukuyama S., Yokote A., Kobayashi K., Kanazawa M., Hagiwara K. // Cancer Res. 2005. V. 65. P. 7276–7282. https://doi.org/10.1158/0008-5472
- Imanishi T., Obika S. // Chem. Commun. (Camb). 2002. V. 16. P. 1653–1659. https://doi.org/10.1039/b201557a
- Rahman S.M., Seki S., Obika S., Yoshikawa H., Miyashita K., Imanishi T. // J. Am. Chem. Soc. 2008. V. 130. P. 4886–4896. https://doi.org/10.1021/ja710342q
- Latorra D., Campbell K., Wolter A., Hurley J.M. // Hum. Mutat. 2003. P. 22. P. 79–85. https://doi.org/10.1002/humu.10228
- Parris B.A., Shaw E., Pang B., Soong R., Fong K., Soo R.A. // Respirology. 2019. V. 24. P. 215–226. https://doi.org/10.1111/resp.13463
- Itonaga M., Matsuzaki I., Warigaya K., Tamura T., Shimizu Y., Fujimoto M., Kojima F., Ichinose M., Murata S. // PLoS One. 2016. V. 11. P. e0151654. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151654
- Emelyanova M., Ghukasyan L., Abramov I., Ryabaya O., Stepanova E., Kudryavtseva A., Sadritdinova A., Dzhumakova C., Belysheva T., Surzhikov S., Lyubchenko L., Zasedatelev A., Nasedkina T. // Oncotarget. 2017. V. 8. P. 52304–52320. https://doi.org/10.18632/oncotarget.17014
- Picca A., Berzero G., Di Stefano A.L., Sanson M. // Expert Rev. Mol. Diagn. 2018. V. 18. P. 1041–1051. https://doi.org/10.1080/14737159.2018.1548935
- Pirozzi C.J., Yan H. // Nat. Rev. Clin. Oncol. 2021. V. 18. P. 645–661. https://doi.org/10.1038/s41571-021-00521-0
- Tian W., Zhang W., Wang Y., Jin R., Wang Y., Guo H., Tang Y., Yao X. // Front. Pharmacol. 2022. V. 13. P. 982424. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.982424
- Varachev V.O., Guskov D.A., Shekhtman A.P., Rogozhin D.V., Polyakov S.A., Chudinov A.V., Zasedatelev A.S., Nasedkina T.V. // Russ. J. Bioorg. Chem. 2023. V. 49. P. 1147–1152. https://doi.org/10.1134/S1068162023050205
- Nafa K., Hameed M., Arcila M.E. // Methods Mol. Biol. 2016. V. 1392. P. 71–82. https://doi.org/10.1007/978-1- 4939-3360-0_8
- Шаманин В.А., Карпов И.В., Писарева Е.Е., Гуткина Н.И., Коваленко С.П. // Сибирский онкологич. журнал. 2018. T. 17. C. 30–35. https://doi.org/10.21294/1814-4861-2018-17-4-30-35
- Emelyanova M., Arkhipova K., Mazurenko N., Chudinov A., Demidova I., Zborovskaya I., Lyubchenko L., Zasedatelev A., Nasedkina T. // Appl. Immunohistochem. Mol. Morphol. 2015. V. 23. P. 255–265. https://doi.org/10.1097/PAI.0000000000000084
- Kukhtin A.C., Sebastian T., Golova J., Perov A., Knickerbocker C., Linger Y., Bueno A., Qu P., Villanueva M., Holmberg R.C., Chandler D.P., Cooney C.G. // Lab. Chip. 2019. V. 19. P. 1217–1225. https://doi.org/10.1039/c8lc01404c
Дополнительные файлы