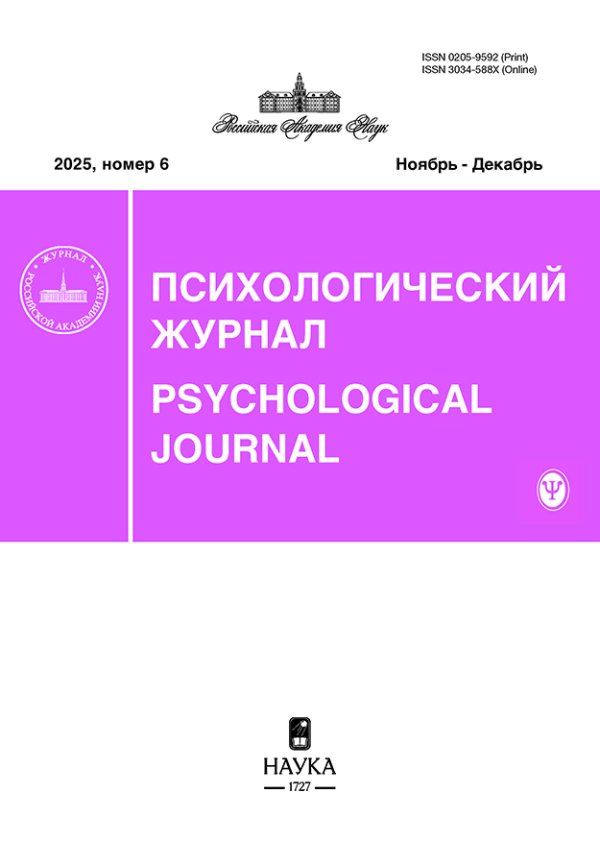Family Factors of Conduct Problems in Children and their Genetic Aspects: Review of Empirical Research
- Authors: Varshal A.V.1,2
-
Affiliations:
- Scientific Research Institute of Neurosciences and Medicine
- Novosibirsk State University
- Issue: Vol 45, No 4 (2024)
- Pages: 60-70
- Section: Developmental psychology
- URL: https://journal-vniispk.ru/0205-9592/article/view/266131
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0205959224040061
- ID: 266131
Cite item
Full Text
Abstract
The analysis of empirical studies and reviews was conducted to highlight the influence of four family factors: socio-economic status, family structure, parental stress (symptoms of anxiety and depression in mothers), and inconsistent discipline on children’s behavioral problems. Studies that assess heredity’s contribution to each factor were also examined. Known and hypothesized mechanisms that negatively affect child behavior are described. The importance of changing the proximal environment for correcting behavior problems, particularly inconsistent discipline, is emphasized.
Full Text
В сущности, все модели неправильны, но некоторые полезны.
Джордж Бокс
ВВЕДЕНИЕ
Проблемы поведения (ПП) детей, к которым относят непослушание, агрессию, нарушение правил и норм, — актуальная проблема для семей, детских садов, школ, служб психологической помощи, психиатров. ПП в раннем возрасте — это снижение качества жизни ребенка и семьи в целом. Если симптомы ПП у ребенка появились рано и представлены широким набором признаков (ложь, воровство, неповиновение, враждебность, приступы гнева, драки и др.), то высока вероятность того, что ПП будут прогрессировать в подростковом и взрослом возрасте [37; 40]. При анализе популяционной динамики по мере взросления снижается уровень агрессии, но растет социальное бремя негативных последствий ПП: злоупотребление психоактивными веществами, безработица, правонарушения [53]. ПП, достигающие уровня расстройства поведения (РП), встречаются примерно у 6–7% детей (9% детей школьного возраста в РФ [23]), но во взрослой жизни эти люди совершают почти половину всех преступлений и 3/4 преступлений насильственного характера [41]. Антисоциальное поведение наполовину обусловлено наследственной предрасположенностью [38].
На данный момент хорошо известны факторы риска (ФР) ПП у детей: мужской пол, низкий социально-экономический статус (СЭС) семьи, неполная (монородительская) семья, криминальный район проживания, курение матери во время беременности, родительский стресс (симптомы тревоги и депрессии матери), антисоциальное поведение отца, физические наказания, непоследовательное дисциплинирование, безнадзорность, эмоциональное, физическое и сексуализированное насилие, личностные особенности ребенка, например черствость, неэмоциональность [2; 38]. Не столь обширный пласт исследований посвящен факторам защиты, которые способствуют нормальному поведению в неблагоприятных условиях. К числу семейных факторов защиты можно отнести жизнеспособность семьи [50] и диадический копинг [57].
Некоторые ФР в большей степени являются маркером социального неблагополучия, например, курение матери во время беременности [32], или следствием, а не причиной ПП у ребенка, например, физические наказания [22; 30]. Рандомизированные исследования эффективности вмешательств при ПП у детей, а также исследования, учитывающие вклад наследственности, позволили среди известных ФР выявить причинно-значимые для ПП [38]: низкий СЭС, монородительская семья, антисоциальное поведение отца, родительский стресс, непоследовательная дисциплина, а также насилие над ребенком, что в целом можно описать как психосоциальную деформацию семьи [8]. В жизни ФР ПП не существуют изолированно друг от друга, а взаимодействуют. Эти взаимодействия возможно исследовать с помощью продвинутых методов математического анализа (например, моделирование структурными уравнениями). Некоторые взаимодействия будут описаны ниже.
В рамках данной работы мы ограничились семейными ФР, поскольку помощь при ПП у детей часто оказывается именно семье (по инициативе родителей, педагогов или инспекторов ПДН). Кроме того, именно в семьях концентрируется антисоциальное поведение: 10% семей ответственны за 50% преступлений [51]. Круг семейных ФР мы ограничили четырьмя широко распространенными факторами, имеющими причинную значимость для ПП у детей: низкий СЭС, монородительская семья, родительский стресс и непоследовательная дисциплина.
Cемейные ФР делятся на дистальные (низкий СЭС и монородительская семья) и проксимальные (родительский стресс и непоследовательная дисциплина) в соответствии с биоэкологической теорией Урия Бронфенбреннера [19]. Проксимальные факторы сильнее влияют на повседневную жизнь ребенка.
Ряд исследований, которые освещены в данном обзоре, учитывают вклад генетики и помогают углубить представления о том, как работают проксимальные и дистальные семейные ФР, что является не только важной задачей фундаментальной науки, но и актуальной практической задачей: раскрытие механизмов позволит лучше помогать семьям с ПП у ребенка.
Цель работы — осветить результаты эмпирических исследований четырех семейных ФР ПП у детей, имеющих причинную значимость, и степень влияния наследственности на них.
ПОИСК ЛИТЕРАТУРЫ
Отбор научной литературы производился в несколько этапов. Отправной точкой стали книги, монографии и диссертации по ПП у детей. Среди них: Н.Л. Барклей [3], М.В. Сафронова [9], Н.П. Фетискин [12], Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис [13], К.С. Кендлер, Д. Бэйкер [28], Вильямс–Оуэнс [56]. В числе важных источников для понимания роли наследственности для паттернов поведения выделяется обзор Р. Пломина и Дж. ДеФриса [43]. Далее на научном поисковом сайте google.scholar.com были сделаны запросы на русском и английском языках, которые представляли собой термины и комбинации терминов из смысловых групп:
1) термины, обозначающие объект исследования: ПП и РП у детей, антисоциальное поведение детей (conduct problems, antisocial behavior in children, conduct disorders);
2) термины, обозначающие семейные факторы риска: СЭС, непоследовательная дисциплина, неполная семья, монородительская семья, развод, тревога и депрессия матери, родительский стресс (SES, inconsistent discipline, single-parent family, divorce, maternal anxiety and depression, parental stress);
3) ключевые слова о генетическом влиянии: наследуемость, вклад генетики, вклад наследственности (heritability, genetics, contribution of genetics).
В обзор вошли работы с 1983 по 2021 г. из электронных баз научных исследований PubMed.gov, National Library of Medicine (NIH), Scopus, Medical Research Publications, КиберЛенинка, eLibrary. Исследования со сложным дизайном, который позволяет выявить механизмы влияния ФР, а также оценить вклад генетики, публикуются реже, чем срезовые исследования, поэтому ценность данных работ не уменьшается с годами.
Обзор включает в себя критико-аналитический анализ 52 эмпирических работы, обобщающих обзоров и метаанализов, более четверти из которых учитывало вклад генетики на основе близнецовых исследований, исследований приемных детей и GWA-studies. В исследованиях использовались данные родителей, учителей, детей, социальных служб и полиции, а ФР оценивались с помощью валидизированных инструментов.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС СЕМЬИ (СЭС)
Согласно результатам исследований, уровень СЭС — это мощный предиктор многих аспектов развития ребенка: соматического здоровья, когнитивного развития, социальной компетентности и учебных достижений, а также психологических нарушений — эмоциональных и поведенческих [9; 42].
Бедность — один из наиболее надежных показателей, позволяющих прогнозировать вероятность повышения уровня подростковой преступности: в развитых странах социальные классы четырехкратно различаются по частоте психологических и психических нарушений у детей [36].
Социально-экономические условия определяют психическое и психологическое здоровье людей на протяжении всей их жизни [46]. Низкий СЭС связан со стрессом родителей из-за финансовых проблем и невозможности обеспечения высокого качества жизни семьи. Нестабильность, социальная уязвимость и дистресс могут снижать воспитательный потенциал родителей, приводя к непоследовательному дисциплинированию детей.
В работе А.А. Реана и И.А. Коновалова изучалось влияние СЭС семьи на уровень агрессивности старшеклассников. Низкий СЭС был достоверно связан с повышением общего уровня агрессивности и таких эмоциональных аспектов, как обида и чувство вины. Авторы приписывают СЭС роль катализатора, который препятствует или способствует реализации воспитательных практик в семье [8], что согласуется с биоэкологической теорией У. Бронфенбреннера о вторичной роли дистальных факторов.
В эмпирическом исследовании российских школьников М.Е. Гошина и Т.А. Мерцаловой низкий СЭС оказался связан с плохой успеваемостью, однако высокая вовлеченность родителей в учебный процесс при социально-экономическом неблагополучии нивелировала отставание детей в учебе [4].
В целом в отечественных исследованиях связь СЭС с ПП прослеживается слабо и выявляется не всегда [6], в срезовых исследованиях отмечался более весомый вклад проксимальных факторов — обстановка в семье и воспитательные практики родителей [1; 10; 23]. Более того, в срезовом исследовании психического здоровья детей и подростков из российского мегаполиса высокий СЭС сочетался с большим количеством симптомов гиперактивности/невнимательности [9].
Наследственность. Согласно данным поведенческой генетики, многие средовые переменные несут в себе генетический вклад. В целом коэффициент наследуемости средовых факторов колеблется от 0.27 до 0.35 [43]. В датском исследовании приемных детей наряду со средовым влиянием (низкий СЭС приемных родителей) был показан вклад наследственности (низкий СЭС биологических родителей) в количество правонарушений подростка [54]. В исследованиях GCTA (Genome-wide Complex Trait Analysis — полногеномные исследования ассоциаций или ПГИА), было показано, что определенные полиморфизмы в геноме людей предсказывают и низкий СЭС, и ряд других жизненных показателей, даже после учета социального класса родительской семьи и академической успеваемости [17; 45; 49]. В обширном исследовании взрослых людей, не связанных между собой, 15% разнообразия в СЭС было обусловлено общими однонуклеотидными полиморфизмами [31]. Аналогичные результаты (18–19%) были получены в исследовании более 3000 не связанных между собой подростков [52]. Таким образом, средовые факторы перестают быть исключительно средовыми. Это означает, что влияние дистального фактора СЭС на ПП у детей кроме очевидного средового механизма имеет менее очевидный генетический. Вероятно, низкий самоконтроль может быть одним из механизмов, обусловливающих как низкий СЭС семьи, так и развитие ПП у ребенка.
СОСТАВ СЕМЬИ (РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ)
Монородительские семьи — предиктор психологического и психического неблагополучия детей [12], в том числе и ПП [20]. Причиной появления монородительской семьи могут быть невступление в брак, развод или вдовство. Объектом большинства исследований ПП в контексте состава семьи являются материнские монородительские семьи, возникшие после развода. Воспитание ребенка в такой семье до сих пор сопряжено с более низким СЭС и повышенным уровнем стресса матери [6; 38], а также с повышенным риском никотиновой, алкогольной, наркотической зависимостей у ребенка [44]. Одинокие матери оказались менее счастливы, чем замужние женщины, и более склонны к депрессии и тревоге [24]. Прослеживание судьбы людей, чьи родители развелись 20 лет назад, выявило позитивную тенденцию при сохранении отношений между родителями и участии обоих в жизни ребенка [14]. По данным исследования старшеклассников в Швеции, уровень ПП детей, которых воспитывают совместно разведенные родители, не повышается по сравнению с подростками, проживающими в полных семьях; уровень ПП выше у детей, которых воспитывает только один родитель после развода [56]. Совместное воспитание после развода — это маркер социального и психологического благополучия родителей, и именно это может частично обусловливать связь с низким уровнем ПП, а не сам факт совместного воспитания.
К тому же не всегда полная семья защищает от развития ПП у ребенка. Исключение составляют полные семьи с антисоциальным отцом. Согласно данным эпидемиологического исследования пятилетних близнецов, у детей в семьях с антисоциальным отцом был повышен уровень агрессии и наблюдался “дозозависимый эффект”: чем больше времени отец проводил с ребенком, тем выше был уровень агрессии. Эффект сохранялся даже после учета влияния наследственности и антисоциальности матери [26].
Наследственность. Д. Сальваторе и Л. Ларссон обнаружили, что в семьях корреляции по разводам между поколениями и внутри поколений были обусловлены общими генами, а фактор воспитания имел меньшее значение [47]. В двух обширных исследованиях взрослых близнецов обнаруживался 30–50%-й вклад генетических факторов в расторжение брака [27; 34]. Вероятно, одни и те же гены могут предрасполагать и к разводам у взрослых, и к ПП у детей. Например, гены, вносящие вклад в такие черты личности, как враждебность и низкий уровень сознательности. А если учесть, что в человеческих популяциях распространено ассортативное скрещивание по сложным поведенческим признакам [7], то дети нередко могут получать гены проблемного поведения и от отца, и от матери. Это означает, что вклад генетического влияния в дистальный фактор ПП — состав семьи — может часто недооцениваться практикующими специалистами.
СИМПТОМЫ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ (РОДИТЕЛЬСКИЙ СТРЕСС)
Депрессия матери — распространенный фактор риска ПП у детей [25]. Доля клинически выраженной депрессии высока среди женщин: депрессия затрагивает 10–15% матерей с первыми детьми как во время беременности, так и в послеродовый период [48]. По данным когортного исследования С.М. Хорвиц и коллег, симптомы депрессии наблюдаются у 17% женщин с маленькими детьми до 4 лет [33]. Д. Багнер с коллегами выделяют сенситивный период в жизни ребенка от рождения до года, во время которого симптомы материнской депрессии имеют наибольшее влияние на формирование ПП [15].
Тоска, особая задумчивость и повышенная утомляемость, свойственные депрессии, могут нарушать способность адекватно реагировать на сигналы ребенка [48]. Депрессивные симптомы снижают способность матери к игровому взаимодействию с младенцем и сокращают вероятность вознаграждения ребенка в раннем детстве. Некоторые матери с депрессивными симптомами общаются с детьми раздраженно и навязчиво — в чрезмерно возбуждающей и авторитарной, но бессистемной манере [39].
Также известно, что при высоком уровне стресса матери более критичны к детям, чаще шлепают их, недостаточно чутки и непоследовательны в дисциплинировании. Из-за депрессии у женщин снижается способность к креативному мышлению, определению четких границ и созданию понятных правил для ребенка — все это необходимо, чтобы ребенок научился справляться с сильными чувствами и фрустрацией [5].
М.Г. Киселева отмечает: у детей возрастом от года до трех, матери которых испытывают депрессивные симптомы, часто наблюдаются истерики и другие проблемы с социальным взаимодействием [5]. ПП ребенка могут усугублять родительский стресс.
Наследственность. Несмотря на то что склонность к депрессии в значительной степени генетически обусловлена (наследуемость биполярного расстройства — около 85%, а монополярного — 45–75%) и предрасполагает к развитию целого ряда психических расстройств, в том числе поведенческих [35], в лонгитюдном близнецовом исследовании Д. Ким-Коэна и коллег было показано, что влияние депрессии матери на поведение детей в значительной степени связано со средовыми механизмами. Например, депрессивные симптомы до родов никак не влияли на риск развития ПП у детей, а общие гены лишь на треть объясняли связь между депрессией матери и антисоциальным поведением детей [29]. В другом близнецовом исследовании выявлено, что длительность и частота эпизодов депрессии у матери “дозозависимо” влияет на ПП детей [18], что также указывает на средовой механизм влияния тревоги и депрессии матери на поведение детей. Таким образом, влияние проксимального фактора материнской депрессии на ПП детей преимущественно имеет средовой механизм влияния, что может недостаточно учитываться в практической работе.
НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Э. Эйдемиллер и В. Юстицкис, используя термин “неустойчивость стиля воспитания”, определяют его как резкую смену стиля, переход от очень строгого к либеральному и обратно, переход от значительного внимания к эмоциональному отвержению [13]. К.А. Слученкова приводит результаты исследования школьников г. Иркутска: в 24% семей наблюдалась непоследовательность воспитания [11]. По данным лонгитюдных исследований непоследовательная дисциплина является одной из причин РП у детей [20].
Непоследовательная дисциплина напрямую влияет на развитие ПП вне зависимости от того, как ведет себя ребенок [38]. По данным К.Г. Ван Льювен, особо неблагоприятно сочетание непоследовательной дисциплины матери с высокой импульсивностью ребенка. При этом высокий волевой контроль защищает детей от негативного влияния непоследовательной дисциплины [55].
Высокодостоверные коэффициенты корреляции регулярно выявляют между непоследовательной дисциплиной и уровнем симптомов тревоги и депрессии матери (родительского стресса) [38]. В исследовании агрессивного поведения мальчиков 9–12 лет показано, что тревога и депрессия матери, опосредованные непоследовательной дисциплиной, влияли на агрессивное поведение ребенка, но не на гиперактивность [16]. Схожие результаты получены в исследовании детей до 9 лет, проведенном А.В. Варшал и Е.Р. Слободской. Авторы обнаружили триаду результирующих с самыми сильными взаимосвязями: ПП, симптомы тревоги и депрессии матери и непоследовательная дисциплина [2]. Непоследовательная дисциплина была тем фактором, который частично опосредовал влияние тревоги/депрессии матери на ПП детей, включая непослушание и гиперактивность.
Наследственность. Так же, как и для остальных семейных факторов ПП, очевидно, что некоторая часть взаимосвязи между ПП и непоследовательной дисциплиной может объясняться разделенными генами. Одни и те же генетические паттерны могут делать поведение ребенка проблемным, а родительское воспитание — непоследовательным. Однако наиболее доказано именно средовое влияние непоследовательной дисциплины на ПП детей. Лонгитюдное исследование близнецов и их родителей позволило установить, что связь между плохим обращением с ребенком (ненадлежащий уход, насилие, непоследовательная дисциплина) и антисоциальным поведением детей не была обусловлена общими генами для родителей и детей, а была следствием прямого средового эффекта неправильного обращения с ребенком [3].
K. Дитер-Декард с коллегами показали незначительный вклад наследственности в непоследовательную дисциплину и значительный вклад разделенной среды. Это означает, что непоследовательность методов воспитания детей — это непосредственный выбор родителей [21]. Этот выбор может отягощаться низким СЭС, психопатологией, криминальным районом проживания, разногласиями в браке и неблагоприятным влиянием соседей. Таким образом, влияние проксимального фактора непоследовательной дисциплины на ПП детей преимущественно имеет средовой механизм влияния, что еще раз подчеркивает важность практической работы с семьями по усилению последовательности в воспитательной практике.
ОБСУЖДЕНИЕ
Существует некое интуитивное представление, что ПП ребенка — это результат скверного воспитания и низкого социально-экономического статуса семьи, а вклад наследственности часто недооценивается. Факторам риска ПП посвящено большое количество срезовых исследований, в которых невозможно установить причинную значимость, механизмы влияния и роль наследственности. Исследования вклада наследственности в дистальные и проксимальные семейные факторы риска немногочисленны и не освещались в обзорах на русском языке. Вопрос: “В какой мере наследственность и воспитание влияют на семейные факторы ПП у детей, и каковы возможные механизмы влияния этих факторов?” получил освещение в данном обзоре.
Дистальные семейные факторы — развод родителей и низкий СЭС объясняются наследственностью на 15–50%, более проксимальный фактор — уровень симптомов тревоги и депрессии матери в еще большей степени может быть связан с генетической предрасположенностью (45–85%). При этом вклад наследственности в непоследовательную дисциплину незначителен. Общие гены родителя и ребенка могут частично объяснять связь между ПП и названными ФР, например, за счет “нейромедиаторной предрасположенности” к низкому самоконтролю и негативной эмоциональности. При этом существуют и средовые механизмы влияния данных факторов. Можно предположить следующую систему взаимосвязей: развод родителей связан с более низким СЭС, оба этих фактора сказываются на уровне симптомов тревоги и депрессии матери, что влияет на самый проксимальный ФР — непоследовательную дисциплину, которая, по-видимому, является главным средовым медиатором между более дистальными факторами и поведением ребенка. Вариант биоэкологической модели У. Бронфенбреннера с примерным вкладом наследственности в ФР проблем поведения и собственно ПП представлен на рис. 1.
Рис. 1. Проблемы поведения у детей, семейные проксимальные и дистальные факторы риска (на основании биоэкологической теории У. Бронфенбреннера) с учетом вклада наследственности
Приведенные сведения и их анализ аккумулируют современные научные представления о потенциально изменяемых семейных факторах риска ПП у детей, а значит, обзор не только служит целям фундаментальной психологии, но и может представлять большую ценность для практикующих специалистов.
ВЫВОДЫ
Критико-аналитический обзор позволяет сделать следующие выводы.
- Развитие ПП у детей причинно связано с наличием распространенных семейных факторов: низкий СЭС, развод родителей, симптомы тревоги и депрессии матери и непоследовательная дисциплина.
- Наследственность влияет на СЭС, состав семьи (развод родителей), уровень симптомов тревоги и депрессии матери (родительского стресса). Таким образом, несмотря на свою социальную природу, перечисленные семейные факторы не являются исключительно средовыми. Вклад наследственности в проксимальный фактор — непоследовательную дисциплину незначителен.
- Исследования взаимодействий и механизмов влияния факторов риска и защиты при развитии ПП у детей, а также при оценке эффективности вмешательств представляются актуальными задачами современной психологической науки.
- Результаты исследований подчеркивают важность комплексной работы с семьями по нескольким направлениям: развитие последовательности в воспитании ребенка, улучшение эмоционального состояние матери, повышение СЭС семьи в долгосрочной перспективе.
About the authors
A. V. Varshal
Scientific Research Institute of Neurosciences and Medicine; Novosibirsk State University
Author for correspondence.
Email: varshalav@neuronm.ru
Junior Researcher, Senior Lecturer
Russian Federation, 630117, Novosibirsk, Timakova str., 4; 630090, Novosibirsk, Pirogova str., 1References
- Varshal A.V. Emotsional’nye i povedencheskie problemy u detei: semeinye faktory riska i zashchity. Vestnik NGU. Seriya: Biologiya, klinicheskaya meditsina. 2010. V. 8. № 1. P. 119–124. (In Russian)
- Varshal A.V., Slobodskaya E.R. Razvitie problemnogo povedeniya u detei: empiricheskoe issledovanie. Teoreticheskaya i eksperimental’naya psikhologiya. 2012. V. 5. № 1. P. 6–13. (In Russian)
- Genomika povedeniya: detskoe razvitie i obrazovanie. Eds. S.B. Malykh, Yu.V. Kovas, D.A. Gaisina. Tomsk: Publ. house Tomsk State University, 2016. 442 p. (In Russian)
- Goshin M.E., Mertsalova T.A. Tipy roditel’skogo uchastiya v obrazovanii i rezul’taty obucheniya. Voprosy obrazovaniya. 2018. № 3. P. 68–90. (In Russian)
- Kiseleva M.G. Rol’ materinskoi depressii v psikhicheskom razvitii detei rannego vozrasta. Psikhologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya. 2017. V. 6. № 4A. P. 146–155. (In Russian)
- Kozlova E.A. Kakim obrazom sotsial’no-ekonomicheskie kharakteristiki sem’i svyazany s blagopoluchiem rebenka? Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. 2018. № 4 (71). P. 331–334. (In Russian)
- Kuznetsov I.A., Kondrashov A.S. Geneticheskii analiz assortativnogo skreshchivaniya v chelovecheskikh populyatsiyakh. Sbornik trudov 42-i mezhdistsiplinarnoi shkoly-konferentsii “Informatsionnye tekhnologii i sistemy 2018”. Moscow: The Institute for Information Transmission Problems RAS, 2018. P. 497–498. (In Russian)
- Rean A.A., Konovalov I.A. Proyavlenie agressivnosti podrostkov v zavisimosti ot pola i sotsial’no-ekonomicheskogo statusa sem’i. Natsional’nyi psikhologicheskii zhurnal. 2019. V. 12. № 1 (33). P. 23–33. (In Russian)
- Safronova M.V. Psikhosotsial’noe blagopoluchie uchashchikhsya. Faktory riska i zashchity. Novosibirsk: NSTU, 2013. 275 p. (In Russian)
- Slobodskaya E.R., Akhmetova O.A., Kuznetsova V.B., Ryabichenko T.I. Sotsial’nye i semeinye faktory psikhicheskogo zdorov’ya detei i podrostkov. Psikhiatriya. 2008. № 1. P. 16–23. (In Russian)
- Sluchenkova K.A. Problema semeinogo vospitaniya podrostkov. Lichnost’, sem’ya i obshchestvo: voprosy pedagogiki i psikhologii. 2016. № 5 (62). P. 93–98. (In Russian)
- Fetiskin N.P., Kozlov V.V. Trudnye deti. Moscow: The Institute of Counseling and System Solutions, 2018. 544 p. (In Russian)
- Eidemiller E.G., Yustitskis V.V. Psikhologiya i psikhoterapiya sem’i. 4th ed. St. Petersburg: Piter, 2021. 627 p. (In Russian)
- Ahrons C.R. Family ties after divorce: Long-term implications for children. Family Process. 2007. V. 46. № 1. P. 53–65.
- Bagner D.M., Pettit J.W., Lewinsohn P.M., Seeley J.R. Effect of maternal depression on child behavior: A sensitive period? Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2010. V. 49. № 7. P. 699–707.
- Barry T.D., Dunlap S.T., Lochman J.E., Wells K.C. Inconsistent discipline as a mediator between maternal distress and aggression in boys. Child & Family Behavior Therapy. 2009. V. 31. № 1. P. 1–19.
- Belsky D.W., Moffitt T.E., Corcoran D.L. et al. The genetics of success: How single-nucleotide polymorphisms associated with educational attainment relate to life-course development. Psychological Science. 2016. V. 27. № 7. P. 957–972.
- Brennan P.A., Hammen C., Andersen M.J. et al. Chronicity, severity, and timing of maternal depressive symptoms: Relationships with child outcomes at age 5. Developmental Psychology. 2000. V. 36. № 6. P. 759–766.
- Bronfenbrenner U., Ceci S.J. Nature–nurture reconceptualized in developmental perspective: A bioecological model. Psychological Review. 1994. V. 101. № 4. P. 568–586.
- Burke J.D., Loeber R., Birmaher B. Oppositional defiant disorder and conduct disorder: A review of the past 10 years, Part II. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2002. V. 41. № 11. P. 1275–1293.
- Deater‐Deckard K., Fulker D.W., Plomin R. A genetic study of the family environment in the transition to early adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1999. V. 40. № 5. P. 769–775.
- Ferguson C.J. Spanking, corporal punishment and negative long-term outcomes: A meta-analytic review of longitudinal studies. Clinical Psychology Review. 2013. V. 33. № 1. P. 196–208.
- Goodman R., Slobodskaya H., Knyazev G. Russian child mental health: A cross-sectional study of prevalence and risk factors. European Child & Adolescent Psychiatry. 2005. V. 14. № 1. P. 28–33.
- Hope S., Power C., Rodgers B. Does financial hardship account for elevated psychological distress in lone mothers? Social Science & Medicine. 1999. V. 49. № 12. P. 1637–1649.
- Huntsman L. Parent with mental health issues: Consequences for children and effectiveness of interventions designed to assist children and their families: Literature review. PANDORA electronic collection. Ashfield: NSW Department of Community Services, 2008. 53 p.
- Jaffee S.R., Moffitt T.E., Caspi A., Taylor A. Life with (or without) father: The benefits of living with two biological parents depend on the father’s antisocial behavior. Child Development. 2003. V. 74. № 1. P. 109–126.
- Jockin V., McGue M., Lykken D.T. Personality and divorce: A genetic analysis. Journal of Personality and Social Psychology. 1996. V. 71. № 2. P. 288–299.
- Kendler K.S., Baker J.H. Genetic influences on measures of the environment: A systematic review. Psychological Medicine. 2007. V. 37. № 5. P. 615–626.
- Kim-Cohen J., Moffitt T.E., Taylor A. et al. Maternal depression and children’s antisocial behavior. Archives of General Psychiatry. 2005. V. 62. № 2. P. 173–181.
- Larzelere R.E., Kuhn B.R. Comparing child outcomes of physical punishment and alternative disciplinary tactics: A meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review. 2005. V. 8. P. 1–37.
- Marioni R.E., Davies G., Hayward C. et al. Molecular genetic contributions to socioeconomic status and intelligence. Intelligence. 2014. V. 44. P. 26–32.
- Maughan B., Taylor A., Caspi A., Moffitt T.E. Prenatal smoking and early childhood conduct problems: Testing genetic and environmental explanations of the association. Archives of General Psychiatry. 2004. V. 61. № 8. P. 836–843.
- McCue Horwitz S., Briggs-Gowan J.M., Storfer-Isser A., Carter A.S. Prevalence, correlates, and persistence of maternal depression. Journal of Women’s Health. 2007. V. 16. № 5. P. 678–691.
- McGue M., Lykken D.T. Genetic influence on risk of divorce. Psychological Science. 1992. V. 3. № 6. P. 368–373.
- McGuffin P., Rijsdijk F., Andrew M. et al. The heritability of bipolar affective disorder and the genetic relationship to unipolar depression. Archives of General Psychiatry. 2003. V. 60. № 5. P. 497–502.
- Meltzer H., Gatward R., Goodman R., Ford T. Mental health of children and adolescents in Great Britain. International Review of Psychiatry. 2003. V. 15. № 1–2. P. 185–187.
- Moffitt T.E. Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review. 1993. V. 100. № 4. P. 674–701.
- Moffitt T.E. The new look of behavioral genetics in developmental psychopathology: Gene-environment interplay in antisocial behaviors. Psychological Bulletin. 2005. V. 131. № 4. P. 533–554.
- Monroe S.M., Hadjiyannakis K. The social environment and depression: Focusing on severe life stress. Eds. I.H. Gotlib, C.L. Hammen. Handbook of depression. New York: The Guilford Press, 2002. P. 314–340.
- Mortelmans D. Economic consequences of divorce: A review. Eds. M. Kreyenfeld, H. Trappe. Parental life courses after separation and divorce in Europe. V. 12. Springer, Cham, 2020. P. 23–41.
- Offord D.R., Boyle M.H., Racine Y.A. The epidemiology of antisocial behavior in childhood and adolescence. Eds. K.H. Rubin, D.J. Pepler. The Development and Treatment of Childhood Aggression. New York: Psychology Press, 1991. P. 31–54.
- Patterson G.R., Capaldi D., Bank L. An early starter model for predicting delinquency. Eds. K.H. Rubin, D.J. Pepler. The Development and Treatment of Childhood Aggression. New York: Psychology Press, 1991. P. 139–168.
- Plomin R., DeFries J.C., Knopik V.S., Neiderhiser J.M. Top 10 replicated findings from behavioral genetics. Perspectives on Psychological Science. 2016. V. 11. № 1. P. 3–23.
- Raley R.K., Sweeney M.M. Divorce, repartnering, and stepfamilies: A decade in review. Journal of Marriage and Family. 2020. V. 82. № 1. P. 81–99.
- Rietveld C.A., Esko T., Davies G. et al. Common genetic variants associated with cognitive performance identified using the proxy–phenotype method. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2014. V. 111. № 38. P. 13790–13794.
- Saegert S.C., Adler N.E., Bullock H.E. et al. APA Task Force on socioeconomic status (SES), Final Report. APA Council of Representative. 2006. V. 23. P. 714–742.
- Salvatore J.E., Larsson Lönn S., Sundquist J. et al. Genetics, the rearing environment, and the intergenerational transmission of divorce: A Swedish national adoption study. Psychological Science. 2018. V. 29. № 3. P. 370–378.
- Sawyer K.M., Zunszain P.A., Dazzan P., Pariante C.M. Intergenerational transmission of depression: Clinical observations and molecular mechanisms. Molecular Psychiatry. 2019. V. 24. № 8. P. 1157–1177.
- Shakeshaft N.G., Trzaskowski M., McMillan A. et al. Thinking positively: The genetics of high intelligence. Intelligence. 2015. V. 48. P. 123–132.
- Song J., Fogarty K., Suk R., Gillen M. Behavioral and mental health problems in adolescents with ADHD: Exploring the role of family resilience. Journal of Affective Disorders. 2021. V. 294. P. 450–458.
- Stouthamer-Loeber M., Farrington D.P., Jolliffe D. et al. The concentration of offenders in families, and family criminality in the prediction of boys’ delinquency. Journal of Adolescence. 2001. V. 24. № 5. P. 579–596.
- Trzaskowski M., Harlaar N., Arden R. et al. Genetic influence on family socioeconomic status and children’s intelligence. Intelligence. 2014. V. 42. P. 83–88.
- Tremblay R.E., Nagin D.S., Séguin J.R. et al. Physical aggression during early childhood: Trajectories and predictors. Pediatrics. 2004. V. 114. № 1. P. 43–50.
- Van Dusen K., Mednick S.A., Gabrielli W.F., Hutchings D. Social class and crime in an adoption cohort. Journal of Criminal Law and Criminology. 1983. V. 74. P. 249–269.
- Van Leeuwen K.G., Mervielde I., Braet C., Bosmans G. Child personality and parental behavior as moderators of problem behavior: variable- and person-centered approaches. Developmental Psychology. 2004. V. 40. № 6. P. 1028–1046.
- Williams-Owens W.M. The behavioral effects divorce can have on children: Master’s thesis. New York: CUNY Academic Works, 2017. 57 p.
- Zemp M., Bodenmann G., Backes S. et al. The importance of parents’ dyadic coping for children. Family Relations. 2016. V. 65. № 2. P. 275–286.
Supplementary files