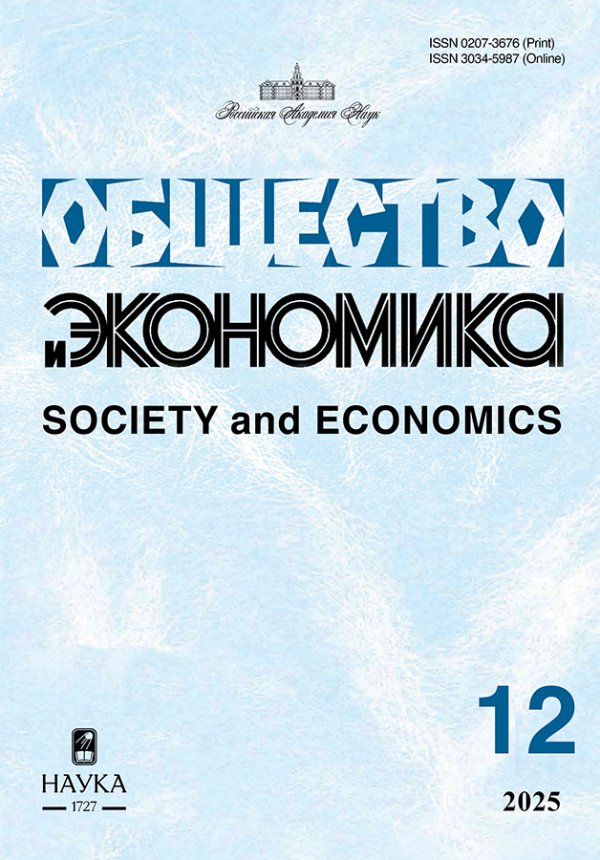The middle class in Russia and the countries of the Russian “Neighborhood Belt” in the context of a changing world order (problems of theory and practice)
- Authors: Sokolova T.1
-
Affiliations:
- Institute of Economics (RAS)
- Issue: No 11 (2024)
- Pages: 19-30
- Section: SOCIAL ISSUES
- URL: https://journal-vniispk.ru/0207-3676/article/view/274251
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624110025
- ID: 274251
Full Text
Abstract
It is generally recognized that socio-economic stability in modern society is possible only if there is a significant (prevailing) “middle” social stratum (“middle class”), and the expansion and strengthening of this particular social group contributes to stimulating the domestic consumer market and is one of the factors in the growth of entrepreneurial activity of the population. The article examines various missions of the middle class. In particular, an attempt is made to determine the role of the middle class in a little-studied perspective to date through the prism of the integration interaction of Russia with the countries of its “neighborhood belt” in the context of geo-economic turbulence.
Full Text
Интеграционное взаимодействие России и стран ее «пояса соседства» в настоящее время проходит серьезную проверку на прочность, испытывая колоссальные перегрузки в ходе геоэкономической неопределенности, нарастающей в условиях меняющегося миропорядка. Устойчивость интеграционного объединения, которое было бы привлекательно для всех его стран-участниц, во многом зависит не только от чисто экономических, но и от социальных факторов. Можно предположить, что наличие существенных «средних» социальных слоев (их совокупность обычно называют «средним классом») способно укрепить уже имеющиеся и инициировать новые процессы интеграции, которые смогут подпитываться заведомо более высоким объективным интересом среднего класса к углублению интеграционного взаимодействия, чем у слоев «высших» и «низших».
Ни в одном из постсоветских государств, однако, до сих пор так и не сформировался полноценный массовый средний класс, который мог бы сыграть роль социально-политического стабилизатора процесса евразийской интеграции [11. С. 51]. Международное сотрудничество на государственном уровне фактически сводится к взаимодействию лишь «высших» социальных слоев и представляет собой, по сути, совокупность контрактов, имеющих как финансовую, так и политическую основу (а в некоторых случаях – лишь последнюю). Вполне очевидно, что при изменении геополитической и геоэкономической ситуации (например, в случае присоединения одной из сторон к международным санкциям, введенным против второй стороны) уровень построенного на этих принципах взаимодействия резко падает.
В связи с этим изучение средних социальных слоев населения представляется весьма актуальным. Комплексные знания о среднем классе необходимы, в частности и для разработки стратегических планов социально-экономического развития государства, включая проведение социально-экономических реформ. При этом одними из важнейших целевых ориентиров являются качественные показатели среднего класса (и в меньшей степени – количественные, по причине неопределенности границ этого социального слоя). Именно средний класс, будучи наиболее восприимчивым к инновациям во всех сферах жизни, показывает всему обществу пример ведения достойной жизни – «нового экономического, потребительского и финансового поведения» [33. С. 152–153]. Еще Аристотель говорил о «собственности средней, но достаточной» как о «величайшем благополучии для государства» и о «средней» жизни (такой, «при которой середина может быть достигнута каждым») как о «наилучшей» [2. С. 507, 508]. Кроме того, укрепление «средних» слоев и увеличение их доли в составе населения является стимулирующим фактором для предпринимательской активности населения [7. С. 152, 153].
Все это позволяет утверждать, что общество, в социальной структуре которого доминируют средние социальные слои (промежуточные между слоями высшими и низшими, между «бедными» и «богатыми»), будет при прочих равных условиях более стабильным в социально-экономическом плане. По мнению Р.С. Гринберга, так называемая «экономика среднего класса» является наиболее социально комфортной, позволяет гармонизировать противоречия между «свободой» и «справедливостью» и обеспечивать устойчивое развитие [27. С. 5, 14].
Теоретические подходы к изучению среднего класса
Средний класс потенциально может выполнять принципиально разные функции в обществе: политические, экономические и социальные (включая социокультурные). Основная политическая функция среднего класса – стабилизирующая. Средний класс нередко рассматривается как гарант стабильности сложившейся политической системы [24. С. 61], как идеальный с государственной точки зрения общественный слой – «главная опора государства». Его представители «крепко стоят на ногах» и дорожат достигнутым уровнем жизни, в значительной степени удовлетворены текущим состоянием общества, солидарны с властью и законопослушны (в т. ч. в уплате налогов), социально ответственны, а также являются активными покупателями (в т. ч. инновационных товаров и услуг) [22]. Среди экономических функций среднего класса – поддержание платежеспособного спроса, создание новых и сохранение старых рабочих мест, развитие конкуренции – иными словами, обеспечение развития экономики в целом [29. С. 59]. Социальные и социокультурные функции среднего класса включают в себя обеспечение устойчивого развития общества (средний класс можно назвать «ведущим агентом социального прогресса» [24. С. 61]); сглаживание общественных противоречий (в т. ч. и по той причине, что среди представителей среднего класса есть как наемные работники, так и собственники); обеспечение «социального равновесия». Одна из значимых функций среднего класса – быть «культурным интегратором» общества, а именно – хранителем и проводником норм, традиций, обычаев и культурных ценностей, способным передать их следующим поколениям. Выполнение такой функции, однако, возможно только в том случае, если доля среднего слоя в обществе достаточно высока, а дезинтеграция социокультурного пространства вследствие глобализации и стремления к универсализации не зашла еще слишком далеко, не привела к обезличиванию и утрате традиционных ценностей [31. С. 176].
Универсальной можно назвать такую функцию среднего класса, как внедрение в общество и закрепление в нем нового; тем самым, средний класс способствует общественному прогрессу. Эта функция, обусловленная «активистским» характером поведения представителей среднего класса, способна проявляться и в политике, и в экономике, и в социальных областях [29. С. 59].
С учетом вышесказанного, социальная политика большинства современных государств должна быть направлена не просто на снижение уровня бедности и рост качества жизни в целом, но и на увеличение доли среднего класса в общей численности населения. Формирование и реализация подобной социальной политики связаны с существенными методологическими сложностями при установлении границ этой «средней» социальной группы.
Обычно к среднему классу относят граждан и членов их семей, которые занимают достаточно высокое материально-имущественное положение (включая устойчивую занятость, доход, достойное жилье, доступ к качественным медицинским услугам, возможность дать детям качественное образование и обеспечить себя в старости), имеют высокий социально-профессиональный статус и идентифицируют себя как представителей среднего класса. Иными словами, жизнь среднего класса можно назвать «достойной» – и такая жизнь (в идеале) должна быть у большинства населения в каждой стране [22].
Другой подход к среднему классу заключается в рассмотрении его не с материально-имущественной точки зрения, а как группы, которая несет в себе высокий созидательный социальный потенциал (может действовать в интересах общества в целом), обладает высокой социальной устойчивостью, способна стабилизировать общество, но в то же время при определенных обстоятельствах готова инициировать запрос на проведение социально-политических реформ [23. С. 116]. Ряд исследователей полагают, что наличие массового среднего класса является важным свидетельством прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов в государстве [26. С. 9].
Среди ученых есть и приверженцы принципиально иной точки зрения. Средний класс рассматривается ими не как реально существующий слой населения, а как нормативная модель (конструкция), поскольку, в частности, на стратификационных шкалах признаки принадлежности к среднему классу занимают вовсе не средние позиции. При таком подходе де-факто сравнивается текущее состояние общества с некоторой априори заданной моделью [22]. По сути, средний класс рассматривается в данном случае как статистическая группировка, не имеющая собственного классового самосознания и интереса и не способная в связи с этим стать субъектом коллективного действия, т.е. проявить свойства социального класса [21. С. 107; 15. С. 224].
Иногда средний класс рассматривают не как цельную социальную группу, а как разнородный социальный слой – комплекс социальных групп, социальные интересы которых в чем-то совпадают, но одновременно вступают друг с другом в противоречия [8. С. 33], нередко парадоксальные. Так, представители среднего класса, очень близкие и по экономическим, и по политическим, и по социальным критериям (а нередко одни и те же лица), могут выступать и за перемены, но одновременно и за стабильность; за новаторство и прогресс, но при этом за возвращение к корням, истокам [15. С. 233].
Нет единства мнений и при определении статистических границ среднего класса. Различают абсолютный подход к установлению границ среднего класса (например, фиксируется диапазон среднедушевых доходов семьи по паритету покупательной способности), относительный подход (определяется диапазон, измеряемый в процентах от медианных значений дохода индивида для данного государства, региона либо типа поселения), а также комбинированный подход (нижняя граница принадлежности к среднему классу – абсолютная величина, а верхняя – относительная) [5. С. 119].
В целом различные материальные и нематериальные критерии (индикаторы) отнесения домохозяйств либо отдельных индивидов к среднему классу можно объединить в три основные группы: материально-имущественные, социальные и субъективные.
Материально-имущественные (экономические) критерии подразумевают определенный уровень доходов, достаточный для того, чтобы члены домохозяйства имели достойный уровень потребления [15. С. 228] и вели достойную жизнь: проживали в помещениях адекватной площади, имели достаточную имущественную обеспеченность (включая движимое и недвижимое имущество) [14. С. 110; 16. С. 58], могли осуществлять накопления, пользоваться высокотехнологичными устройствами и оборудованием [13. С. 34, 36]. К этой же группе критериев относится и соответствующая образу жизни среднего класса структура расходов. Прежде всего это относительно низкая доля расходов на питание и относительно высокая доля расходов на отдых. В упрощенном виде основной материальноимущественный критерий отнесения членов домохозяйства к среднему классу – это устойчивый доход, достаточный для удовлетворения не только базовых, но и более широких потребностей [29. С. 57, 59].
Социальные (квалификационные) критерии указывают на уровень индивидуального развития членов домохозяйств [28. С. 63]. В первую очередь это уровень образования, наличие регулярной занятости, а также профессиональный и должностной статусы, подразумевающие нефизический характер труда.
Субъективные критерии основаны на социально-экономических оценках индивидами уровня своей успешности и экономической адаптированности, удовлетворенности своим текущим социальным статусом. Одним из таких критериев может быть оценка индивидом своего статуса в обществе (например, 4 балла и выше по 10-балльной шкале) [15. С. 221]). Очевидно, что такой метод самоидентификации (социального самоощущения) изначально несет в себе определенную необъективность и потенциально может дать сильно искаженный результат из-за ложных представлений, доминирующих в массовом сознании населения. Впрочем, вопрос объективности других параметров также остается открытым.
Ряд исследователей предлагают исходить из принципа комплексности подхода к сложным социальным явлениям: учитывать не только критерии, относящиеся к конкретным домохозяйствам, но и ряд показателей, характеризующих общество исследуемой страны в целом (например, уровень социального расслоения). При таком подходе величина доходов и структура расходов среднего класса развитых стран в принципе не могут рассматриваться в качестве эталонных величин [13. С. 36, 42].
Проблемы с выделением среднего класса связаны и с тем, что группы населения, выбранные по отдельным признакам, оказываются крайне слабо пересекающимися. И если считать каждый из этих критериев достаточным для принадлежности к среднему классу, то общая численность выделенной группы будет неестественно большой (подавляющее большинство населения). Если же считать, что все критерии являются необходимыми, то выделенная группа, напротив, получается неестественно малой [21. С. 107].
Средний класс в России: оценка масштабов и ограничители роста
В связи с тем, что методология выделения среднего класса является не до конца устоявшейся, оценки доли среднего класса в общей численности населения весьма условны и их разброс велик. Так, для многих постсоветских государств, в том числе и для России, нижняя оценка доли среднего класса составляет всего несколько процентов [22]. В то же время верхняя оценка может достигать, как, например, в России и Белоруссии, 80%. Ближе к истине находятся все же менее «радикальные» показатели. Эксперты НИУ ВШЭ считают, что к среднему классу в середине 2000-х годов относилось 38% россиян (но лишь 7% – к его ядру, т.е. к тем домохозяйствам, которые обладают всеми тремя базовыми признаками среднего класса). По данным Credit Suisse Research Institute, к среднему классу в 2015 г. относилось всего 4,1% взрослого населения России [34. P. 124].
Согласно результатам общероссийского обследования «Человек, семья, общество» (2013 г.), в период с начала 2000-х годов доля среднего класса в России оставалась примерно на уровне 20%. И по мнению авторов исследования, это была скорее всего максимально возможная доля, поскольку потенциала для роста среднего класса в стране нет [14. С. 130]. По оценкам агентства РИА Рейтинг, сделанным в середине 2024 г. на основе данных официальной статистики за 2022 и 2023 г., в России к среднему классу относятся примерно 11% семей, в которых есть хотя бы один работающий человек. Для сравнения: по данным исследования 2022 г., доля семей, относящихся к среднему классу, была 11,5%, а в 2019 г. существенно выше – 14,2% [6].
Некоторые исследователи полагают, что главным показателем, на основании которого следует выделять средний класс, является среднедушевой доход домохозяйства. При этом, если в стране наблюдается существенная социально-экономическая дифференциация, для каждого региона должны устанавливаться свои границы среднего класса [13. С. 41]. Часто используется методика, согласно которой к среднему классу относят лиц, чей доход в полтора раза превышает прожиточный минимум. Например, в России таким доходом обладает до 70% трудоспособного населения [12. С. 344]. В то же время в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., опубликованном в 2013 г. Минэкономразвития РФ, был обозначен существенно иной критерий отнесения к среднему классу – уровень дохода, который должен составлять более шести прожиточных минимумов [20]. Из величины прожиточного минимума, законодательно установленного в России на период с 1 января по 31 декабря 2025 г., с учетом методики, указанной в этом документе, следует, что для отнесения к среднему классу одинокого трудоспособного гражданина его минимальный доход в 2025 г. должен составлять около 116 тыс. руб. в месяц, для семьи из двух трудоспособных граждан и одного ребенка – не менее 335 тыс. руб. в месяц, для семьи из двух трудоспособных граждан и двух детей – не менее 438 тыс. руб. в месяц (см. таблицу).
Таблица
Величины прожиточных минимумов и соответствующие им нижние границы дохода
для отнесения граждан к среднему классу
Категории населения | Прожиточный минимум, руб. в месяц | Нижняя граница дохода, руб. в месяц | ||
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Для трудоспособного населения | 16844 | 19329 | 101064 | 115974 |
Для пенсионеров | 13290 | 15250 | 79740 | 91500 |
Для детей | 14989 | 17201 | 89934 | 103206 |
В целом в России, на душу населения | 15453 | 17733 | 92718 | 106398 |
Источник: составлено и рассчитано автором по источникам: [17. С. 40; 18].
Несмотря на относительно устойчивый рост доходов населения, имеется два существенных ограничителя роста доли среднего класса: низкий человеческий капитал (отсутствие достаточного образования) и структура рынка труда, не соответствующая уровню среднего класса (дефицит рабочих мест, подразумевающих высокий доход и достаточно высокий социальный статус). Это связано с тем, что структура российской экономики, даже в периоды активного экономического роста, модернизируется очень слабо, продолжая, по сути, оставаться архаичной структурой.
Другая проблема, сдерживающая развитие среднего класса в России, связана с неустойчивостью положения его представителей. Велика вероятность того, что домохозяйство, уровень потребления которого сегодня находится на «среднем» уровне, завтра будет с трудом сводить концы с концами и переместится в низший класс. Так называемая «неустойчивая (прекаризованная) занятость», связанная с вынужденной утратой работником части трудовых и социальных прав, характерна примерно для половины работников в России [4. С. 83, 85–87]. По данным Всероссийского мониторинга финансового поведения населения за период с 2019 по 2021 г., лишь 4% домохозяйств обладали признаками устойчивого среднего класса, а еще только 33% можно было назвать «близкими к среднему классу» [30. С. 127].
Кроме того, в России практически отсутствует социальная мобильность населения, в большей степени наблюдаются процессы классового воспроизводства. Перемещение представителей низшего класса в «средние слои» тормозится, с одной стороны, существенной разницей в экономическом развитии регионов. Так, доля семей, относящихся к среднему классу, составляет в наиболее развитом Ямало-Ненецком автономном округе почти 40%, а в Ингушетии в тридцать раз меньше – 1,4% [6]. С другой стороны, переходу из одной социальной страты в другую препятствуют существенные различия в доступе к образовательным ресурсам у представителей разных социальных слоев, а также нестабильность доходов населения в связи с общей экономической нестабильностью в стране в условиях все более ужесточающихся международных санкций. В то же время для России характерны довольно открытые профессиональные структуры – именно они служат главными «социальными лифтами» в стране, причем как восходящими, так и нисходящими [28. С. 72, 73].
Если использовать подход, при котором оцениваются позиции индивидов в экономической, властной и квалификационной статусных иерархиях, то по состоянию на 2019 г. на достаточно высоких позициях в каждой из них находилось около 8% взрослого (18 лет и старше) населения России. Эту группу можно назвать ядром среднего класса. Тех, кто входил в так называемую «периферийную часть» среднего класса, т.е. был на относительно высоких позициях в двух из трех иерархий, насчитывалось около трети взрослого населения. Таким образом, суммарная доля среднего класса в России, выделенная по этой методике, составляла около 40% [28. С. 63].
По критерию самоидентификации к среднему классу в России относится до 80% населения. Такая высокая доля связана, по мнению исследователей, прежде всего с социальными иллюзиями и компенсаторным механизмом психологической защиты, поскольку лица с достаточно высоким образованием и (или) квалификацией склонны к необъективным оценкам своего положения в социуме и не готовы отнести сами себя к низшему классу [15. С. 222].
Средний класс в странах российского «пояса соседства»: проблемы настоящего и будущего
В целом в странах постсоветского пространства отсутствует единый подход к определению среднего класса. Большинство критериев носит «умозаключительный» и дискуссионный характер («каждый аналитик использует свою методику»), ни один из них нельзя назвать ключевым и все они требуют верификации и существенного уточнения [5. С. 118; 16. С. 58; 21. С. 107]. Кроме того, применение тех или иных критериев часто зависит от специфики статистического учета в каждой конкретной стране, от того, находятся ли эти данные в публичной доступности, особенностей существования домохозяйств в конкретных условиях (например, связанных с традиционными общественными нормами, с текущей социально-экономической ситуацией, с климатическими реалиями). В итоге, данные по среднему классу в государствах российского «пояса соседства» сильно разрозненны и трудносопоставимы.
В Белоруссии, по оценкам экспертов Всемирного банка, к среднему классу относится около 80% населения, что является наиболее высоким показателем среди стран со средним уровнем развития. Близки к этому и показатели, основанные на самоидентификации – к среднему классу относят себя 70–75% белоруссов. В то же время исследователи отмечают, что белорусский средний класс является относительно «бедным» [29. С. 57, 59]. Таким образом, отнесение 80% населения страны к среднему классу объясняется применением мягких критериев, использование же более жестких критериев дало бы совсем другую величину. По мнению некоторых исследователей, среди стран российского «пояса соседства» именно в Белоруссии проводится наиболее успешная социальная политика, направленная на выравнивание доходов населения и поддержку его социально незащищенных слоев [13. С. 42].
На другом полюсе – те страны российского «пояса соседства», где средний класс как социальное явление практически отсутствует. Это относится в первую очередь к странам Центральной Азии, многие из которых испытали наиболее сильный социально-экономический шок после распада СССР и до сих пор так и не сумели выстроить эффективную социальную политику и преодолеть значительное социальное расслоение. Наиболее яркий пример – Таджикистан, где новым высшим классом («элитой») стала совсем небольшая часть общества, а практически все население можно отнести к низшему классу. В настоящее время в Таджикистане ту часть общества, которая занимает более низкое положение, чем средний класс, обычно делят на три социальных слоя: «базовый» слой (составляющий около двух третей населения), «низший» слой (лица с крайне низкими доходами, в большинстве своем занятые физическим трудом) и так называемое «социальное дно» [32. С. 244–246].
По некоторым оценкам, доля среднего класса в Таджикистане в 2016 г. составляла 22%, в то же время на питание в стране расходовалось в среднем 70–80% дохода домохозяйств (в горных районах этот показатель доходил почти до 90%). В Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 г. целевой показатель доли среднего класса на 2030 г. составляет 50%, при этом ведется дискуссия о самом факте существования среднего класса в стране [3. С. 108; 32. С. 248]. Ряд экспертов полагают, что в стране есть средний потребительский слой, который потенциально может сформировать средний класс. Однако в настоящее время его представители не способны не только защитить, но даже осознать свои классовые интересы, и в целом не являются сколько-нибудь активными субъектами общества. Другие исследователи считают, что средний класс в Таджикистане существует, но его доля в общей численности населения страны настолько мала, что он не может выполнять роли «гаранта социальной стабильности». При этом пополнение среднего класса за счет перетекания в него представителей более низких слоев в будущем весьма затруднительно, поскольку в Таджикистане практически отсутствуют социальные лифты [32. С. 244, 245, 247, 249].
В Армении к среднему классу (и то с большой долей условности) относится только 10–15% населения, в классическом понимании среднего класса в стране нет [9]. В Киргизии, по некоторым экспертным оценкам, около 25–30% населения принадлежат к среднему классу и чуть ниже среднего. В Казахстане к среднему классу можно отнести 35–40% населения, при этом в их число входят представители нижнего среднего класса (людей, находящихся на границе между средним классом и бедным населением), а собственно среднего класса в Казахстане всего 10–15% [25]. В Узбекистане доля среднего класса (по структуре расходов) составляет 35–40% населения, однако в последнее десятилетие имеет тенденцию к снижению [13. С. 40]. По другим данным, доля среднего класса в 2015 г. была 28–30%. При этом около 45–48% населения Узбекистана составляли «резерв среднего класса» – при наличии социальных лифтов они могли бы перейти в средний класс [1]. По расчетам ученых Бакинского государственного университета, составленным на основе обзора СМИ, международных организаций и собственных исследований, к «расширенному» среднему классу в Азербайджане можно отнести около 35% населения, а доля «стабильного» среднего класса составляет всего лишь 5% [10].
Происходящие в мире в последнее десятилетие геополитические и технологические трансформации делают будущее среднего класса в России и государствах ее «пояса соседства», а также в мире в целом, еще более неопределенным. По одному из сценариев (в условиях сохранения однополярного мира с доминирующим положением стран Запада), крупные корпорации почти полностью подчинят себе всю экономику во всех странах, разорив и малый, и средний, и часть крупного бизнеса. В составе среднего класса, помимо среднего звена работников корпораций, возможно, останутся ученые, инженеры, врачи, учителя и часть военных, однако доля этого социального слоя в общей численности населения (в т. ч. и в связи с общим сокращением работников в результате активного внедрения цифровизации и роботизации) существенно сократится; доля низшего класса, напротив, существенно увеличится, а доля высшего класса останется примерно на том же уровне. По другому сценарию, связанному с созданием реального многополярного мира, государственное влияние на общество и экономику будет продолжать оставаться сильным в тех странах, которые образуют антизападный альянс. С целью снизить социальное напряжение государство будет заниматься некоторой поддержкой среднего класса. В то же время, поскольку тип экономики в этом альянсе скорее всего не будет принципиально отличаться от типа экономики стран Запада, экономика будет развиваться примерно в том же направлении, что и при однополярном мире, – в сторону доминирования крупных корпораций в условиях роботизации и сокращения работников [16. С. 59].
Существуют также и сценарии построения общества, государственно-политическое устройство которого направлено на устранение существенной стратификации общества и расширение доли среднего класса фактически до единицы [16. С. 60]. Однако все они выглядят утопическими и не имеющими сколько-нибудь реальных путей реализации.
В краткосрочной перспективе средний класс стран «пояса соседства» скорее всего будет вынужден находиться под давлением российского среднего класса. Прежде всего это относится к Армении, Грузии, Казахстану, Киргизии и Узбекистану, которые приняли основную волну российских релокантов. После февраля 2022 г. из России выехали, по разным оценкам, от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч, и даже до миллиона, квалифицированных специалистов, многие из них с семьями. Представительства ряда иностранных компаний прекратили деятельность на территории России из-за угрозы санкций, но готовы были продолжить трудовые отношения с российскими работниками в своих филиалах в третьих государствах.
Несмотря на то что многие из уехавших российских специалистов стали потом возвращаться (по данным Минцифры от апреля 2024 г., две трети уехавших в 2022 г. из России специалистов IT-сферы вернулись обратно)1, шлейф влияния массового притока россиян на уровень и качество жизни населения в странах-реципиентах сказывается до сих пор. Так, более высокий платежеспособный спрос работников из России ожидаемо привел в странах «пояса соседства» к резкому росту цен, в частности на аренду жилья и в сфере обслуживания населения. Это оказало отрицательное воздействие на уровень и качество жизни многих представителей собственного среднего класса в странах-реципиентах. Например, в Ереване цены на аренду жилья выросли в 2022 г. в 3–4 раза, в том числе и в регионах, близких к столице Армении2.
Таким образом, в странах российского «пояса соседства» потенциально возможная интеграционная миссия среднего класса в настоящее время не может быть реализована в полной мере. Как показывают исследования, средние слои населения являются здесь незрелыми. Постсоветским государствам не удалось хотя бы просто поддержать потенциал «старых» средних слоев, не говоря уже о том, чтобы его преумножить [19. С. 75]. Если использовать жесткие критерии, то эти слои очень малочисленны, если мягкие – то в эти слои будут включены многие из тех, чьи экономические и социальные позиции являются шаткими. Следствием незрелости средних слоев является незрелость и общества в целом.
Неустойчивость положения креативного слоя уменьшает вероятность реализации инновационных идей, затрудняет модернизацию устаревших технологий, сдерживает рост среднего класса – и, тем самым, не способствует качественным изменениям общества к лучшему. Возможно, выход из этого замкнутого круга стоит искать и на пути углубления самой международной интеграции. Когда у стран образуется общий рынок рабочей силы, может наблюдаться массовое перетекание наиболее квалифицированных и предприимчивых представителей среднего класса из менее развитой страны в более развитую. В результате может возникнуть так называемый «синергический эффект», позволяющий укрепить позиции среднего класса в сотрудничающих странах.
1 Интерфакс, 5 апреля 2024. URL: https://www.interfax.ru/russia/954212 (дата обращения 12.11.2024)
2 Armenia Today, 28 декабря 2022. URL: https://armeniatoday.news/economica/566864/?ysclid=m3gaxlr7xx811436213 (дата обращения 12.11.2024).
About the authors
Tatyana Sokolova
Institute of Economics (RAS)
Author for correspondence.
Email: sokolova99@mail.ru
Ph.D. in Economics, Senior Researcher
Russian Federation, MoscowReferences
- Акбаров У. Кто является представителем среднего класса в Узбекистане? // Интернет-издание «Kun.uz». URL: https://kun.uz/ru/news/2019/05/09/kto-yavlyayetsya-predstavitelem-srednego-klassa-v-uzbekistane (дата обращения 21.08.2024).
- Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. М.: Мысль, 1983. 830 с. (Филос. наследие. Т. 90).
- Бегмуродов С.Ш. Развитие предпринимательства как путь к формированию среднего класса собственников в Республике Таджикистан // Вестник Технологического университета Таджикистана. 2020. Т. 42. № 3. С. 105–110.
- Бобков В.Н., Гулюгина А.А., Одинцова Е.В. Социальные последствия тридцати лет капиталистических реформ в России // Российский экономический журнал. 2022. № 1. С. 78–107.
- Бобков В.Н., Одинцова Е.В., Квачев В.Г. О критериальной идентификации российских средних классов // Социологические исследования. 2019. № 4. С. 119–125.
- В России 11% семей можно отнести к среднему классу // РИА Рейтинг, 24.07.2023. URL: https://riarating.ru/regions/20230724/630245960.html (дата обращения 29.09.2024).
- Ван Ц. Социальные трансформации начала XXI века: сравнительный анализ развития среднего класса и профессиональной структуры в России и Китае // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2024. № 3. С. 152–155.
- Вольвач В.Г. Социально-психологический феномен среднего класса // Инновационное образование и экономика. 2019. № 23. С. 31–34.
- Галстян Д. Бостанджян: после развала СССР в Армении исчез средний класс // Sputnik Армения. URL: https://am.sputniknews.ru/20160823/4712512.html (дата обращения 29.09.2024).
- Гасанов Р. Средний класс в социальной структуре общества постсоветского Азербайджана / Сайт Национальной библиотеки Азербайджана им. М. Ф. Ахундова. URL: https://anl.az/down/meqale/sosial_tedqiqatlar/2021/01/12(meqale).pdf (дата обращения 21.08.2024).
- Евразийская интеграция в турбулентном мире / Отв. ред. Л.Б. Вардомский. СПб.: Алетейя, 2019. 288 c.
- Зарубина Ю.В., Зайцев И.В. Средний класс в России: подходы, критерии, тенденции // Современные технологии и научно-технический прогресс. 2024. № 11. С. 343–344.
- Захарова С.Г., Зенькова Л.П., Крицкая Н.В. Тенденции изменения социальной структуры общества в Беларуси, России и Узбекистане: креативный подход к выделению границ среднего класса // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2023. Т. 72. № 4. С. 33–43.
- Малева Т.М., Бурдяк А.Я., Тындик А.О. Средние классы на различных этапах жизненного пути // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. Т. 27. № 3. С. 109–139.
- Миронов А.В., Гешева Е.Г. Средний класс: его место, роль и значение в современном российском обществе // Социально-гуманитарные знания. 2016. № 5. C. 220–234.
- Новосадов С.А. Перспективы развития среднего класса для экономики будущего / Мировая глобализация: фундаментальные и прикладные аспекты. Сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции (Москва, 31 января 2024 года). М., Центр развития образования и науки, 2024. С. 56–61.
- Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2025 год. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 г. № 789. URL: http://static.government.ru/media/files/u1gyjb3TTi9n6pxkFppyeA3SPZn0bwXU.pdf (дата обращения 19.08.2024).
- О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, статья 8, пункт 4. Федеральный закон от 27.11.2023 № 540-ФЗ. URL: Официальный интернет-портал правовой информации: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311270070?index=40 (дата обращения 19.08.2024).
- Постсоциалистический мир: итоги трансформации / Под общ. ред. С.П. Глинкиной: в 3 т. СПб.: Алтейя, 2017. Т. 2. Постсоветские государства / Отв. ред. Л.Б. Вардомский. 454 с.
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года // URL: http://static.government.ru/media/files/u1gyjb3TTi9n6pxkFppyeA3SPZn0bwXU.pdf (дата обращения 25.08.2024).
- Радаев В.В. Средний класс как нормативная модель // Уровень жизни населения регионов России. 2008. Т. 129–130. № 11–12. С. 107–110.
- Радаев В.В. Средний класс как нормативная модель / Конференция «Динамика средних классов» (3 октября 2019 г.). URL: https://isp.hse.ru/data/2019/10/04/1541835812/06%20Vadim%20Radaev_03-10-2019_RU.pdf (дата обращения 15.08.2024).
- Рослякова Н.А., Новиков А.Б. Проблемы формирования и развития среднего класса в меняющемся мире // Известия СПбГЭУ. 2019. Т. 118. № 4. С. 115–118.
- Саидов С.Ш. Вопрос «среднего класса» в Узбекистане // Экономика и бизнес: теория и практика. 2015. № 2. С. 61–64.
- Сколько среднего класса в Центральной Азии? // Stan Radar. URL: https://stanradar.com/news/full/26308-skolko-srednego-klassa-v-tsentralnoj-azii.html (дата обращения 21.08.2024).
- Средние классы в России: экономические и социальные стратегии / Под ред. Т. Малевой. М.: Гендальф. 2003. 506 с.
- Средний класс в турбулентном мире: динамика и судьба: материалы круглого стола в рамках Московского экономического форума (Москва, 26 марта 2015 г.). М.: Ключ-С, 2015. 104 c.
- Тихонова Н.Е. Межгенерационное воспроизводство профессиональных статусов и классовой принадлежности в современном российском обществе // Вопросы теоретической экономики. 2021. Т. 11. № 2. С. 61–78.
- Шевченко С.В. Средний класс в Республике Беларусь: конверсия или эрозия? // Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление. 2020. Т. 238. № 2. С. 56–60.
- Шлихтер А.А. Средний класс в США и России: отличительные особенности, структурные сдвиги, проблемы на рынке труда и социальная мобильность // Общество и экономика. 2023. № 12. С. 119–132.
- Шмаков В.С. Устойчивое социокультурное развитие Евразии: интеграционный аспект // Respublica Literaria. 2024. Т. 5. № 3. С. 172–183.
- Шоисматуллоев Ш., Таваллоев М.Т. Тенденции трансформации социальной структуры и развитие среднего класса в таджикистанском обществе // Таджикистан и современный мир. 2019. Т. 66. № 3. С. 241–254.
- Юлдашев Ш.Г. Развитие предпринимательства как путь к формированию среднего класса собственников // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. 2015. Т. 19. № 6. С. 152–156.