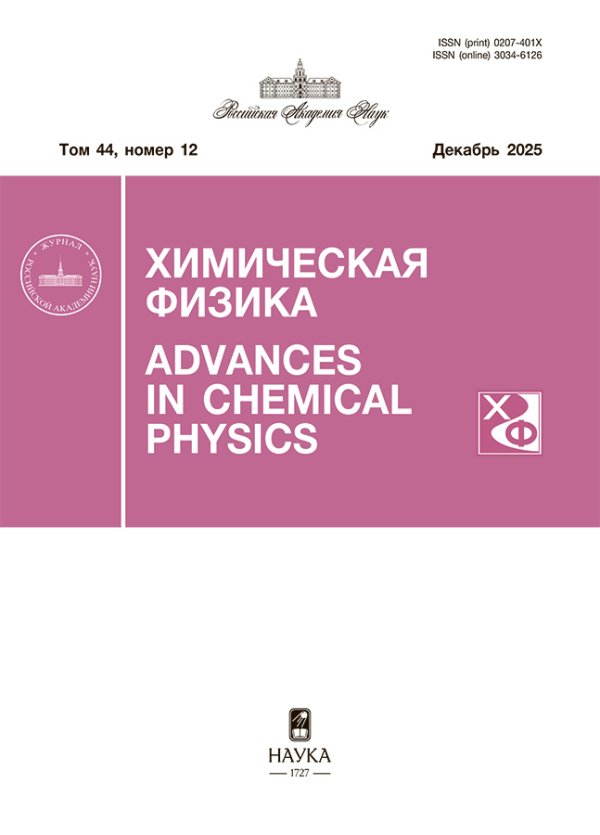Mechanism of Sm2MoO6 phase formation from a mechanically activated oxide mixture
- Authors: Baldin E.D.1, Vorobieva G.A.1, Kolbanev I.V.1, Lyskov N.V.2,3, Shlyakhtina A.V.1
-
Affiliations:
- N.N. Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
- Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medical Chemistry RAS
- National Research University “Higher School of Economics”
- Issue: Vol 43, No 1 (2024)
- Pages: 84-91
- Section: Динамика фазовых переходов
- URL: https://journal-vniispk.ru/0207-401X/article/view/258733
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24010108
- EDN: https://elibrary.ru/mfombu
- ID: 258733
Cite item
Full Text
Abstract
The mechanism of phase formation from (1) the initial and (2) the mechanically activated mixture of Sm2O3 + + MoO3 oxides has been studied by DSC in an oxygen atmosphere. It is shown that different mechanisms of samarium oxymolybdate synthesis are realised in these two cases. As a result of the mechanochemical action at room temperature, a nano-sized mixture of Sm2(MoO4)3 and Sm2O3 was obtained. Upon heating, the first stage is the crystallisation of Sm2(MoO4)3, whose interaction with Sm2O3 in the second stage at 900 °C leads to the synthesis of oxymolybdate Sm2MoO6 with the scheelite structure, and this structure type is stable up to 1400 °C. The kinetic experiment in a DSC cell shows only an apparent similarity of the phase formation mechanism with a decrease of the main exoeffects by 70 °C for a mechanically activated mixture of oxides. At the same time, the study of the mechanism of phase formation by isothermal exposure at different temperatures reveals the main advantages of ceramic synthesis from an activated oxide mixture:
- partially mechanosynthesis of the intermediate compound Sm2(MoO4)3 takes place at room temperature;
- the high degree of interaction between the mechanically activated oxides allows single phase ceramics to be synthesised in a single step over a wide temperature range.
The total conductivity of Sm2MoO6 with a scheelite structure, which turned out to be p-type (1 · 10−6 S/cm at 600 °C), was studied.
Keywords
Full Text
1. Введение
Соединения типа Ln2MoO6, их структура и полиморфизм привлекают внимание исследователей с середины прошлого века. В работах [1–3] структура так называемых оксимолибдатов редкоземельных элементов (РЗЭ) была описана для соединений, полученных традиционным твердофазным методом при температурах выше 1000 °С. Оксимолибдаты крупных редкоземельных катионов, таких как La, Pr, Nd, обладали слоистой тетрагональной структурой (пространственная группа I41/acd), тогда как оксимолибдаты более мелких РЗЭ кристаллизовались в структуру типа шеелита (моноклинная ячейка, пространственная группа C2/c) [1, 3]. Настоящая работа посвящена синтезу оксимолибдата самария с использованием метода механической активации оксидов. Оксимолибдат самария Sm2MoO6 представляет интерес для решения таких прикладных задач, как синтез нанодисперсных люминофоров [4] и гетероструктурных фотокатализаторов [5]. Известна попытка применения легированной керамики на его основе в качестве анодного материала для твердотельных топливных элементов [6].
Традиционно [1–3, 7, 8] для синтеза молибдатов РЗЭ различного состава использовали длительные отжиги в интервале температур 900–1100 °С с промежуточными перетираниями без учета особенностей этих сложных оксидов, связанных с летучестью оксида молибдена [9]. Недавно показано, что длительные отжиги молибдатов РЗЭ при температуре 1200 °С могут привести к нарушению стехиометрии состава из-за летучести оксида молибдена из молибдатов средних РЗЭ Ln10Mo2O21 (Ln = Gd, Dy, Ho) [10]. Кроме того, температура плавления чистого оксида молибдена составляет 795 °С, а возгоняться он начинает уже при 700 °С, а иногда – и при более низких температурах [9]. Поэтому представляется крайне важным исследовать возможность синтеза молибдатов РЗЭ при температурах ниже 700 °С. Известно, что использование метода механической активации зачастую приводит к изменению механизма фазообразования сложных оксидов [11, 12], а в некоторых случаях – к механосинтезу соединений при комнатной температуре [13]. Известно, например, что молибдат самария Sm6MoO12−δ был успешно синтезирован при комнатной температуре в результате трехчасового помола смеси, состоящей из Sm2O3 и нанодисперсного MoO3 [14]. Молибдат самария Sm6MoO12−δ, полученный при комнатной температуре, имел ту же структуру, что и исходный оксид самария B–Sm2O3 (пространственная группа C2/m, № 12) [14]. Известны также другие неравновесные методы (соосаждение, гидротермальный метод, золь-гель, пиролиз аэрозолей), которые обеспечивают образование нанодисперсных прекурсоров для получения твердофазных материалов с заданными свойствами [15–18].
Следует отметить, что механизм фазообразования оксимолибдата самария Sm2MoO6 из нанодисперсных прекурсоров, полученных с использованием механоактивации смеси оксидов самария и молибдена Sm2O3 + MoO3 при повышении температуры, ранее не был исследован. Методом импеданс-спектроскопии в работе исследована электропроводность оксимолибдата самария Sm2MoO6 со структурой шеелита.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтез поликристаллических образцов оксимолибдата самария Sm2MoO6 был проведен с использованием механически активированной смеси оксида Sm2O3 (марки СмО-Л ТУ 48-4-523-89) (чистоты 99.9%) и оксида MoO3 производства компании Hunan, (China), взятых в молярном соотношении 1 : 1. Оксид самария непосредственно перед взвешиванием отжигали при температуре 1000 °С на протяжении 2 ч с целью удаления воды и разложения карбонатов самария. Помол оксидов проводили в шаровой мельнице SPEX8000 в течение 60 мин. Отжиг предварительно спрессованных в таблетки порошков (давление – 296 МПа) проводили при температурах от 900 до 1600 °С в течение различного времени: от 1 до 96 ч, на воздухе с использованием высокотемпературной муфельной печи F46100 компании Barnstead International (USA). Тип нагревателей – Super Kanthal 33 (MoSi2).
Дифрактограммы для рентгенофазового анализа (РФА) были получены при комнатной температуре с использованием дифрактометра ДРОН–3М: Cu(Kα)-излучение с λ = 1.5406 Å, диапазон углов 2θ = 10–75°, шаг – 0.1°, время экспозиции на каждом шаге τ =3 с. Некоторые из порошков дополнительно исследовались на дифрактометре компании Rigaku (Japan) Smartlab SE (Cu(Kα)-излучение, 40 кВ, 50 мА) в непрерывном режиме. Диапазон углов составлял 2θ = 10–70°, шаг – 0.1°, скорость сканирования – 5°/мин.
Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) и термогравиметрия (ТГ) осуществлялись с использованием термоанализатора NETZSCH (Germagy) STA 449C (диапазон измерения 50–1000 °C, скорость нагрева – 10 °С/мин, тигель из Al2O3) в кислородной атмосфере.
Для измерений проводимости на образец керамики Sm2MoO6, синтезированный при 1400 °С в течение 1 ч, а затем при 1500 °С также в течение 1 ч и представляющий собой цилиндр диаметром 9 мм и высотой 4 мм, были нанесены электроды путем вжигания платиновой пасты ChemPur C3605 при температуре 1000 °С. Измерение проводимости методом импеданс-спектроскопии проводили при помощи потенциостата/гальваностата P-5X в частотном диапазоне от 0.1 Гц до 500 кГц и интервале температур 500–900 °С в сухом и влажном воздухе в режиме охлаждения. Сухая атмосфера создавалась при прохождения воздушного потока через KOH (pH2O = 2.6 · 10−6 атм), а влажная – при прохождении воздушного потока через водяной сатуратор, выдерживаемый при 20 °С, что обеспечивало постоянную влажность в 2.3% (pH2O = 0.023 атм). С целью достижения равновесного состояния перед измерением проводимости образец выдерживали при каждой температуре в течение по меньшей мере 40 мин.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Синтез Sm2MoO6 из механоактивированной смеси оксидов Sm2O3+MoO3
Результаты РФА механически активированной смеси оксидов представлены на рис. 1 (кривая 1). По данным РФА механически активированный (м/а) порошок является нанодисперсным: на дифрактограмме 1 видны уширенные линии моноклинной формы B-Sm2O3 (номер карточки в базе данных – PDF#00-42-1464), тогда как линии MoO3 не наблюдаются. Можно предположить, что механохимический синтез оксимолибдата самария Sm2MoO6, как и Sm6MoO12 − δ [14], возможен при комнатной температуре. В работе [14] реакцию механосинтеза Sm6MoO12 − δ из смеси оксидов при комнатной температуре исследовали не только методом РФА, но и методом ЭПР, и в результате было доказано, что молибдат самария наследует структурный тип оксида РЗЭ. В данном случае по аналогии с [14] можно предположить, что в результате механической активации оксид B-Sm2O3 (пространственная группа C2/m, № 12) взаимодействует с MoO3 c образованием молибдата Sm2MoO6 с моноклинной структурой (пространственная группа C12/с1, № 15), близкой к В-Sm2O3. При дальнейшем синтезе керамики из такого нанодисперсного прекурсора диффузионные затруднения должны заметно уменьшиться.
Рис. 1. Дифрактограммы смеси оксидов Sm2O3+MoO3: 1 – после механической активации при комнатной температуре в течение 1 ч, 2 – после изотермической выдержки в течение 220 ч м/а-смеси при температуре 340 °С, после нагрева м/а-смеси в камере ДСК до (3) 440, (4) 495, (5) 569, (6) 640, (7) 765, (8) 865, (9) 910 °С. Кружками отмечены положения линий фазы Sm2(MoO4)3. Треугольник указывает на пик плоскости (202) фазы шеелита Sm2MoO6.
Исходная смесь оксидов Sm2O3 + MoO3 после механической активации в шаровой мельнице SPEX8000 была помещена в измерительную камеру ДСК и нагрета со скоростью 10 °С/мин до 1000 °С. На полученной кривой ДСК (рис. 2, кривая 1) наблюдаются две пары экзотермических пиков в областях 460–550 и 800–900 °С соответственно. При охлаждении никаких эффектов не обнаружено. Это свидетельствует о протекании необратимых процессов, связанных с образованием промежуточных фаз, подробное описание которых будет приведено далее.
Рис. 2. Данные ДСК м/а-смеси оксидов Sm2O3 + MoO3 в режиме нагрева (1 ), охлаждения (1 ′) и смеси, измельченной в ступке без предварительной активации, в режиме нагрева (2 ) со скоростью 10 °С/мин.
Дополнительно провели аналогичное ДСК-исследование исходной смеси оксидов такого же состава: Sm2O3 + MoO3, которую не подвергали предварительной механической активации, а лишь перетирали в агатовой ступке на протяжении 2 мин. В этом случае наблюдаются те же экзотермические эффекты, что и в случае м/а-смеси, однако они сдвинуты в область более высоких температур (рис. 2, кривая 2).
Для того чтобы определить, каким именно процессам соответствуют экзотермические пики, представленные на рис. 2, порошки м/а-смеси Sm2O3 + + MoO3, нагретые в той же измерительной камере ДСК до температур, соответствующих температурам начала и конца каждого эффекта, были исследованы методом РФА. Полученные дифрактограммы представлены на рис. 1.
После нагрева до 440 °С пики на дифрактограмме (рис. 1, кривая 3) становятся более узкими, что свидетельствует о росте размера кристаллитов. На дифрактограмме образца, нагретого до 495 °С, помимо линий оксида самария появляются пики, соответствующие фазе Sm2(MoO4)3 (Sm2O3 : 3MoO3 – фаза 1 : 3), содержащей гораздо больше молибдена (PDF #01-080-9758 или CSD 423512) по сравнению с оксимолибдатом самария Sm2MoO6. На рис. 1 кружками отмечены пики, принадлежащие плоскостям (112) и (200) этой фазы. В работе [19] структура соединения Sm2(MoO4)3 (Sm2O3 : 3MoO3) характеризуется как тетрагональная типа дефектного шеелита (пространственная группа I41/a, № 88). Таким образом, можно полагать, что первый экзотермический пик на кривой ДСК связан с образованием фазы Sm2(MoO4)3. По-видимому, продуктом механосинтеза в данном случае оказался не оксимолибдат самария, а Sm2(MoO4)3 в смеси с оксидом самария. Длительный отжиг в течение 220 ч при температуре 340 °С подтверждает этот вывод: наблюдается усиление основного пика фазы Sm2(MoO4)3 (рис. 1, кривая 2). В силу того, что все три соединения являются структурно близкими фазами, мы не можем однозначно утверждать, что фаза Sm2MoO6 отсутствует в нанодисперстном прекурсоре – продукте механохимической реакции.
При дальнейшем увеличении температуры до 569 °С наблюдается рост интенсивности линий фазы 1 : 3 с одновременным уменьшением интенсивности линий оксида самария Sm2O3. Вплоть до 765 °С никаких фазовых превращений не происходит, общая форма профиля сохраняется (рис. 1, кривые 5–7). Дифрактограмма смеси, нагретой до 865 °С (рис. 1 кривая 8), практически полностью соответствует моноклинной фазе оксимолибдата Sm2MoO6 (PDF #00-024-0997 или CSD 4186). Присутствуют остатки линий оксида самария, однако их интенсивность значительно меньше, чем на дифрактограммах образцов, нагретых до более низких температур. Стоит отметить схожесть рентгеновских дифрактограмм тетрагональной фазы Sm2(MoO4)3 и моноклинного оксимолибдата самария Sm2MoO6. Явным их отличием может служить пик, принадлежащий плоскости (202), отмеченный треугольником на кривой 8 рис. 1, которого на дифрактограмме Sm2(MoO4)3 не должно быть. Следовательно, можно полагать, что экзотермический пик на кривой ДСК, начинающийся при 800 °С соответствует образованию моноклинной фазы Sm2MoO6. Кривая 9 (рис. 1) представляет собой дифрактограмму чистой моноклинной фазы Sm2MoO6 (шеелит), полученной после нагрева м/а-смеси оксидов в камере ДСК до 910 °С. Таким образом, метод механоактивации позволяет получить это соединение без длительной выдержки при высокой температуре, характерной для традиционного твердофазного синтеза. Реакция механосинтеза способствует в этом случае формированию промежуточной нанодисперсной фазы Sm2(MoO4)3, в смеси с которой остается непрореагировавший нанодисперсный оксид самария.
Рентгенофазовый анализ смеси оксидов, перетертой в ступке без предварительной механической активации, показал, что синтез оксимолибдата самария проходит схожим образом. Первая пара пиков при 520 °С (рис. 2, кривая 2) связана с образованием промежуточной фазы Sm2(MoO4)3. В то время как вторая пара пиков при 830 °С вызвана перестройкой структуры в моноклинную фазу Sm2MoO6. Стоит отметить, что после нагрева такой смеси до 1000 °С на РФА-кривых помимо линий Sm2MoO6 присутствуют остаточные линии Sm2O3 (данные РФА для этого эксперимента в статье не приводятся). Таким образом, нагрева смеси Sm2O3 + MoO3 до 1000 °С без предварительной механической активации недостаточно для окончательного синтеза оксимолибдата Sm2MoO6.
На рис. 3 представлены дифрактограммы порошков из таблеток, спрессованных из м/а-смеси и отожженных при различных температурах в интервале 900–1600 °С. Как можно видеть, моноклинная структура Sm2MoO6 сохраняется вплоть до 1500°С (рис. 3, кривые 1–5). Причем значительную роль играет термическая предыстория. Так, например, дифрактограммы образцов с одинаковой конечной температурой синтеза: 1500 °С существенно различаются. Предварительно нагретый до 1400 °С образец сохранил свою моноклинную структуру (рис. 3, кривая 5). С другой стороны, на дифрактограммах образцов, отожженных сразу при 1500 °С и 1600 °С (рис. 3, кривые 6 и 7), присутствуют линии другой фазы. Обе керамики имели признаки плавления: темные пятна на блестящей поверхности. Рентгенофазовый анализ показал, что этой примесной фазой является кубический молибдат самария Sm5Mo3O16+δ (пространственная группа Pn3n, № 222), структура которого описана ранее в работе [20]. Вероятно, эта фаза образуется в результате частичного плавления и последующей кристаллизации при охлаждении от высоких температур. Получить чистую тетрагональную фазу Sm2MoO6 (пространственная группа I42m, № 121), синтезированную в работе [2], не удалось. Однако это не удивительно, поскольку самариевые соединения часто проявляют диморфизм в зависимости от условий синтеза [21]. Отметим, что отжиг в работе [2] проводили в запечатанных платиновых капсулах, а не на воздухе.
Рис. 3. Дифрактограммы керамик, полученных при отжиге механоактивированной смеси оксидов Sm2O3+MoO3: 1 – 900 °С 48 ч; 2 – 1200 °С 4 ч; 3 – 1300 °С 2 ч; 4 – 1400 °С 1 ч; 5 – 1400 °С 1 ч + 1500 °С 1 ч; 6 – 1500 °С 1 ч; 7 – 1600 °С 1 ч.
Проводимость высокотемпературной моноклинной фазы Sm2MoO6
Проводимость моноклинного образца Sm2MoO6 была измерена методом импеданс-спектроскопии. Пример типичного годографа импеданса приведен на рис. 4. Первая полуокружность спектра импеданса соответствует сопротивлению внутри зерна, а вторая, судя по порядку величины кажущейся емкости: 10−7–10−8 Ф/см, соответствует зернограничному сопротивлению. Анализ импеданс-спектра оксимолибдата самария Sm2MoO6 со структурой шеелита (представлен спектр, измеренный при температуре 613 °С) показывает отсутствие электродной дисперсии, типичной для кислород-ионных проводников [14]. Таким образом, можно утверждать, что керамика Sm2MoO6 со структурой шеелита демонстрирует преобладающую электронную проводимость при 613 °С. Температурные зависимости проводимости в координатах Аррениуса имеют линейный вид и практически не реагируют на увлажнение атмосферы (рис. 5). Энергия активации составляет 1.22 эВ. Очевидно, что протонная составляющая проводимости у материала отсутствует и во всем интервале исследования образец является электронным проводником с дырочной проводимостью, что типично для оксимолибдатов легких РЗЭ на воздухе [8]. Общая проводимость оксимолибдата самария Sm2MoO6 со структурой шеелита на воздухе составляет 1 · 10−6 См/см при 600 °С.
Рис. 4. Годограф импеданса моноклинной фазы Sm2MoO6 в сухом (■) и влажном (□) воздухе при 613 °С; сплошные линии – подгоночные кривые.
Рис. 5. Температурные зависимости объемной проводимости моноклинной фазы Sm2MoO6, измеренные в сухом (■) и влажном (□) воздухе.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате использования механической активации смеси оксидов Sm2O3 и MoO3, взятых в молярном соотношении 1 : 1, при комнатной температуре получена смесь нанодисперстных оксидов Sm2(MoO4)3 (Sm2O3 : 3MoO3) и оксида самария. Механизм фазообразования отличен от традиционного твердофазного синтеза оксимолибдатов при высокой температуре. Синтез из нанодисперстных прекурсоров проходит стадию кристаллизации фазы Sm2(MoO4)3, обогащенной молибденом, из которой затем формируется моноклинная фаза Sm2MoO6, устойчивая в температурном интервале 900–1400 °С. Часть Sm2(MoO4)3 образуется в результате реакции механосинтеза при комнатной температуре, что подтверждается длительным в течение 220 ч отжигом при 340 °С. При более высоких температурах начинается плавление Sm2MoO6, причем в продукте охлаждения в небольшом количестве: ~ 7–8 мол. %. обнаружена примесная кубическая фаза Sm5Mo3O16+δ. Исследована общая проводимость моноклинного Sm2MoO6 в сухом и влажном воздухе. Протонный вклад не обнаружен. Проводимость дырочного типа у оксимолибдата самария Sm2MoO6 со структурой шеелита на воздухе составляет 1 · 10−6 См/см при 600 °С. Маловероятен вклад кислород-ионной составляющей во всем интервале измерений, поскольку какие-либо изменения энергии активации проводимости отсутствуют.
Работа поддержана субсидией Минобрнауки, выделенной ФИЦ ХФ РАН на выполнение госзадания (тема №122040500071-0). Измерения проводимости образцов выполнены в рамках темы госзадания ФИЦ ПХФ и МХ РАН (номер темкарты FFSG-2024-0006).
About the authors
E. D. Baldin
N.N. Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: baldin.ed16@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
G. A. Vorobieva
N.N. Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Email: baldin.ed16@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
I. V. Kolbanev
N.N. Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Email: baldin.ed16@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
N. V. Lyskov
Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medical Chemistry RAS; National Research University “Higher School of Economics”
Email: baldin.ed16@physics.msu.ru
Russian Federation, Chernogolovka; Moscow
A. V. Shlyakhtina
N.N. Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Email: baldin.ed16@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
References
- G. Blasse, J. inorg. nucl. Chem. 28, 1488 (1966). https://doi.org/10.1016/0022-1902(66)80185-9
- L.H. Brixner, A.W. Sleight, M.S. Licis, Journal of Solid State Chemistry. 5, 2, 186 (1972). https://doi.org/ 10.1016/0022-4596(72)90027-8
- J.S. Xue, M. R.Antonio, L. Soderholm, Chem. Mater. 7. https://doi.org/ 333 (1995). 10.1021/cm00050a015
- K.P. Mani, G. Vimal., P.R. Biju, C. Joseph et al., ECS J. Solid State Sci. Technol. 4, 5, 67 (2015). https://doi.org/ 10.1149/ 2.0131505jss
- K. Selvakumar, T.H. Oh, T. Vijayaraj, R. K Gokul. et al., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 650, 129545. (2022). https://doi.org/ 10.1016/j.colsurfa.2022.129545
- Q. Li, V. Thangadurai, Journal of Power Sources. 196, 1, 169 (2011). https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2010.06.055
- V.K. Yanovskii, V.I. Voronkova, Fizika Tverdogo Tela (In Russian). https://doi.org/19, 3318 (1977).
- E.I. Orlova, Y.A. Morkhova, A.V. Egorova et al., J. Phys. Chem. C. 126, 23, 9623 (2022). https://doi.org/ 10.1021/acs.jpcc.2c01837
- A.V. Shlyakhtina, M. Avdeev, N.V. Lyskov et al., Dalton Trans. 49, 9, 2833 (2020). https://doi.org/ 10.1039/C9DT04724G
- A. Chychko, L. Teng, S. Seetharaman, Steel Research Int. 81, 9, 784 (2010). https://doi.org/ 10.1002/srin.201000055
- A.V. Shlyakhtina, I.V. Kolbanev, L.G. Shcherbakova, Chemical Physics Reports 17, 8, 1463 (1998).
- A.V. Shlyakhtina, I.V. Kolbanev, L.G. Shcherbakova, Khimicheskaya Fizika (In Russian) 20, 94 (2001).
- I.V. Kolbanev, E.N. Degtyarev et al., J. Am. Ceram. Soc. 2021. V. 104, 11, 5698 (2021). https://doi.org/ 10.1111/jace.17939
- A.V. Shlyakhtina, I.V. Kolbanev, E.N. Degtyarev et al., Solid State Ionics. 320, 272 (2018). https://doi.org/ 10.1016/j.ssi. 2018.02.004
- Bayan, E.M., Lupeiko, T.G., Pustovaya, L.E., Russ. J. Phys. Chem. B 13, 383 (2019). https://doi.org/ 10.1134/S1990793119020131
- L.G. Mamsurova, N.G. Trusevich, A.A. Vishnev et al., Russ. J. Phys. Chem. B 14, 986 (2020). https://doi.org/ 10.1134/S199079312006024X
- A.A. Vasilev, E.L. Dzidziguri, M.N. Efimov, et al., Russ. J. Phys. Chem. B 15, 381 (2021). https://doi.org/ 10.1134/S1990793121030313
- M.I. Alymov, B.S. Seplyarskii, S.G. Vadchenko, et al., Russ. J. Phys. Chem. B 15, 352 (2021). https://doi.org/ 10.1134/S1990793121020135
- T. Schustereit, S.L. Müller, T. Schleid, et al., Crystals. 1. 4, 244 (2011). https://doi.org/ 10.3390/cryst1040244
- Чебышев К. А., Бережная Т.С., Чайка Э.В. и др. // Химические проблемы современности 2022: Сборник материалов VI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Донецк, 2022, С. 70.
- T.N. Bondarenko, V.N. Uvarov, S.V. Borisenko et al., Journal of the Korean Physical Society. 32, S65 (1998).
Supplementary files