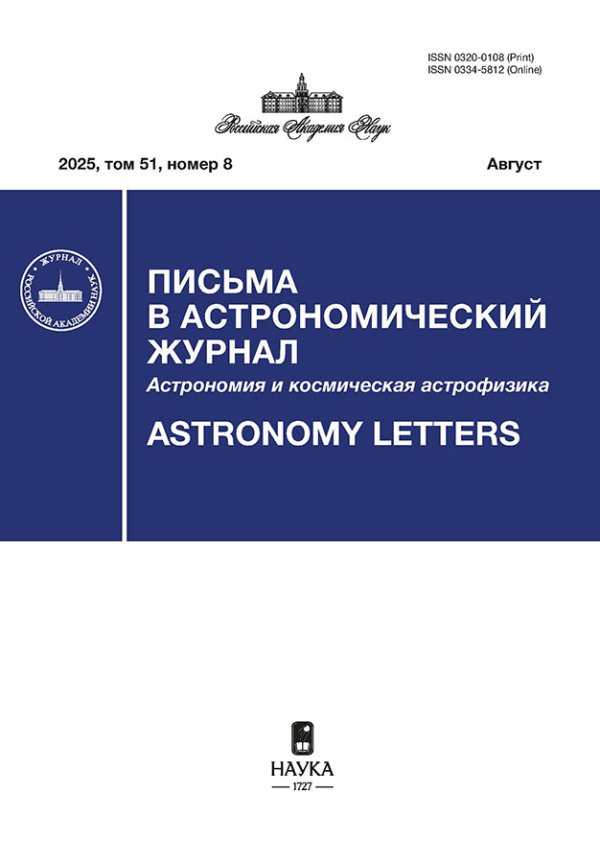О вспышечной активности мазера H2О В DR21OH
- Authors: Лапинов А.В.1, Толмачёв А.М.2, Киселёв А.К.1,3, Лапин Н.И.1,3, Лапинова С.А.4,5, Старцева И.А.3, Логинова А.С.3
-
Affiliations:
- Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН
- АКЦ ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН
- Мининский университет
- Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского
- Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”
- Issue: Vol 50, No 1 (2024)
- Pages: 82-89
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-0108/article/view/266710
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320010824010069
- EDN: https://elibrary.ru/OQYBLU
- ID: 266710
Cite item
Full Text
Abstract
Сообщается о вспышке мазерного излучения H2O, обнаруженной в июле 2023 г. в области звездообразования DR21OH при мониторинге непрерывного излучения в DR21 на РТ22 ПРАО. Данные наблюдения были частью программы по исследованию характеристик антенны и поглощения атмосферы на длине волны 1.35 см. Последующее обращение к архивным данным и новые измерения показали, что обнаруженная вспышка в 2023 г. была в источнике не единственной, и DR21OH является сильно переменным в линии H2O на 22 ГГц с довольно непредсказуемым характером. По измерениям континуума в DR21 выполнены оценки эффективной площади РТ22.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то, что первые мазеры H2O на частоте перехода JKa,Kc = 61,6 – 52,3 n = 22.23507985(5) ГГц (Куколич, 1969) были открыты в межзвездной среде в направлении известных источников мазерного радиоизлучения OH еще в 1969 г. (Ченг и др., 1969), им по-прежнему уделяется крайне большое внимание. Частично это связано с использованием межзвездных мазеров в качестве зондов при поиске и исследовании областей звездообразования на ранних стадиях эволюции, уточнением факторов, приводящих к формированию мазерного излучения, изучением физических особенностей тех источников, где они наблюдаются. Кроме того, в последние годы интерес к мазерам H2O, наряду с излучением в линиях SiO и метанола, возрос благодаря совершенствованию методов радиоинтерферометрии, особенно длиннобазовой, что привлекательно высоким угловым разрешением при исследованиях мелкомасштабной структуры струйных истечений и кеплеровских движений, возможностью интерферометрических измерений расстояний, нередко превышающих расстояние до центра Галактики (см., например, Чжан и др., 2013), а в исключительных случаях – расстояний до центральных объектов в галактиках, удаленных от нас от единиц до величин свыше ста мегапарсек. Яркие примеры, иллюстрирующие измерения межгалактических расстояний на основе наблюдений с высоким угловым разрешением кеплеровских движений по мазерным линиям H2O, предложенные впервые Миоши и др. (1995), можно найти, например, в работе Пеше и др. (2020), содержащей определение постоянной Хаббла на основе данного метода.
Нельзя не отметить наблюдательный интерес к мазерам H2O также благодаря их вспышечной активности, когда на какое-то время спектральная плотность потока может сравнительно быстро увеличиться на несколько порядков, а затем снова вернуться к исходным значениям. Cм., например, детальные исследования вспышки супермазера H2O в Орионе-KL при помощи интерферометров VERA и ALMA (Хирота и др., 2014), происходившей в 2012 г., а также недавних мощных вспышек мазеров H2O в областях звездообразования G25.65+1.05 (Вольвач и др., 2019, Ашимбаева и др., 2020), IRAS16293-2422 (Колом и др., 2021; Вольвач и др., 2023a), W49N (Вольвач и др., 2023b), W51 (Ашимбаева и др., 2022; Вольвач и др., 2023c).
На сегодня в России фактически лишь два радиотелескопа выполняют регулярные измерения мазеров H2O на частоте 22 ГГц. Это телескоп диаметром 22 м Пущинской радиоастрономической обсерватории Астрокосмического центра ФИАН им. П. Н. Лебедева (РТ22 ПРАО), вошедший в строй в 1959 г., и такого же диаметра радиотелескоп Крымской астрономической обсерватории (РТ22 КрАО), введенный в эксплуатацию в 1967 г.
Цель предлагаемой работы – обсуждение вспышечной активности мазера H2O в области звездообразования DR21OH, случайно обнаруженной нами в июле 2023 г. в ходе программы по измерениям характеристик антенны и точности коррекции антенных температур за поглощение атмосферы на длине волны 1.35 см. В нашем случае в качестве калибровочного объекта была выбрана компактная HII область под номером 21 из каталога источников (Даунс, Райнхарт, 1966) в гигантской области звездообразования Лебедь X. Частотная зависимость спектральной плотности излучения DR21 в континууме является хорошо изученной (см., например, Дент, 1972; Гуди, 1976) и на частоте 22.231 ГГц предполагалась равной 19.2 Ян. Многочисленные измерения источника на разных частотах методом апертурного синтеза показывают кометарный вид HII зоны, распадающейся внутри на несколько областей, связанных с формированием скопления звезд большой массы. См., например, изображение DR21 в линейном масштабе на 5 ГГц (Харрис, 1973), а также в логарифмическом масштабе на 5 ГГц и 22 ГГц (Цыгановский и др., 2003). Тем не менее по сравнению с шириной диаграммы РТ22 на частоте 22 ГГц (HPBW = 150ʺ) источник может считаться точечным, а незначительная коррекция интенсивности в 2.4% из-за частичного пространственного разрешения (см. рекомендуемые поправки в Дент, 1972) находится внутри неопределенности самой измеренной величины (3%).
Стоит сказать, что среди всех изученных на сегодня областей формирования звезд большой массы DR21 является одной из самых массивных с наиболее энергетически мощным истечением газа. Обсуждение процессов, связанных с рождением звезд в данном объекте и механизмов формирования одних из самых мощных биполярных истечений, когда-либо обнаруженных в Галактике, можно найти в ранних работах (Гарден и др., 1990; Гарден и др., 1991; Дэвис и Смит, 1996; Робертс и др., 1997) и многих других. Схематично наглядная модель источника, включающая зону HII в центре, струи молекулярного газа и родительское облако, представлена на рис. 9 в работе Рассел и др. (1992).
Необходимо отметить, что область формирования звезд в DR21 и связываемые с ней компактная область НII и протяженные биполярные истечения, хорошо трассируемые в излучении молекул H2 и HCO+ (Гарден и Карлстрём, 1992; Робертс и др., 1997; Фернандес и др., 1997), являются частью гораздо более протяженного молекулярного облака, простирающегося в направлении с юга на север примерно на 10ʹ. По-видимому, наиболее детально крупномасштабная структура источников в данном направлении в области Лебедь X представлена в работе Кумар и др. (1969) на рис. 1, являющемся композитным изображением с обсерватории Спитцер и матричного приемника SCUBA JCMT-15m. Так, в 3ʹ севернее ультракомпактной HII области DR21 расположена более молодая область звездообразования DR21OH, а на в 2 раза меньшем расстоянии еще севернее – три источника, W75S-FIR1, FIR2 и FIR3, являющиеся самыми яркими в излучении на 4.5 мкм. Еще дальше в 18ʹ северо-западнее DR21 расположено молекулярное облако W75N, представлявшее для нас интерес благодаря сильному мазерному излучению в линии H2O на 22 ГГц (см., например, Лехт и др., 2009; Ким и др., 2013; Сурцис и др., 2023), использовавшемуся для юстировки наведения. Предположение о том, что W75N и W75S/DR21 являются взаимодействующими молекулярными комплексами, по-видимому, впервые на основе спектральных измерений молекул было предложено в работах Дикель и Вендкер (1978) и Дикель и др. (1978). Недавние детальные изображения комплекса DR21/DR21OH/W75S в линиях разных молекул по наблюдениям на 45-м радиотелескопе Нобеяма (Добаши и др., 2019) стали наглядным тому подтверждением.
Рис. 1. Результат измерений в непрерывном спектре DR21 на частоте 22.231 ГГц. Значения TA* в полосе 12.5 МГц приведены за вычетом мазерной линии от DR21OH (см. пояснения в тексте). Пунктирными линиями показаны средневзвешенное значение и величины, отстоящие от среднего в обе стороны на стандартное отклонение единичного измерения. Шкала справа приведена в предположении, что спектральная мощность излучения DR21 на данной частоте равна 19.2 Ян.
Тригонометрические расстояния до W75N и DR21OH, определенные методом параллакса по измерениям мазерных линий метанола на 6.7 ГГц и H2O на 22 ГГц, составили соответственно 1.30 ± 0.07 кпк и кпк (Рыгл и др., 2012).
МЕТОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
При измерениях эффективной площади радиотелескопов одним из основных методов являются наблюдения калибровочных источников с известной спектральной плотностью в заданном диапазоне, когда в случае неполяризованного излучения точечного объекта можно записать
(1)
где Sn – спектральная плотность мощности излучения, k – постоянная Больцмана, TA* – антенная температура источника в рэлей-джинсовском приближении, скорректированная за поглощение в атмосфере.
Так как величина сигнала в континууме от DR21 в шкале TA* на РТ22 ПРАО составляет менее 0.8 K, мы не можем использовать данный источник непосредственно для юстировки наведения с приемлемой точностью. Для этой цели каждый раз перед измерением DR21 юстировка выполнялась сканированием по азимуту и углу места по сильному мазеру H2O в W75N, расположенному в 18ʹ северо-западнее. При пиковом значении TA* ≈ 260 K в мазерной линии H2O в W75N в июле 2023 г. и шумовой температуре системы Tsys, менявшейся в ходе измерений в зависимости от угла места в диапазоне от 200 K до 250 K, это позволяло достичь точности наведения в несколько угловых секунд за несколько минут измерений. В настоящее время на РТ22 ПРАО на частоте 22 ГГц используется приемник, охлаждаемый до 20 K и регистрация выходного сигнала происходит при помощи цифрового автокоррелятора с числом каналов 2048 и полосой анализа, дискретно перестраиваемой от 50 МГц до 3.125 МГц. Наблюдения выполняются в двухлучевом режиме с частотой диаграммной модуляции 380 Гц при разносе лучей по азимуту в 610ʺ. Калибровка проводится отведением в сторону от источника, когда балансировкой лучей сначала выставляется нулевой уровень, а затем в тракт одного из рупоров подается сигнал от генератора шума с известной температурой. Пересчет от измеренных температур к шкале TA*, исправленной за поглощение в атмосфере, происходит расчетом оптической толщины в направлении на источник на основе приземных метеоданных в соответствии с выражением, полученным А. М. Толмачёвым и приведенным в параграфе 2.3 монографии Конниковой и др. (2011). Несмотря на то, что источники DR21 и W75N на РТ22 ПРАО являются незаходящими и могут наблюдаться круглосуточно в диапазоне углов места от 8° до 78°, все измерения DR21 проходили в ночное время, чтобы уменьшить влияние Солнца на наведение, и при минимальной облачности. Измерения охватывали период с 14 по 18 июля включительно. Результаты измерений показаны на рис. 1. Средневзвешенное значение TA* в континууме в DR21 получилось равным 0.695 K. Средневзвешенная ошибка единичного измерения с учетом шумов базовой линии равна 0.047 K. В соответствии с выражением (1) и значением Sn = 19.2 Ян, согласно распределению Стьюдента (см., например, Большев, Смирнов, 1983), для 21 измерения это дает Aeff = 100 м2 c 95% доверительным интервалом в 3.2 м2, учитывающим разброс, обусловленный неточностями наведения и коррекции поглощения в атмосфере. При этом для всех измерений, представленных на рис. 1, оптическая толщина в зените лежала в интервале от 0.10 до 0.12, а измерения проходили при исключительно ясной погоде. С учетом возможной погрешности спектральной плотности потока DR21, оцениваемой в 3% (Дент, 1972), итоговая погрешность в эффективной площади РТ22 оценивается нами в 4.4 м2.
Полученное значение Aeff находится между величиной, измеренной нами в феврале 2019 г. (94.2 ± 4.7 м2, Лапинов и др., 2019), и величиной в 110 м2, полученной из пересчета от шкалы TA* к Sn в 25 Ян/К и часто используемой в публикациях ПРАО (см., например, Ашимбаева и др., 2022).
Поскольку измерения DR21 в спектральном режиме проводились нами неоднократно, начиная с 2019 г., для нас показалось необычным увидеть в июле 2023 г. на фоне континуума признаки линии (рис. 1), никогда не наблюдавшейся ранее. Хотя спектральная деталь оказалась максимально интенсивной 17 июля, анализ предыдущих записей показал, что слабые признаки ее присутствия стали появляться уже начиная с 14 июля. В частности, верхний спектр на рис. 1 показывает результат усреднений девяти ночных спектрограмм с 14 июля по начало ночи 16 июля, когда в каждой из записей линия достоверно была еще не видна. Типичное время накопления одной спектрограммы в режиме ON-ON составляло 4 мин. Все спектральные измерения, представленные в данной работе, проводились с разрешением 6.1 кГц по частоте, или 82.3 м/с по скорости. На рис. 1b, с приведены результаты измерений, когда присутствие линии уже не вызывало сомнений. Так как координаты DR21, использованные нами при наблюдениях, R.A.(2000) = 20h 39m 01s.2, Dec.(2000) = 42° 19ʹ 45ʺ, отличались на 184ʺ от известных координат мазера H2O в DR21OH R.A.(2000) = 20h 39m 00s.9, Dec.(2000) = 42° 22ʹ 49ʺ, то 17 июля мы навелись на DR21OH, обнаружив сильную линию на той же лучевой скорости в 7.8 км/с, что и в DR21. Это подтвердило предположение, что, наблюдая DR21, мы могли краем диаграммы направленности принять сигнал от DR21OH. Действительно, в предположении гауссовой формы основного лепестка диаграммы направленности с HPBW = 150ʺ при удалении от точечного источника на 184ʺ интенcивность сигнала составит 1.5%. Так как в максимуме излучения 17 июля яркость самой интенсивной линии, наблюдавшейся в DR21OH, была 40.8 К, или 1125 Ян, то при наведении на DR21 отклик в основном лепестке составит 17 Ян. Данная оценка наряду с совпадением лучевой скорости спектральной линии при измерениях DR21 подтверждает, что линия принадлежит DR21OH.
Тем не менее нужно заметить, что мазер H2O в DR21 в форме одиночной линии на лучевой скорости –6 км/с наблюдался 21.02.1977 на 100-м радиотелескопе в Эффельсберге (см. рис. 6 и рис. 11 в работе Гензель, Даунс, 1977), но, по-видимому, никогда позже.
Нужно отметить, что для всех оценок TA* в DR21, приведенных на рис. 1, каждое измерение было получено аппроксимацией полученных спектрограмм экспериментально измеренным 17.07.2023 г. профилем мазерной линии в DR21OH. При этом в методе наименьших квадратов в качестве свободных параметров выбирались смещение и амплитуда линии в максимуме и вычислялись соответствующие ошибки. Пример подобной аппроксимации приведен на рис. 1d. Хотя при измерениях 16 и 17 июля максимальная амплитуда мазерной линии на записях DR21 составляла 1.6% и 2.1% от значения в DR21OH, мы не можем с уверенностью утверждать, что в эти моменты линия была интенсивнее из-за наличия боковых лепестков (см. измеренную нами форму диаграммы РТ22 в Лапинов и др., 2019) и слишком больших шумов. Отметим, что оценки TA* в DR21 на основе смещения базовой линий из аппроксимации профилем мазерной линии либо простым исключением из подсчета спектральных интервалов, перечисленных в подписи под рис. 2, дали практически одинаковые результаты.
Рис. 2. Характер проявления спектральной линии H2O в полосе коррелятора во время вспышки мазера в DR21OH при измерениях непрерывного излучения в DR21. Красным цветом на нижнем графике показан пример аппроксимации методом наименьших квадратов усредненного спектра в DR21 за 16 и 17 июля 2023 г. вписыванием мазерной линии в DR21OH, измеренной 17 июля 2023 г.
ДИСКУССИЯ
Обращение к архивным данным РТ22 ПРАО показало, что обнаруженная в июле вспышка была в источнике в 2023 г. не единственной. На рис. 2 мы привели все измерения DR21OH за 2023 г. с января по сентябрь включительно. Каких-либо спектральных деталей за пределами полосы от –18 км/с до 28 км/с обнаружено не было. Из рисунка видно, что еще одна вспышка в источнике с TA* = 19.0 K (525 Ян) на лучевой скорости 18.8 км/с наблюдалась 30 марта.
Все спектры, приведенные на данном рисунке, были аппроксимированы нами методом наименьших квадратов набором гауссовых линий, чтобы найти скорости и амплитуды каждой из видимых компонент. Можно отметить, что и в случае вспышки 30.03.2023 г., и вспышки 17.07.2023 г. наиболее яркие детали не являются одиночными и создается впечатление, что с течением времени мощность из одной компоненты сначала плавно перетекает в соседнюю, а затем линии слабеют. Частично данный эффект отражен на рис. 3, где ромбы, закрашенные разным цветом, представляют самые интенсивные линии в интервалах лучевых скоростей [–12, 0] км/c (синим), [0, 4] км/c (зеленым), [4, 13] км/c (красным) и [13, 28] км/c (серым), внутри которых поведение мазерных компонент может рассматриваться обособленно от соседних. Продолжительность вспышки в июле от максимальной фазы до спадания к уровню в 30% составила 10 дней. Из рис. 2 и 3 видно, что мазерное излучение H2O в DR21OH, особенно в интервале [4, 28] км/c, обладает довольно непредсказуемым характером. Отметим, что в двух более ранних наблюдениях в Пущино с февраля 1981 г. по март 1993 г., где данный источник фигурирует как W75S (Лехт и др., 1995, 2001), мы вообще не нашли каких либо спектральных измерений за пределами полосы от –19 км/c до 8 км/c. Также мы не нашли никаких сильных деталей на скорости выше 6 км/c и в работах других авторов (Салливан., 1973; Гензель, Даунс, 1977; Чезарони и др., 1988). Три слабые мазерные линии на уровне нескольких Ян приведены в данном интервале скоростей на рис. 7 в работе Магнум и др. (1992).
Рис. 3. Поведение мазера H2O в DR21OH в 2023 г. Шкала справа в Ян соответствует Aeff = 100 м2, определенной по измерениям континуума в DR21, и соответствует чувствительности 27.6 Ян/К. Вертикальными линиями показаны интервалы лучевых скоростей [–12, 0] км/c (синим), [0, 4] км/c (зеленым), [4, 13] км/c (красным) и [13, 28] км/c (серым), внутри которых поведение мазерных компонент может рассматриваться обособленно от соседних.
Рис. 4. Зависимость от времени лучевой скорости отдельных мазерных компонент в 2023 г. в спектральных интервалах, указанных на рис. 2. Закрашенные ромбики соответствуют самым интенсивным компонентам
Отметим, что в период с 25 по 29 ноября 2023 г., когда было выделенно дополнительное время для измерений на РТ22 ПРАО, мы стали свидетелями третьей вспышки мазера H2O в DR21OH. Как и в двух предыдущих случаях, она произошла в диапазоне положительных лучевых скоростей, в котором, насколько нам известно, высокой активности раньше не наблюдалось. Удивительной особенностью стало то, что после вспышки в июле прошло примерно 4 мес, и примерно столько же отделяет июльскую вспышку от максимума излучения, зарегистрированного 30 марта. На этот раз вспышка характеризовалась появлением трех пар линий на скоростях в 3.6, 15.3 и 23.2 км/с с максимальными яркостями около 90, 400 и 200 Ян соответственно. Также вблизи –7 км/с наблюдалась линия интенсивностью около 200 Ян, неизменно присутствовавшая на протяжении всех предыдущих месяцев. Проведенные измерения по пяти точкам, отстоящим на 60ʺ по R.A. и Dec., показали однозначное совпадение всех мазерных компонент с координатами DR21OH. По результатам данных измерений сделан запрос на мониторинг источника коллаборацией M2O (http://www.masermonitoring.com) и измерений с высоким пространственным разрешением на VLA. Более детально результаты последних измерений, требующие дополнительного анализа, и выводы, касающиеся физических параметров источника, будут обсуждаться в последующих публикациях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных в 2023 г. измерений на 22 ГГц области звездообразования DR21OH обнаружена вспышка мазера H2O, спектральный поток мощности которой 17.07.2023 г. на скорости 7.8 км/с составил 1125 Ян, а спустя 10 дней уменьшился до 330 Ян. Дополнительная вспышка интенсивностью 525 Ян на VLSR = 18.8 км/с наблюдалась 30.03.2023 г. Третья, недавняя вспышка интенсивностью около 400 Ян наблюдалась в конце ноября. В силу довольно непредсказуемого характера мазерного излучения в данном источнике, представляется актуальным дальнейший мониторинг DR21OH, включая длиннобазовые интерферометрические измерения.
По измерениям континуума в DR21 выполнены оценки эффективной площади РТ22. Найдено, что Aeff = 100 м2 c 95% доверительным интервалом, учитывающим приведенные в литературе ошибки потока (Дент, 1972) в 4.4 м2.
Авторы выражают большую благодарность за помощь в проведении измерений всему техническому и обслуживающему персоналу РТ22 ПРАО.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-22-00227, https://rscf.ru/project/23-22-00227/.
About the authors
А. В. Лапинов
Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН
Author for correspondence.
Email: lapinov@ipfran.ru
Russian Federation, Нижний Новгород
А. М. Толмачёв
АКЦ ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН
Email: lapinov@ipfran.ru
Пущинская радиоастрономическая обсерватория
Russian Federation, ПущиноА. К. Киселёв
Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН; Мининский университет
Email: lapinov@ipfran.ru
Russian Federation, Нижний Новгород; Нижний Новгород
Н. И. Лапин
Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН; Мининский университет
Email: lapinov@ipfran.ru
Russian Federation, Нижний Новгород; Нижний Новгород
С. А. Лапинова
Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского; Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”
Email: lapinov@ipfran.ru
Russian Federation, Нижний Новгород; Нижний Новгород
И. А. Старцева
Мининский университет
Email: lapinov@ipfran.ru
Russian Federation, Нижний Новгород
А. С. Логинова
Мининский университет
Email: lapinov@ipfran.ru
Russian Federation, Нижний Новгород
References
- Ашимбаева Н.Т., Колом П., Краснов В.В., Лехт Е.Е., Пащенко М.И., Рудницкий Г.М., Толмачёв А.М., Астрон. журн. 97, 564 (2020).
- Ашимбаева Н.Т., Лехт Е.Е., Краснов В.В., Толмачёв А.М., Астрон. журн. 99, 1227 (2022).
- Большев Л.Н., Смирнов Н.В., Таблицы математической статистики (М.: Наука, 1983), 46 c.
- Вольвач и др. (A.E. Volvach, L.N. Volvach, and M.G. Larionov), Astron. Astrophys. 672, A182 (2023a).
- Вольвач и др. (A.E. Volvach, L.N. Volvach, and M.G. Larionov), MNRAS 522, L6 (2023b).
- Вольвач и др. (A.E. Volvach, L.N. Volvach, and M.G. Larionov), Astrophys. J. 955:10 (2023c).
- Вольвач и др. (L.N. Volvach, A.E. Volvach1, M.G. Larionov, G.C. MacLeod, S.P. van den Heever, P. Wolak, and M. Olech), MNRAS 482, L90 (2019).
- Гарден и др. (R.P. Garden, A.P.G. Russell, and M.G. Burton), Astrophys. J. 354, 232 (1990).
- Гарден и др. (R.P. Garden, T.R. Geballe, I. Gatley, and D. Nadeau), Astrophys. J. 366, 474 (1991).
- Гарден, Карлстрём (R.P. Garden and J.E. Carlstrom), Astrophys. J. 392, 602 (1992).
- Гензель, Даунс (R. Genzel and R. Downes), Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 30, 145 (1977).
- Гуди (C. Goudis), Astrophys. Space Sci. 39, L1 (1976).
- Даунс, Райнхарт (D. Downes and R Rinehart), Astrophys. J. 144, 937 (1966).
- Дент (W.A. Dent), Astrophys. J. 177, 93 (1972).
- Дикель, Вендкер (H.R. Dickel and H.J. Wendker), Astron. Astrophys. 66, 289 (1978).
- Дикель и др. (J.R. Dickel, H.R. Dickel, and W.J. Wilson), Astrophys. J. 223, 840 (1978).
- Добаши и др. (K. Dobashi, T. Shimoikura, S. Katarura, F. Nakamura, and Y. Shimajiri), Publ. Astron. Soc. Japan 71, S12 (2019).
- Дэвис, Смит (C.J. Davis and M.D. Smith), Astron. Astrophys. 310, 961 (1996).
- Ким и др (J.-S. Kim, S.-W. Kim, T. Kurayama, et al.), Astrophys. J. 767, 86 (2013).
- Колом и др. (P. Colom, N.T. Ashimbaeva, E.E. Lekht, M.I. Pashchenko, G.M Rudnitskij., V.V. Krasnov, and A.M. Tolmachev), MNRAS 507, 3285 (2021).
- Конникова В.К., Лехт Е.Е., Силантьев Н.А., Практическая радиоастрономия (М.: МГУ, 2011), 303 c.
- Куколич (S.G. Kukolich), J. Chem. Phys. 50, 3751 (1969).
- Кумар и др. (M.S.N. Kumar, C.J. Davis, J.M.C. Grave, B. Ferreira, and D. Froebrich), MNRAS 374, 54 (2007).
- Лапинов А.В., Толмачёв А.М., Лапин Н.И., Киселев А.К., Чалова А.В., Тр. XXIII науч. конф. по радиофизике, Н. Новгород, ННГУ, 151 (2019).
- Лехт и др. (E.E Lekht., J.E. Mendoza-Torres, and R.L. Sorochenko), Astrophys. J. 443, 222 (1995).
- Лехт и др. (E.E Lekht., N.A. Silant’ev, J.E. Mendoza-Torres, M.I. Pashchenko, and V.V. Krasnov), Astron. Astrophys. 337, 999 (2001).
- Лехт Е.Е., Слыш В.И., Краснов В.В., Астрон. журн. 86, 460 (2009).
- Магнум и др. (J.G. Mangum, A. Wootten, and L.G. Mundy), Astrophys. J. 388, 467 (1992).
- Миоши и др. (M. Miyoshi, J. Moran, J. Herrnstein, L. Greenhill, N. Nakai, P. Diamond, M. Makotonoue), Nature 373, 127 (1995).
- Пеше и др.(D.W. Pesce, J.A. Braatz, M.J. Reid, A.G. Riess, et al.), Astrophys. J. 891, L1 (2020).
- Рассел и др. (A.P.G. Russell, J. Bally, R. Padman, and R.E. Hills), Astrophys. J. 387, 219 (1992).
- Робертс и др. (D.A. Roberts, H.R. Dickel, and W.M. Goss), Astrophys. J. 476, 209 (1997).
- Рыгл и др. (K.L.J. Rygl, A. Brunthaler, A. Sanna, et al.), Astron. Astrophys. 539, A79 (2012).
- Салливан (W.T. Sullivan III), Astrophys. J. Suppl. Ser. 25, 393 (1973).
- Сурцис и др. (G. Surcis, W.H.T. Vlemmings, C. Goddi, et al.), Astron. Astrophys. 673, A10 (2023).
- Фернандес и др. (A.J.L. Fernandes, P.W.J.L Brand, and M.G. Burton), MNRAS 290, 216 (1997).
- Харрис (S. Harris), MNRAS 162, P5 (1973).
- Хирота и др. (T. Hirota, M. Tsuboi, Y. Kurono, K. Fujisawa, M. Honma, M.K. Kim, H. Imai, and Y. Yonekura), Publ. Astron. Soc. Japan 66, 106 (2014).
- Цыгановский и др. (C.J. Cyganowski, M.J. Reid, V.L. Fish, and P.T.P. Ho), Astrophys. J. 596, 344 (2003).
- Чезарони и др., 1988 (R. Cesaroni, F. Palagi, M. Felli, et. al.), Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 76, 445 (1988).
- Ченг и др. (A.C. Cheung,, D.M. Rank, C.H. Townes, D.D. Thornton, and W.J. Welch), Nature 221, 626 (1969).
- Чжан и др. (B. Zhang, M.J. Reid, K.M. Menten, X.W. Zheng, A. Brunthaler, T.M. Dame, and Y. Xu), Astrophys. J. 775, 79 (2013).
Supplementary files