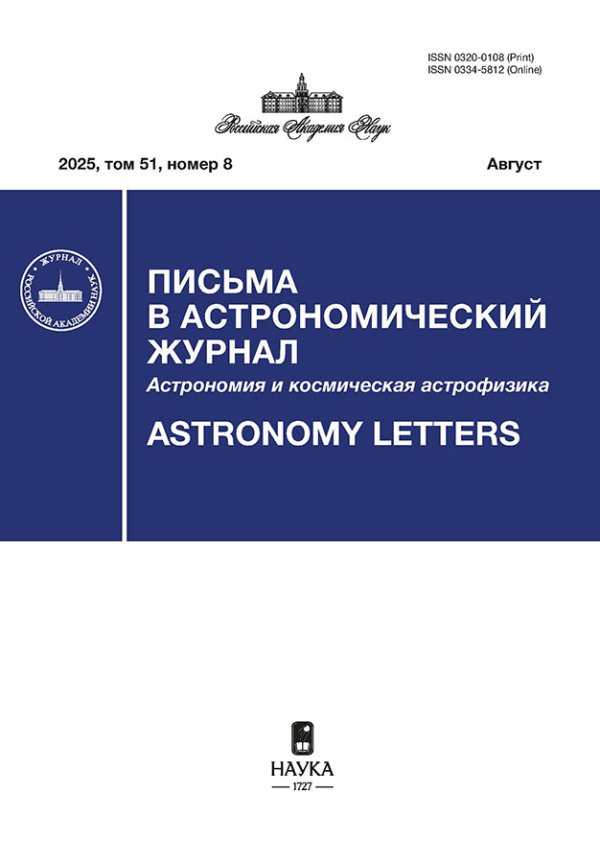Пути синтеза метилформиата на различных этапах звездообразования
- Authors: Кочина О.В.1, Вибе Д.З.1,2
-
Affiliations:
- Институт астрономии РАН
- Физический институт РАН им. П. Н. Лебедева
- Issue: Vol 50, No 1 (2024)
- Pages: 90-99
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-0108/article/view/266711
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320010824010073
- EDN: https://elibrary.ru/OQXPWX
- ID: 266711
Cite item
Full Text
Abstract
Представлено исследование основных реакций, определяющих содержание метилформиата в условиях маломассивного протозвездного объекта с нормальной и повышенной скоростью ионизации космическими лучами. Оценен вклад в газофазное содержание метилформиата пылевой химии, а также влияние на него изменения физических условий, сопровождающего переход от дозвездной фазы к протозвездной.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время надежно установлено, что в веществе молекулярных облаков в изобилии присутствуют сложные органические молекулы (согласно определению Хербста и Ван Дисхук (2009), в астрохимии сложными считаются молекулы, содержащие более пяти атомов). Первая такая молекула – метанол – была обнаружена Боллом и др. (1970). Сейчас полное количество известных межзвездных и околозвездных молекул превышает 250 (Макгуайр, 2022), и значительную их часть составляют сложные органические соединения.
Формирование органического компонента в молекулярных облаках и областях звездообразования происходит на фоне существенных изменений в физических условиях. Ранний этап образования звезд малых и промежуточных масс связывается с так называемыми дозвездными (или беззвездными) ядрами молекулярных облаков, имеющими массы порядка нескольких масс Солнца, температуры <10 K и концентрации порядка 105 – 106 см–3 (Бергин, Тафалла, 2007). Этот этап характеризуется вымерзанием большого количества молекул на поверхности космических пылинок с образованием ледяных мантий на них (Тафалла и др., 2002). Предполагается, что аналогичные объекты – предшественники массивных звезд – находятся в так называемых инфракрасных темных облаках, однако массивные дозвездные ядра пока исследованы в меньшей степени, чем их маломассивные аналоги (Ноуни и др., 2018; Редэлли и др., 2021; Барнес и др., 2023).
На дозвездном этапе важные химические процессы происходят в ледяных мантиях космических пылинок (Куппен и др., 2017), как на их поверхности, так и в толще, что подтверждается результатами наблюдений на космических телескопах, в частности, “Spitzer” и JWST (Бугерт и др., 2015; Макклюр и др., 2023). Общий характер поверхностных реакций зависит от того, в какой форме на пыль адсорбирует углерод. В темных ядрах он попадает в ледяные мантии в виде оксида углерода, и последующие реакции, в первую очередь связанные с добавлением водорода, углерода и других атомов, приводят к синтезу органических молекул, содержащих кислород (подробнее см. ниже). При наличии незначительной ультрафиолетовой засветки молекулы CO в газовой фазе диссоциируют, и углерод попадает на пыль в атомарной форме. Реакции присоединения атомов водорода превращают его в метан и другие бескислородные органические соединения (Сакаи, Ямамото, 2013).
Хотя в условиях темных дозвездных ядер (низкая температура, отсутствие интенсивного ультрафиолетового излучения) десорбция ледяных мантий должна быть неэффективной, наблюдения ряда продуктов поверхностного химического синтеза в газовой фазе указывают, что они все-таки могут каким-то образом попадать в газ из твердой фазы. Считается, что это связано с так называемой реактивной десорбцией (Гэррод и др., 2007), когда часть энергии, выделившейся в реакции, расходуется на отрыв продукта реакции от пылинки. Обычно бывает достаточно предположить, что доля продуктов поверхностных реакций, попадающая таким образом в газовую фазу, составляет несколько процентов.
Тепловая же десорбция усиливается, когда в центре ядра образуется протозвезда (или несколько протозвезд), которая начинает прогревать окружающее вещество. Образующийся при этом объект называется горячим ядром (Куртц и др., 2000; Гэррод, Видикус Вивер, 2013). Первоначально горячие ядра (hot cores) считались атрибутом формирования массивных звезд, но позже оказалось, что они возникают и вокруг протозвезд малой массы (Чечарелли и др., 2000; Казо и др., 2003). В последнем случае их часто называют горячими ядрышками (hot corinos). Для горячих ядер и ядрышек характерны концентрация порядка 107 см–3 и выше и температура порядка 100 K (Ван Дисхук, Блейк, 1998).
Изначально предполагалось, что за формирование всего разнообразия космических органических молекул в областях звездообразования отвечают реакции в газовой фазе (Смит, 1992), в которых важную роль играет ион CH3+. В частности, метанол в рамках этой схемы формируется в два этапа:
(1)
Однако в середине 2000-х годов выяснилось, что, по крайней мере, в отношении метанола приведенная газофазная схема не работает. Первая реакция в (1) является медленной реакцией радиативной ассоциации, а вторая – реакция диссоциативной рекомбинации – заканчивается формированием метанола только в 3% случаев. В остальных случаях диссоциация идет по другим каналам (Гепперт и др., 2006). Очевидно, что для метанола и для других сложных органических молекул (СОМ) необходимо искать другие пути синтеза.
Сейчас предполагается, что в синтезе СОМ важную роль играют упомянутые выше реакции в твердой фазе – на поверхностях и в ледяных мантиях космических пылинок (Хасегава и др., 1992), а также реакции в газовой фазе между реагентами, синтезированными на космических пылинках (Васюнин, Хербст, 2013). В частности, в производстве метанола ключевую роль играют реакции последовательной гидрогенизации адсорбированной молекулы CO (Тиленс, Хаген, 1982; Ватанабе, Кучи, 2002):
Это не единственная возможная цепочка. Например, последовательное присоединение радикалом s-HCO атомов кислорода и водорода приводит к формированию муравьиной кислоты s-HCOOH, последовательное присоединение этим же радикалом атома углерода и пяти атомов водорода приводит к синтезу этанола и т. п. (Хербст, Ван Дисхук, 2009). Одним из продуктов органического синтеза в адсорбированных мантиях космических пылинок может быть метилформиат – HCOOCH3 – представитель изомеров, имеющих общую формулу C2H4O2. В частности, он может образовываться в реакции (Гэррод, Хербст, 2006)
Эта реакция требует температуры пыли более 20 K, поскольку при более низких температурах (в дозвездных ядрах) реагенты не обладают подвижностью, достаточной для ее эффективного протекания. Однако она может быть важной на более поздней эволюционной стадии, когда газ и пылинки начинают нагреваться формирующейся протозвездой.
Космическая молекула метилформиата была впервые обнаружена в 1975 г. (Браун и др., 1975; Черчевелл, Винневиссер, 1975) и с тех пор регулярно детектируется как в протозвездных объектах, так и в дозвездных ядрах. В литературе рассматриваются различные варианты ее синтеза, включающие в себя как реакции на поверхностях пылинок или в ледяных мантиях, так и газофазные реакции. Первоначально появление метилформиата связывалось с эволюцией “горячих ядер”. В рамках этого сценария прогрев пылинок формирующейся звездой приводит к переходу метанола из ледяных мантий в газовую фазу с последующей реализацией цепочки реакций (см., например, Чарнли и др., 1992):
Однако обнаружение метилформиата и ряда других СОМ в холодных дозвездных ядрах (см., например, Бакманн и др., 2012) показало, что его формирование возможно и при низких температурах, ~10 K. Это означает, что существуют каналы синтеза СОМ на существенно более ранних этапах звездообразования, предшествующих этапу “горячих ядер”.
Возможный механизм был предложен в работе Балукани и др. (2015), авторы которой связали производство метилформиата с нейтраль-нейтральными реакциями. Обычно эти реакции считаются менее эффективными при низких температурах, чем ион-нейтральные реакции, однако экспериментальные данные показывают, что вероятность реакции повышается, если в ней участвуют относительно тяжелые радикалы. Балукани и др. (2015) высказали предположение, что образование метилформиата тесно связано с образованием диметилового эфира и происходит в следующей цепочке реакций (входящая в нее реакция образования диметилового эфира была предложена Васюниным и Хербстом (2013)):
Перечисленные реакции обладают относительно большими константами скоростей (2–3 × × 10–10 см3 с–1) даже при температуре порядка 10 К, однако и эта цепочка начинается с метанола, который должен синтезироваться в ледяных мантиях пылинок, а затем попадать в газовую фазу в результате действия какого-то нетеплового механизма десорбции. Следует отметить, что метанол может также образовываться в газовой фазе, в частности, в реакциях радикалов CH3O и CH2OH с водой, метаном и другими соединениями, но эти реакции характеризуются небольшими константами скоростей и (или) значительными активационными барьерами (Вакелам и др., 2015).
В целом, можно отметить, что образование метилформиата до сих пор представляет собой открытую проблему. Данная работа нацелена на исследование основных путей синтеза метилформиата в условиях маломассивного дозвездного ядра, маломассивного протозвездного ядра и молекулярного облака вблизи центра Галактики и выявление промежуточных компонентов химических цепочек, ведущих к его формированию.
МОДЕЛЬ
В работе использована PRESTA – одномерная модель для расчета химической эволюции сферически-симметричного облака, облучаемого как диффузным внешним ультрафиолетовым (УФ) излучением, так и центральным источником (протозвездой) с заданными параметрами (Кочина и др., 2013). Модельный объект разделен на концентрические слоевые ячейки, для каждой из которых индивидуально задаются температура и плотность. Интенсивность УФ-излучения вычисляется из значения интенсивности на границах и лучевой концентрации от данной ячейки до внешней или внутренней границы расчетной области. Ячейки не взаимодействуют и не обмениваются веществом друг с другом. Физические условия в ячейках задаются вручную, исходя из имеющихся наблюдательных данных, или рассчитываются с помощью модели переноса излучения NATALY (Павлюченков и др., 2012) для протозвездного объекта с заданными параметрами. В модели PRESTA есть также возможность учитывать эволюцию объекта, последовательно рассматривая стадии с различными значениями параметров каждой ячейки в заданные моменты времени.
Модель включает реакции с космическими лучами, двухчастичные реакции, фотореакции (в том числе с фотонами, индуцированными космическими лучами), реакции диссоциативной рекомбинации с электронами и заряженными и нейтральными пылинками, адсорбцию, десорбцию и химические реакции на поверхностях пылевых частиц. Следуя Гэрроду и др. (2007), мы предполагаем, что доля продуктов каждой поверхностной реакции не остается в мантии, а немедленно попадает в газовую фазу, т. е. учитываем реактивную десорбцию. В настоящей работе мы принимаем эту долю продуктов равной 5%. Также в расчете химической эволюции мы ограничиваемся двухфазным приближением, учитывая только процессы, происходящие на поверхностях пылинок, и пренебрегая наличием толщи мантии. Это значит, что все образовавшиеся либо адсорбированные на протяжении времени работы модели молекулы остаются участниками процессов поверхностной химии. Оценка изменений, вносимых с учетом вмороженности доли пылевых молекул в толщу мантии на содержание метилформиата и других СОМ, будет рассмотрена в отдельном исследовании. Химические уравнения интегрируются индивидуально в каждой ячейке до заданного возраста. PRESTA способна работать с разными наборами начального химического состава и разными сетками химических реакций, в том числе включающей дейтерированные соединения. Анализатор скоростей химических реакций позволяет определить основные пути образования и разрушения для заданных химических компонентов, оценивая таким образом влияние тех или иных процессов на химическую эволюцию объекта. В данном исследовании использована сетка химических реакций ALCHEMIC, введенная Семеновым и Вибе (2011), с модификациями, описанными Вибе и др. (2019). Сетка содержит, в частности, все газофазные реакции синтеза метилформиата и диметилового эфира, введенные Балукани и др. (2015), а также поверхностные реакции синтеза этих молекул.
Начальные содержания химических элементов относительно числа ядер водорода перечислены в табл. 1 и основаны на работе Ли и др. (1996). Элементный состав соответствует составу, использовавшемуся при успешном воспроизведении наблюдательных содержаний сложных молекул в областях образования как звезд малой массы (TMC-1), так и массивных звезд (DR21(OH)) (Кочина и др., 2013). Газофазное содержание металлов в выбранной нами модели невысоко, так как мы считаем, что основная часть их атомов связана в пылинках и в химической эволюции не участвует. Таким образом, элементный состав является низкометалличным (Гредель и др., 1982). Результатами работы PRESTA являются как радиальные распределения компонентов в заданные моменты времени, так и их лучевые концентрации в направлении на центр объекта.
Таблица 1. Начальные содержания химических элементов относительно числа ядер водорода, использованные при моделировании
Компонент | Содержание |
H | 1(–5) |
H2 | 0.499995 |
He | 0.09 |
C | 7.3(–5) |
N | 2.14(–5) |
O | 1.76(–4) |
Na | 2(–9) |
Mg | 7(–9) |
Si | 8(–9) |
P | 2(–10) |
S | 8(–8) |
Cl | 1(–9) |
Fe | 3(–9) |
Примечание. Запись a(b) означает a × 10b.
Модельные физические условия
Мы моделировали химическую эволюцию молекулярного объекта, который на протяжении 3 × 105 лет имеет характеристики, типичные для дозвездного ядра. Затем в его центре появляется протозвезда с эффективной температурой 5000 К и радиусом 10R⊙. Этот этап соответствует так называемому “горячему ядрышку” (hot corino, маломассивный аналог “горячего ядра”). Распределения плотности и температуры как холодного ядра, так и протозвездного объекта рассчитаны программой NATALY и представлены на рис. 1. Следует заметить, что распределение плотности одинаково для обеих фаз и считается постоянным. Температурные структуры также являются неизменными, каждая для своей фазы. Температуры газа и пыли считаются равными. Межзвездное поле излучения моделируется как дилютированное чернотельное излучение с температурой 20 000 K и фактором дилюции 1 × 10–16, что соответствует полю излучения в окрестностях Солнца. Скорость ионизации космическими лучами в модели маломассивного протозвездного объекта принята равной 1.3 × 10–17. В модели объекта, близкого к центральной части Галактики, для скорости ионизации приняты бо́льшие значения – ζ = 1.3 × 10–15 с–1 на стадии темного дозвездного ядра и 1.3 × 10–14 с–1 на стадии с прогревом. Увеличенные значения ζ (порядка 10–15 с–1 с кратковременными повышениями до 10–13 с–1) неоднократно предлагались для объяснения молекулярного состава этой области (Индриоло и др., 2015; Бонфан и др., 2019; Ванг и др., 2021; Санта-Мария, Гойкоечея, 2022).
Рис. 1. Распределения плотности и температуры на стадиях дозвездного ядра и протозвездного объекта.
Синтез метилформиата в типичном протозвездном объекте
Результаты расчетов эволюции лучевых концентраций метилформиата, диметилового эфира и гликольальдегида до возраста 106 лет представлены на рис. 2. На рис. 3 представлены их радиальные распределения для моментов времени, выбранных так, чтобы кривые отражали главные тенденции, характерные для своей стадии: стадии дозвездного ядра (150 тыс. лет), начальной стадии фазы горячего ядрышка (500 тыс. лет) и поздней (850 тыс. лет). Анализатор скоростей реакций позволил выявить основные реакции образования и разрушения метилформиата.
Рис. 2. Эволюция лучевых концентраций метилформиата, диметилового эфира и гликольальдегида в модели маломассивного дозвездного ядра. Красная вертикальная линия отмечает начало фазы протозвезды.
Рис. 3. Радиальные профили содержания метилформиата, диметилового эфира и гликольальдегида в модели маломассивного дозвездного ядра на моменты времени 150 тыс. лет (черные линии), 500 тыс. лет (синие линии) и 850 тыс. лет (красные линии).
Основные реакции образования метилформиата на первом шаге эволюции в холодном плотном облаке таковы:
Доминирующей является реакция CH3OCH2 с кислородом: ее скорость на несколько порядков превышает скорости реакций, занимающих второе и последующие места. Молекула CH3OCH2 имеет преимущественно газофазное происхождение, образуясь в результате реакций галогенов (F, Cl и более простых соединений OH, CH3) с молекулой CH3OCH3, например,
Темп испарения CH3OCH2 с пыли невелик, даже с учетом реактивной десорбции. Эта молекула более эффективно осаждается на пыль, т. е. постепенно вымерзает.
За реакцией с кислородом по эффективности образования метилформиата следуют реакции диссоциативной рекомбинации иона со свободными электронами или нейтральными и отрицательно заряженными пылинками. Однако этот же ион является продуктом процессов разрушения метилформиата, например:
Так что эти реакции являются частью цикла взаимных превращений, и содержания их реагентов в холодной оболочке дозвездного ядра находятся в некотором балансе. Итоговое влияние этих реакций на содержание метилформиата невелико.
Реакции с HCOOCH2 малоэффективны по сравнению с основным каналом, однако также вносят свой вклад в пополнение содержания метилформиата. Радикал HCOOCH2 образуется только на пыли. Газофазная реакция его образования путем взаимодействия прекурсора с ионом гелия слишком неэффективна, чтобы принимать ее во внимание. В газе HCOOCH2 только разрушается, потому содержание этого радикала и, как следствие, эффективность реакций с ним зависят от скорости испарения ледяных мантий, потому на первом (“темном”) шаге эволюции вклад реакций с HCOOCH2 в синтез метилформиата пренебрежимо мал.
Разрушается метилформиат также преимущественно в газе. Основные реакции его разрушения – это реакции с ионами H3+, C+, He+, H+, H3O+, а в некоторые моменты времени также реакции с ионами HCO+, H2CN+. Ряд реакций разрушения приводит к образованию иона который вносит незначительный вклад в образование метилформиата (см. выше). В числе реакций, приводящих к убыли содержания метилформиата, присутствует и адсорбция на пылинки, тогда как обратный процесс десорбции с пылинок на стадии холодного дозвездного ядра малоэффективен из-за низкой температуры пыли.
Переход к фазе “горячего ядрышка” с точки зрения различий, вносимых в физические условия, характеризуется прежде всего изменением температуры газа, а следовательно, и пыли, так как в нашей модели мы принимаем их температуры равными. Нагрев отдельных пылинок ожидаемо приводит к усилению испарения ледяных мантий и выбросу в газовую фазу компонентов, которые либо образовались на поверхности, либо вымерзали, накапливаясь на пылинках. Так в числе основных реакций формирования метилформиата появляется реакция его испарения с пыли. Появляется она не везде, а только в регионах, достаточно прогретых излучением молодой протозвезды, температура в которых достигает 100 и более К. Реакция десорбции доминирует только на самых близких радиусах, опережая основную газофазную реакцию CH3OCH2 + O на два-три порядка. Однако по мере отдаления от источника прогрева разрыв быстро сокращается: когда температура падает ниже 100 К, эффективность реакции десорбции постепенно уменьшается, и основная газофазная реакция возвращается на первое место. Десорбция с пыли становится еще менее значимой по мере приближения к холодным регионам оболочки, переходя на третье и четвертое место с отставанием на порядки и вовсе исчезая из списка самых эффективных реакций, когда температура среды падает до 60 К и ниже. В более холодных регионах, не затронутых прогревом, где температура опускается ниже 60 К, химическая эволюция аналогична характерной для фазы темного дозвездного ядра, описанной выше.
Неожиданный эффект доминирования газофазной реакции CH3OCH2 + O над реакцией испарения с пыли в качестве основного механизма образования метилформиата даже в условиях, способствующих активному испарению мантий, объясняется тем, что эта реакция также опосредованно зависит от тепловой десорбции.
Основной путь образования молекулы CH3OCH2 – реакция взаимодействия молекулы CH3OCH3 с простыми молекулами или атомами (такими как Cl, F, OH, CH3), приводящая к ее разрушению. Молекула CH3OCH3 в темном дозвездном ядре имеет в основном газофазное происхождение:
однако при переходе к фазе горячего ядрышка начинается ее активное испарение из мантий. Скорость испарения из мантий (число реакций в единицу времени) превосходит основную газофазную реакцию на порядки: разница достигает 15 порядков в горячих (более 100 К) и плотных (более 106 см–3) областях (ближайших к протозвезде), медленно спадая по мере понижения температуры. Только на внешней границе оболочки, в областях холодных и разреженных (температура ниже 35 К, плотность ниже 2.5 × 105 см–3) газофазная реакция достигает равенства с десорбцией и начинает доминировать. Учитывая пылевое происхождение основного прекурсора CH3OCH2, можно понять и необычное доминирование газофазной реакции образования метилформиата над его непосредственным испарением. Подобное относится и к другой группе доминирующих газофазных реакций: с молекулой HCOOCH2, непосредственно имеющей пылевое происхождение и превосходящей в холодных регионах по эффективности реакцию испарения метилформиата с пыли.
Если обратиться к более далеким прекурсорам метилформиата, то следует обратить внимание на уже упомянутый метокси-радикал CH3O. Его происхождение, согласно нашей модели, также в основном газофазное. Однако основной канал образования CH3O – реакция гидроксила c метанолом:
который оказывается в газовой фазе в основном благодаря испарению с поверхности пылинок. Это также делает синтез метилформиата зависимым от пылевой химии. Второе по значимости место в синтезе метокси-радикала делят газофазные реакции диссоциативной рекомбинации ионов и с пылинками и электронами, а также реакция молекулы CH3OCH2 с атомом водорода, приводящая к образованию метокси-радикала CH3O и метила CH3. Реакции испарения с пылинок для этого радикала оказываются значимыми только в регионах с температурой 90 К и выше.
Синтез метилформиата в объектах, подобных Sgr B2
Одной из ключевых локаций для поиска СОМ является молекулярное облако Sgr B2 (“Large Molecular Heimat”) в окрестности центра Галактики. Как уже отмечалось выше, для симуляции условий в этом объекте мы повторили расчеты со скоростью ионизации космическими лучами ζ1.3 × 10–15 с–1 на стадии темного дозвездного ядра и 1.3 × 10–14 с–1 на фазе “горячего ядрышка”. Результаты расчетов эволюции метилформиата до возраста 106 лет в регионе, близком к центру Галактики, представлены на рис. 4 (лучевые концентрации) и рис. 5. Для демонстрации различий, привносимых изменением скорости ионизации космическими лучами, радиальные распределения на рис. 5 приведены в те же моменты времени, что и на рис. 3.
Рис. 4. Эволюция лучевых концентраций метилформиата, диметилового эфира и гликольальдегида в модели с повышенной скоростью ионизации космическими лучами. Красная вертикальная линия отмечает начало фазы протозвезды.
Рис. 5. Радиальные профили содержания метилформиата, диметилового эфира и гликольальдегида в модели с повышенной скоростью ионизации космическими лучами на моменты времени 150 тыс. лет (черные линии), 500 тыс. лет (синие линии) и 850 тыс. лет (красные линии).
Усиление скорости ионизации космическими лучами на стадии холодного дозвездного облака привело к увеличению концентрации метилформиата, однако с появлением протозвезды она уменьшается по сравнению с условиями на солнечном радиусе. Так, на стадии “горячего ядрышка” испарение мантий практически не присутствует в числе основных путей образования метилформиата. Оно становится доминирующим только на ближайшем расстоянии от протозвезды, однако по мере удаления от центра объекта уходит на второе-третье место, уступая более эффективным реакциям с ионом .
Основные реакции разрушения метилформиата – также с ионами. Ближе к средним регионам облака главенство возвращается к газофазной реакции CH3OCH2 + O, которая лидирует в эффективности с разницей в несколько порядков. В реакциях разрушения в качестве основной причины убыли метилформиата из газа появляется осаждение на пыль. Но такая картина, в целом совпадающая с механизмами эволюции в окрестностях Солнца, наблюдается только в темных регионах объекта. По мере приближения к его внешнему краю возвращаются на первое место реакции с ионами: газофазная реакция CH3OCH2 + O уходит на третье место, уступая им в эффективности на пять порядков. Основные реакции разрушения – также преимущественно реакции с простыми ионами (, He+, H+, H3O+, (HCO+).
Усиление реакций с ионами в области с более эффективными процессами ионизации очевидно, однако сокращение вклада испарения пыли может иметь разные причины. Одна из наиболее вероятных – отсутствие осаждения на пыль в числе наиболее эффективных. Вероятно, ионы разрушали метилформиат так, что молекул, доступных для вымерзания, уже не оставалось. С другой стороны, формирование метилформиата как непосредственно, так и опосредованно также в значительной степени обеспечивалось ионами, что может объяснить увеличение его содержания в газовой фазе на момент вспышки горячего ядрышка по сравнению с условиями в окрестностях Солнца. Однако отсутствие притока молекул с пыли в конечном итоге привело к заметному падению ее газофазного содержания (на несколько порядков) в регионе, близком к центру Галактики, по сравнению c солнечной окрестностью: тенденция роста содержания метилформиата в газе сменилась тенденцией к спаду.
ОБСУЖДЕНИЕ
Впервые метилформиат был обнаружен в объекте Sgr B2 (Браун и др., 1975) с оцененной лучевой концентрацией ~1013 см–2. Позже он неоднократно наблюдался в объектах различной массы и эволюционного статуса. Зу и др. (2019) нашли для лучевых концентраций изомеров C2H4O2 в этом же объекте гораздо более высокие значения, порядка 1015—1016 см–2, однако они, во-первых, исследовали отдельные плотные ядра с центральной плотностью до 109 см–3, а во-вторых, отметили высокую степень неоднородности и несовпадения в распределениях исследованных изомеров C2H4O2 – метилформиата, гликольальдегида и уксусной кислоты. Подобные и даже бо́льшие значения лучевой концентрации метилформиата были найдены в областях образования массивных звезд в работах Колетта и др. (2020) и Чен и др. (2023). О высоких содержаниях изомеров C2H4O2 с преобладанием метилформиата (относительное содержание ~2 × 10–7) в области образования массивных звезд G31.41+0.31 сообщалось в работе Мининни и др. (2020).
Содержание метилформиата и родственных молекул в областях образования маломассивных звезд не столь значительно. Первоначально удавалось измерить только верхние пределы (Рекуена-Торрес и др., 2007). Впервые об уверенном обнаружении метилформиата в холодном беззвездном ядре сообщили Бакманн и др. (2012). Оцененные ими лучевые концентрации составили ~1012–1013 см–3. В TMC-1 лучевые концентрации метилформиата порядка 1012 см–2 были обнаружены в работах Сома и др. (2018) и Агундеса и др. (2021).
Эти небольшие значения тем не менее привели к пересмотру основных механизмов синтеза СОМ в дозвездных и протозвездных объектах. Если большое газофазное содержание метилформиата в “горячих ядрах” и “горячих ядрышках” можно объяснить его синтезом в ледяных мантиях пылинок и их последующим испарением (Гэррод, Хербст, 2006), то в холодных объектах мы вынуждены либо предполагать нереалистично высокие значения реактивной десорбции (порядка 10%), либо искать газофазные механизмы синтеза метилформиата и других родственных молекул. Возможные газофазные реакции были предложены Васюниным и Хербстом (2013) и Балукани и др. (2015).
Недавно механизмы образования метилформиата и диметилового эфира в условиях, характерных для межзвездной среды, были подробно рассмотрены Комацу и Фуруя (2023). В качестве основного механизма они выделили реакцию
основным поставщиком CH3OCH2 для которой является разрушение молекулы CH3OCH3 при взаимодействии с галогенами (F, Cl). В использованной нами сетке реакций это предположение подтверждается. Однако также они указали, что нетепловая десорбция HCOOCH3 с пыли может превосходить газофазное происхождение, что в нашем исследовании не подтвердилось.
Еще один вероятный путь образования метилформиата предложен Комацу и Фуруя (2023) с оговоркой, что эта реакция скорее будет протекать в горячих ядрышках (и ядрах), чем в дозвездных ядрах:
однако в наших расчетах эта реакция не проявила себя в качестве одной из основных. Вместо нее в число основных реакций для “горячего ядрышка” попали реакции с HCOOCH2, о которых Комацу и Фуруя (2023) не упоминали, как и о реакциях с ионом .
Несмотря на то, что наша сетка включает в себя как газофазные реакции синтеза метилформиата, в частности, предложенные Васюниным и Хербстом (2013), так и реакции на поверхности пылевых частиц, модельные лучевые концентрации этой молекулы, NMF, оказываются несколько меньше наблюдаемых (напомним, что мы рассматриваем только маломассивные объекты). Из рис. 2 следует, что расчетные значения NMF не превышают 1011 см–2. Они могут быть увеличены за счет принятия несколько более высокого значения для скорости ионизации космическими лучами (рис. 3). Тем не менее, очевидно, что, по крайней мере, в нашей модели какие-то важные реакции синтеза метилформиата до сих пор отсутствуют. Они могут, например, быть связаны с реакциями в ледяных мантиях пылинок, вызванными проникновением частиц высоких энергий. Их включение в модель будет одним из следующих этапов ее развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассмотрены основные реакции, определяющие пути формирования и разрушения метилформиата в условиях маломассивного протозвездного объекта и в условиях с повышенной скоростью ионизации космическими лучами. Подтверждено, что несмотря на прямое газофазное происхождение метилформиата, в значительной степени его содержание определяется компонентами, имеющими пылевое происхождение, такими как CH3OCH3 и HCOOCH2, вклад которых становится заметным в условиях перехода от дозвездной фазы к протозвездной, когда повышение температуры приводит к испарению пылевых мантий. Вторым важным фактором, оказывающим влияние на содержание метилформиата, является скорость ионизации космическими лучами, рост которой усиливает вклад реакций с ионами, приводящим к более активному разрушению метилформиата в газе. Помимо реакций, выявленных другими авторами, мы обращаем внимание также на реакции с HCOOCH2:
и
которые в нашей модели оказались важными факторами, влияющими на содержание метилформиата.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Исследования в Физическом институте им. П. Н. Лебедева поддержаны грантом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 075-15-2021-597.
About the authors
О. В. Кочина
Институт астрономии РАН
Email: dwiebe@inasan.ru
Russian Federation, Москва
Д. З. Вибе
Институт астрономии РАН; Физический институт РАН им. П. Н. Лебедева
Author for correspondence.
Email: dwiebe@inasan.ru
Самарский филиал
Russian Federation, Москва; СамараReferences
- Агундес и др. (M. Agúndez, N. Marcelino, B. Tercero, C. Cabezas, P. de Vicente, and J. Cernicharo), Astron. Astrophys. 649, L4 (2021).
- Бакманн и др. (A. Bacmann, V. Taquet, A. Faure, C. Kahane, and C. Ceccarelli), Astron. Astrophys. 541, L12 (2012).
- Балукани и др. (N. Balucani, C. Ceccarelli, and V. Taquet), MNRAS 449, L16 (2015).
- Барнес и др. (A.T. Barnes, J. Liu, Q. Zhang, J.C. Tan, F. Bigiel, P. Caselli, G. Cosentino, F. Fontani, et al.), Astron. Astrophys. 675, A53 (2023).
- Бергин, Тафалла (E.A. Bergin and M. Tafalla), Ann. Rev. Astron. Astrophys. 45 (1), 339 (2007).
- Болл и др. (J.A. Ball, C.A. Gottlieb, A.E. Lilley, and H.E. Radford), Astrophys. J. 162, L203 (1970).
- Бонфан и др. (M. Bonfand, A. Belloche, R.T. Garrod, K.M. Menten, E. Willis, G. Stephan, and H.S.P. Muller), Astron. Astrophys. 628, A27 (2019).
- Браун и др. (R.D. Brown, J.G. Crofts, F.F. Gardner, P.D. Godfrey, B.J. Robinson, and J.B. Whiteoak), Astrophys. J. 197, L29 (1975).
- Бугерт и др. (A.C.A. Boogert, P.A. Gerakines, and D.C.B. Whittet), Ann. Rev. Astron. Astrophys. 53, 541 (2015).
- Вакелам и др. (V. Wakelam, J.C. Loison, E. Herbst, B. Pavone, A. Bergeat, K. Beroff, M. Chabot, A. Faure, et al.), Astrophys. J. Suppl. Ser. 217, 20 (2015).
- Ван Дисхук, Блейк (E.F. van Dishoeck and G.A. Blake), Ann. Rev. Astron. Astrophys. 36, 317 (1998).
- Ванг и др. (Y. Wang, F. Du, D. Semenov, H. Wang, and J. Li), Astron. Astrophys. 648, A72 (2021).
- Васюнин, Хербст (A.I. Vasyunin and E. Herbst), Astrophys. J. 769, 34 (2013).
- Ватанабе, Кучи (N. Watanabe and A. Kouchi), Astrophys. J. 571, L173 (2002).
- Вибе и др. (D.S. Wiebe, T.S. Molyarova, V.V. Akimkin, E.I. Vorobyov, and D.A. Semenov), MNRAS 485, 1843 (2019).
- Гепперт и др. (W.D. Geppert, M. Hamberg, R.D. Thomas, F. Osterdahl, F. Hellberg, V. Zhaunerchyk, A. Ehlerding, T.J. Millar, et al.), Faraday Discussions 133, 177 (2006).
- Гредель и др. (T.E. Graedel, W.D. Langer, and M.A. Frerking), Astrophys. J. Suppl. Ser. 48, 321 (1982).
- Гэррод, Видикус Вивер (R.T. Garrod and S.L. Widicus Weaver), Chemic. Rev. 113, 8939 (2013).
- Гэррод, Хербст (R.T. Garrod and E. Herbst), Astron. Astrophys. 457, 927 (2006).
- Гэррод и др. (R.T. Garrod, V. Wakelam, and E. Herbst), Astron. Astrophys. 467, 1103 (2007).
- Зу и др. (C. Xue, A.J. Remijan, A.M. Burkhardt, and E. Herbst), Astrophys. J. 871, 112 (2019).
- Индриоло и др. (N. Indriolo, D.A. Neufeld, M. Gerin, P. Schilke, A.O. Benz, B. Winkel, K.M. Menten, E.T. Chambers, et al.), Astrophys. J. 800, 40 (2015).
- Казо и др. (S. Cazaux, A.G.G.M. Tielens, C. Ceccarelli, A. Castets, V. Wakelam, E. Caux, B. Parise, and D. Teyssier), Astrophys. J. 593, L51 (2003).
- Колетта и др. (A. Coletta, F. Fontani, V.M. Rivilla, C. Mininni, L. Colzi, A. Sanchez-Monge, and M.T. Beltran), Astron. Astrophys. 641, A54 (2020).
- Комацу, Фуруя (Y. Komatsu and K. Furuya), ACS Earth and Space Chemistry 7, 1753 (2023).
- Кочина О.В., Вибе Д.З., Каленский С.В., Васюнин А.И., Астрон. журн. 90, 892 (2013) [O.V. Kochina, D.S. Wiebe, S.V. Kalenskii, and A.I. Vasyunin, Astron. Rep. 57, 818 (2013)].
- Куппен и др. (H.M. Cuppen, C. Walsh, T. Lamberts, D. Semenov, R.T. Garrod, E.M. Penteado, and S. Ioppolo), Space Sci. Rev. 212, 1 (2017).
- Куртц и др. (S. Kurtz, R. Cesaroni, E. Churchwell, et al.), in V. Mannings, A.P. Boss, and S.S. Russell (eds.), Protostars and Planets IV, P. 299 (2000).
- Ли и др. (H.H. Lee, E. Herbst, G. Pineau des Forets, E. Roueff, and J. Le Bourlot), Astron. Astrophys. 311, 690 (1996).
- Макгуайр (B.A. McGuire), Astrophys. J. Suppl. Ser. 259, 30 (2022).
- Макклюр и др. (M.K. McClure, W.R.M. Rocha, K.M. Pontoppidan, N. Crouzet, L. E.U. Chu, E. Dartois, T. Lamberts, J.A. Noble, et al.), Nature Astron. 7, 431 (2023).
- Мининни и др. (C. Mininni, M.T. Beltrán, V.M. Rivilla, A. Sanchez-Monge, F. Fontani, T. Müller, R. Cesaroni, P. Schilke, et al.), Astron. Astrophys. 644, A84 (2020).
- Ноуни и др. (T. Nony, F. Louvet, F. Motte, J. Molet, K. Marsh, E. Chapillon, A. Gusdorf, N. Brouillet, et al.), Astron. Astrophys. 618, L5 (2018).
- Павлюченков и др. (Y.N. Pavlyuchenkov, D.S. Wiebe, V.V. Akimkin, M.S. Khramtsova, and Th. Henning), MNRAS 421, 2430 (2012).
- Редэлли и др. (E. Redaelli, S. Bovino, A. Giannetti, G. Sabatini, P. Caselli, F. Wyrowski, D.R. G. Schleicher, and D. Colombo), Astron. Astrophys. 650, A202 (2021).
- Рекуена-Торрес и др. (M.A. Requena-Torres, N. Marcelino, I. Jiménez-Serra, J. Martin-Pintado, S. Martin, and R. Mauersberger), Astrophys. J. 655, L37 (2007).
- Сакаи, Ямамото (N. Sakai and S. Yamamoto), Chemic. Rev. 113, 8981 (2013).
- Санта-Мария, Гойкоечея (M.G. Santa-Maria and J.R. Goicoechea), Europ. Phys. J. Web Conf. 265, 00017 (2022).
- Семенов, Вибе (D. Semenov and D. Wiebe), Astrophys. J. Suppl. Ser. 196, 25 (2011).
- Смит (D. Smith), Plasma Physics and Controlled Fusion 34, 1817 (1992).
- Сома и др. (T. Soma, N. Sakai, Y. Watanabe, and S. Yamamoto), Astrophys. J. 854, 116 (2018).
- Тафалла и др. (M. Tafalla, P.C. Myers, P. Caselli, C.M. Walmsley, and C. Comito), Astrophys. J. 569, 815 (2002).
- Тиленс, Хаген (A.G.G.M. Tielens and W. Hagen), Astron. Astrophys. 114, 245 (1982).
- Хасегава и др. (T.I. Hasegawa, E. Herbst, and C.M. Leung), Astrophys. J. Suppl. Ser. 82, 167 (1992).
- Хербст, Ван Дисхук (E. Herbst and E.F. van Dishoeck), Ann. Rev. Astron. Astrophys. 47, 427 (2009).
- Чарнли и др. (S.B. Charnley, A.G.G.M. Tielens, and T.J. Millar), Astrophys. J. 399, L71 (1992).
- Чен и др. (Y. Chen, M.L. van Gelder, P. Nazari, C.L. Brogan, E.F. van Dishoeck, H. Linnartz, J.K. Jorgensen, T.R. Hunter, et al.), Astron. Astrophys. 678, A137 (2023).
- Черчевелл, Винневиссер (E. Churchwell and G. Winnewisser), Astron. Astrophys. 45, 229 (1975).
- Чечарелли и др. (C. Ceccarelli, L. Loinard, A. Castets, A.G.G.M. Tielens, and E. Caux), Astron. Astrophys. 357, L9 (2000).
Supplementary files