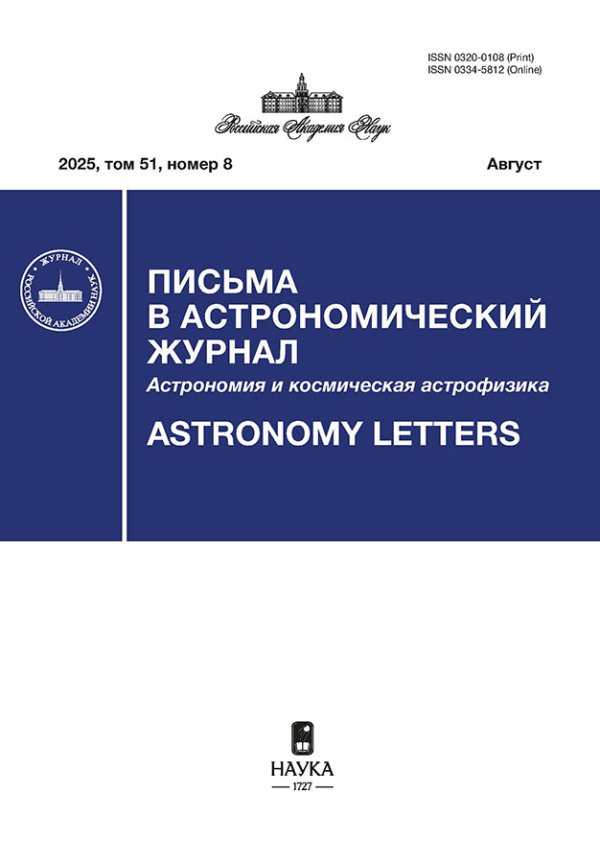Перспективы измерения пост-ньютоновского параметра γ с помощью двух спутников, оснащенных высокостабильными атомными часами
- Authors: Литвинов Д.А.1
-
Affiliations:
- Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
- Issue: Vol 50, No 4 (2024)
- Pages: 253-260
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-0108/article/view/268793
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320010824040016
- EDN: https://elibrary.ru/NRWAWK
- ID: 268793
Cite item
Full Text
Abstract
Исследована возможность экспериментального определения ППН-параметра γ путем измерения смещения частоты сигналов, которыми обмениваются два оснащенных высокостабильными часами спутника на околоземных и околосолнечных орбитах. Показано, что при использовании современных оптических часов точность эксперимента, реализованного согласно предложенной концепции, может достичь 1.4 × 10–8, что на 3 порядка превосходит лучший на сегодня результат эксперимента с межпланетным зондом Cassini.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Поиск отклонений от предсказаний общей теории относительности (ОТО) является предметом активного теоретического и экспериментального исследования (Альтшуль и др., 2015; 2017; Уилл, 2018; Литвинов, Пилипенко, 2021; Деревянко и др., 2022; Эбботт и др., 2022). Несмотря на огромные успехи ОТО в предсказании черных дыр, гравитационного излучения, крупномасштабной структуры Вселенной и др., она, по общему мнению, не может являться окончательной теорией гравитации. Основой для такой уверенности является то, что, помимо ряда внутренних противоречий (например, неустранимых сингулярностей), ОТО является классической, а не квантовой теорией. Попытки квантования ОТО и построения альтернативных теорий гравитации (Аарони и др., 2000; Сотириу, Фараони, 2010; Уилл, 2018; Аштекар, Бьянки, 2021) приводят к отклонениям от предсказаний ОТО, часть из которых может наблюдаться в низкоэнергетической области.
Для случая слабых гравитационных полей и медленных движений удобным средством феноменологического описания подобных отклонений в рамках класса метрических теорий гравитации является параметризованный пост-ньютоновский (ППН) формализм Эддингтона–Нордтведта–Уилла (Уилл, 2018). Одним из важнейших параметров данной модели является γ, характеризующий задержку и искривление траектории распространения электромагнитных сигналов в гравитационном поле. Экспериментальное обнаружение отклонений от предсказываемого ОТО значения γ=1 является одним из перспективных способов найти указания на структуру более фундаментальной, чем ОТО, теории гравитации, которая, возможно, объединяет и все остальные известные типы взаимодействий. Существуют теории, в которых предсказывается отклонение γ от 1 на уровне – 10-5-10-7 (Дамур и др., 2002).
Наиболее точные на сегодня экспериментальные результаты по определению значения ППН-параметра γ были получены путем измерения эффектов отклонения луча в гравитационном поле, (Ламберт, Ле Понсен-Лафитт, 2011), и гравитационной задержки, (Бертотти и др., 2003). Благодаря прогрессу в технике создания атомных часов появляется возможность для нового способа измерения γ – путем измерения смещения частоты сигналов, которыми обмениваются два снабженных высокостабильными часами наблюдателя (например, два космических аппарата). Параметры точности и стабильности частоты современных атомных часов достигли величины для бортовых микроволновых стандартов (Хесс и др., 2011; Шень и др., 2023), для бортовых оптических (Шень и др., 2023) и – для лабораторных оптических (Ботвелл и др., 2019; Ким и др., 2023) (на временах усреднения ~1 ч). Имеются многообещающие результаты работы по созданию бортовых оптических часов со стабильностью (Орилья и др., 2018). В космических экспериментах в околоземном и, тем более, околосолнечном пространстве часы с такими параметрами позволяют измерять вклады в сдвиг частоты эффектов порядка , где – скорость спутника, – скорость света, – гравитационный потенциал (далее, для краткости, такие эффекты будем обозначать ). Так, для спутника на околоземной орбите , ; на околосолнечной орбите с перигелием а.е.: , . В этом порядке разложения сдвига частоты по уже проявляются эффекты, пропорциональные , что открывает возможность для высокоточного измерения данного параметра. При распространении луча света вблизи источника гравитационного поля (скользящий луч), величина данных эффектов дополнительно увеличивается за счет т.н. “расширенных” факторов (см. ниже, а также работу Эшби, Бертотти, 2010), благодаря которым для околоземных спутников смещение частоты, пропорциональное , может достигать , а околосолнечных – .
Настоящая работа посвящена исследованию вопроса о достижимой точности экспериментального определения значения γ путем измерения гравитационного смещения частоты сигналов, которыми обмениваются два спутника, движущиеся по околоземным и околосолнечным орбитам. Основным преимуществом эксперимента с двумя спутниками, обменивающимися сигналами друг с другом, по сравнению со схемой с одним спутником и наземной станцией, является отсутствие распространения сигналов через атмосферу Земли, которое приводит к существенному ухудшению их стабильности. Другими преимуществами являются существенное увеличение амплитуды сигнала (для околоземного случая высокоточное измерение γ с помощью одного спутника вообще невозможно), а также возможность проведения ряда других гравитационных экспериментов (Литвинов, Пилипенко, 2021) и радиоастрономических наблюдений (Рёлофс и др., 2019). Для выбранных нами ad hoc конфигураций орбит мы показываем, что с уже имеющимися сегодня оптическими часами данный тип эксперимента позволяет достичь точности определения γ порядка . Это более чем на 3 порядка превышает достигнутую на сегодня точность измерения, полученную в рамках эксперимента по слежению за межпланетным зондом Cassini (Бертотти и др., 2003) и на 2 порядка – ожидаемую по результатам реализации проекта BepiColombo (Импери и др., 2018).
ГРАВИТАЦИОННЫЙ СДВИГ ЧАСТОТЫ СИГНАЛОВ ДО ПОРЯДКА
Рассмотрим два спутника, и , которые движутся вокруг массивного тела массы . Тело будем считать неподвижным и расположенным в начале координат. Спутники обмениваются электромагнитными сигналами, синхронизованными по их бортовым стандартам частоты. Для простоты будем считать данные стандарты одинаковыми. Относительный сдвиг частоты, который испытывает сигнал, посланный спутником в точке пространства–времени с координатами (tA, rA) и принятый спутником в точке с координатами (tB, rB), описывается формулой (Лине, Тейссандье, 2002; Литвинов и др., 2018):
(1)
где и – ньютоновские гравитационные потенциалы в точках A и B; – гравитационная постоянная; и – скорости спутников; и – эвклидовы (т.е. формально вычисленные так, как если бы пространство–время было плоским) длины радиусов–векторов и ; и – эвклидовы единичные вектора; – эвклидово расстояние от A до B ; – эвклидов единичный вектор вдоль направления из A в B; – вклад в сдвиг частоты за счет движения спутников (не содержащий ); – вклад за счет несферичности поля (соответствующий вклад содержится в ); – гравитационные вклады ; – вклад за счет среды распространения сигнала (атмосферы, ионосферы, межпланетной среды); – собственная разность частот между стандартами.
Величины кинематических параметров, таких как , , , а также ньютоновских потенциалов и и кинематического сдвига частоты могут быть рассчитаны с использованием данных об орбитах спутников и модели гравитационного поля, создаваемого выбранным источником. Требования к точности расчета данных параметров рассмотрены далее в разделе обсуждения результатов. Вклад несферичности может быть вычислен по известным выражениям (Лине, Тейссандье, 2002) с использованием коэффициентов мультипольного разложения потенциала (на практике для Солнца и Земли достаточно коэффициента ). Вклад также может быть вычислен по формулам из Лине и Тейссандье (2002), причем, в силу малости данных членов по сравнению с членами , значения ППН-параметров в них могут быть положены равными согласно ОТО. Для околоземных спутников мы будем рассматривать такие конфигурации орбит, для которых сигнал не проходит через тропосферу Земли. Вклады ионосферы и межпланетной среды могут быть с достаточной точностью учтены путем использования многочастотных линий связи (Бертотти и др., 2003; Литвинов и др., 2018; Импери и др., 2018). Поэтому будем считать известным с достаточной точностью. Вклад момента импульса источника входит в .
В выражении (1) нас интересуют слагаемые, пропорциональные γ. Помимо явно приведенных, таковые содержатся также в . Однако, так как известно, что γ отличается от 1 не более, чем на (Бертотти и др., 2003), а также благодаря малости коэффициента для Солнца и Земли ( (Импери и др., 2018), (Павлис и др., 2012), в выражении можно положить .
Отметим наличие в (1) “расширенных факторов” (Эшби, Бертотти, 2010) вида , которые приводят к существенному увеличению смещения частоты при положениях спутников, близких к диаметрально противоположным относительно источника.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗМЕРЕНИЮ
Если один или оба спутника снабжены измерителями частоты, то формула (1) может быть использована для экспериментального определения значения ППН-параметра γ. Математическая модель измерений выглядит следующим образом:
(2)
Здесь – измеренный относительный сдвиг частоты δf/f, из которого вычтены расчетные значения вкладов , , , и гравитационных вкладов и , не содержащих ; – слагаемые в правой части соотношения (1), содержащие (полезный сигнал); z0 = δf0/f – неизвестный относительный сдвиг частоты между часами (константный параметр); – случайный гауссовский процесс, описывающий флуктуации относительной частоты часов. Неизвестными параметрами модели, таким образом, являются (информативный параметр) и (неинформативный).
Данная модель является линейной относительно неизвестных параметров и гауссовой. Для ее полной спецификации необходимо задать сигнал , т.е. орбиты спутников, и свойства шумового процесса . Выбор орбит обсуждается в следующем разделе. Шумовой процесс удобно характеризовать с помощью его спектральной плотности мощности (СПМ). В настоящей работе мы рассматриваем четыре варианта атомных часов: бортовой водородный стандарт частоты ВЧ-1010, использованный на космическом радиотелескопе РадиоАстрон (Кардашев и др., 2013), бортовой цезиевый фонтанный стандарт PHARAO планируемого эксперимента ACES (Хесс и др., 2011), промышленный водородный стандарт частоты ВЧ-2021 (Поляков и др., 2021) и лабораторные стронциевые часы JILA SrI (Ботвелл и др., 2019). В табл. 1 приведены СПМ данных часов. Для ВЧ-1010, PHARAO и JILA SrI они были нами взяты из работы Литвинов и Пилипенко (2021), а для ВЧ-2021 восстановлены по аллановской девиации, приведенной в работе Поляков и др. (2021). На рис. 1 приведены кривые аллановской девиации частоты, соответствующие данным СПМ. Атомный стандарт ВЧ-1010 обладает стабильностью, которая ухудшается после достижения минимума на интервале усреднения ~1 ч. Стандарты PHARAO и ВЧ-2021 обладают почти одинаковой стабильностью на длительных интервалах усреднения с. Однако на малых и средних временах ВЧ2021 обладает лучшей стабильностью, чем PHARAO. Оптический стандарт JILA SrI обладает наилучшей стабильностью на всех интервалах усреднения.
Таблица 1. Спектральная плотность мощности (СПМ) флуктуаций относительной частоты часов
Часы | СПМ |
VCH-1010 | |
PHARAO | |
VCH-2021 | |
JILA SrI |
Рис. 1. Аллановская девиация частоты атомных часов из табл. 1.
Для численной оценки достижимой точности измерения параметра модель (2) необходимо сформулировать в дискретном времени:
(3)
где , , и , , – удовлетворяющий теореме Котельникова шаг дискретизации, – продолжительность эксперимента. Тогда точность измерения информативного параметра может быть оценена, например, с помощью неравенства Крамера-Рао (ван Трис и др., 2013). Данный подход требует знания ковариационных матриц шумового процесса . Для белого (), фликкер- ( ) и броуновского ( ) шума они, соответственно, имеют вид
(4)
где – символ Кронекера, – гамма-функция (Литвинов, Пилипенко, 2021).
ВЫБОР ОРБИТ СПУТНИКОВ
Мы рассматриваем две конфигурации эксперимента: со спутниками на околоземных и околосолнечных орбитах. Выбранные нами параметры орбит для этих случаев представлены в табл. 2 и 3. В настоящей работе мы не ставили задачу найти оптимальную конфигурацию орбит спутников, т.е. такую, которая обеспечивала бы для данного типа часов наилучшую точность оценки за заданное время накопления. Тем не менее, наличие в выражении (1) “расширенных факторов” указывает на то, что максимизация амплитуды полезного сигнала достигается для орбит, на которых спутники часть времени находятся приблизительно на противоположных сторонах от источника гравитационного поля. Выбранные нами параметры орбит соответствуют данному критерию.
Таблица 2. Параметры орбит спутников для околоземного эксперимента на эпоху 01.01.2030 00:00 UTC
Параметр орбиты | Спутник 1 | Спутник 2 |
Наклонение, град | 0 | 0 |
Перицентр, км | 7500 | 7500 |
Апоцентр, км | 26027 | 26027 |
Период, ч | 6 | 6 |
Долгота восх. узла, град | 0 | 0 |
Аргумент перицентра, град | 0 | 0 |
Средняя аномалия, град | 0 | 150 |
Таблица 3. Параметры орбит спутников для околосолнечного эксперимента на эпоху 01.01.2030 00:00 UTC
Параметр орбиты | Спутник 1 | Спутник 2 |
Наклонение, град | 0 | 0 |
Перицентр, а.е. | 0.3 | 0.3 |
Апоцентр, а.е. | 1.0 | 1.0 |
Период, сут. | 191 | 191 |
Долгота восх. узла, град | 0 | 0 |
Аргумент перицентра, град | 0 | 0 |
Средняя аномалия, град | 0 | 150 |
Мы предполагаем, что орбиты спутников являются кеплеровыми. Данное предположение достаточно хорошо выполняется для выбранных орбит. В реальном эксперименте необходимо учитывать возмущающие факторы, такие как несферичность гравитационного поля, световое давление, солнечный ветер и др. Эти воздействия приводят к медленной эволюции параметров орбит спутников, но не оказывают существенного влияния на полученные нами оценки.
Для выбранных конфигураций орбит часть времени спутники находятся в тени Земли или Солнца друг относительно друга. Это обстоятельство было учтено в анализе. Для околоземного эксперимента нами были исключены из анализа все сегменты, когда сигнал проходит на расстоянии ближе 1000 км от Земли, а для околосолнечного – ближе 6 радиусов Солнца от Солнца (Эшби, Бертотти, 2010).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Вид сигналов , соответствующих экспериментам с околоземными и околосолнечными спутниками, приведен на рис. 2 и 3. Расчет выполнен с помощью формулы (1) и орбит с параметрами из табл. 2 и 3. Наибольшей величины сигнал достигает в моменты, когда спутники находятся в точках, максимально близких к диаметрально противоположным относительного источника гравитационного поля. Это связано с тем, что изменение частоты сигнала, связанное с , происходит за счет задержки и искривления траектории сигнала в гравитационном поле, которые максимальны в том случае, когда траектория проходит максимально близко к источнику. Отметим, что в околоземном случае существенное изменение величины сигнала на интервалах ~1000 с требует применения часов с высокой стабильностью на интервалах ~100 с.
Рис. 2. Вид сигнала в модели эксперимента по измерению Υ с помощью двух околоземных спутников.
Рис. 3. Вид сигнала в модели эксперимента по измерению Υ с помощью двух околосолнечных спутников.
Результаты оценки точности измерения ППН-параметра для околоземного и околосолнечного экспериментов приведены, соответственно, на рис. 4 и 5 в зависимости от времени накопления. Наихудшая точность оценки в обоих случаях достигается со стандартом VCH-1010, наилучшая – с JILA SrI. Точность околоземного эксперимента с JILA SrI по результатам 3 лет накопления данных составляет . С теми же часами на околосолнечных орбитах – . Для сравнения, наилучший на сегодня результат, полученный с помощью межпланетного космического аппарата Cassini, составляет (Бертотти и др., 2003). Интересно отметить существенно разное поведение стандартов VCH-2021 и PHARAO в околоземном и околосолнечном экспериментах. В силу худшей стабильности PHARAO на малых и средних временах (рис. 1) точность околоземного эксперимента с ним оказывается в 2 раза хуже, чем с VCH-2021: против . В околосолнечном же эксперименте, где существенное изменение сигнала происходит на интервалах порядка дней, стандарты PHARAO и VCH-2021, имеющие примерно одинаковую долговременную стабильность, дают близкие результаты – и , соответственно. Полученные точности измерения не являются предельно возможными с помощью данных часов. Оптимизация параметров орбит может существенно улучшить полученные оценки.
Рис. 4. Точность измерения Υ, достижимая с помощью двух спутников на околоземных орбитах.
Рис. 5. Точность измерения Υ, достижимая с помощью двух спутников на околосолнечных орбитах.
ОБСУЖДЕНИЕ
Значения , отличные от , предсказываются значительным количеством альтернативных теорий гравитации, в частности, скалярно-тензорной теорией Бранса–Дике (Уилл, 2018). В ряде теорий предсказывается отклонение от 1 на уровне – (Дамур и др., 2002). Поэтому измерение с точностью ~1×10–8, достижимое с помощью спутников на околосолнечной орбите, представляет несомненный интерес. Околоземный эксперимент не позволит существенно улучшить достигнутую на сегодня точность, но интерес может представлять его совместная реализация с другими космическими проектами, требующими высокостабильных атомных часов, например, космической радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (Рёлофс и др., 2019).
Для практической реализации предложенных экспериментов, помимо стандартов частоты со стабильностью ~10–18 в бортовом исполнении, необходимо наличие высокоточных средств измерения дальности и доплеровской скорости. Восстановленная с их помощью орбита спутников должна позволять рассчитывать все вклады в смещение частоты (1) с точностью не хуже 10–18 . Для околоземных спутников наилучшая точность восстановления вектора положения на сегодня составляет ~1 см (Монтенбрук и др., 2018), что для орбит из табл. 2 соответствует точности оценки не хуже . Для спутников на околосолнечной орбите наилучшая точность оценки положения продемонстрирована в проекте BepiColombo и составляет ~450 м (Кастеллини и др., 2020). Для орбит из табл. 3 это соответствует точности оценки для потенциала Солнца лучше . Остальные вклады в (1), зависящие от положения спутников, имеют более высокий порядок по , и точность их оценки значительно превосходит необходимую.
Наибольшую сложность представляет оценка вклада в (1) от содержащегося в нерелятивистского доплеровского смещения частоты, который имеет вид , т.е. зависит от относительной скорости спутников. Наилучшую на сегодня точность ее оценки обеспечивают интерферометрические методы. В проекте GRACE с помощью микроволнового межспутникового интерферометрического дальномера достигнута точность восстановления радиальной скорости 0.1 мкм/с на базе 220 км, что соответствует ошибке расчета нерелятивистского эффекта Доплера на уровне (Кан и др., 2020). Лазерный интерферометрический дальномер проекта GRACE-FO, как ожидается, улучшит эти значения в ~20 раз, т.е. до (Абих и др., 2019). Таким образом, имеющаяся на сегодня точность измерения радиальной скорости аппаратов является недостаточной для осуществления предложенных экспериментов с часами со стабильностью ~10–18.
Решение данной проблемы возможно двумя способами. Первый состоит в дальнейшем совершенствовании интерферометрических средств измерения радиальной скорости. В частности, ожидается, что в проекте космической гравитационно-волновой обсерватории LISA будут достигнуты еще более высокие точности измерения радиальной скорости между спутниками, чем в GRACE-FO, причем на базах км (Бахман и др., 2017). Второй вариант состоит в том, чтобы не вычислять, а компенсировать нерелятивистский эффект Доплера с помощью частотных измерений дополнительного двунаправленного канала связи (схема Gravity Probe A, см. работу Вессо и Ливайн, 1979). Известно, однако, что в таком режиме связи эффекты, пропорциональные , отсутствуют в 3-м порядке разложения по (Бланше и др., 2001). Поэтому данный подход требует построения теории переноса частоты для компенсационной схемы Gravity Probe A до порядка , обобщающей результаты Бланше и др. (2001). Предварительное исследование показывает, что в данном режиме вклады в сдвиг частоты, пропорциональные и формально имеющие порядок , содержат квадраты “расширенных факторов” вида . Из-за этого члены в режиме Gravity Probe A оказываются сравнимыми по величине с членами рассмотренного здесь однопутевого режима. Поэтому следует ожидать, что точность измерения с помощью двух спутников, обменивающихся сигналами с помощью компенсационной схемы Gravity Probe A, окажется сравнимой с оценками, полученными в данной работе. Отметим также, что существенной частью изложенного метода является предположение о том, что ошибки измерения параметра не коррелированы с ошибками определения векторов состояния спутников.
Представляет интерес сравнение предложенного нами эксперимента с более ранними проектами ASTROD (Ни, 2008) и LATOR (Турышев и др., 2009), основанными на иных принципах и нацеленными на несколько более высокую точность . Проект ASTROD предполагает измерение путем высокоточного определения эфемерид трех свободных от сноса спутников, связанных лазерными интерферометрическими дальномерами и движущихся по околосолнечным орбитам. Проект LATOR основан на дифференциальных астрометрических наблюдениях двух околосолнечных зондов с помощью оптического интерферометра, расположенного на орбитальной станции на околоземной орбите. ASTROD по сути представляет собой вариант гравитационно-волновой обсерватории лаборатории LISA с размером плеча ~1 а.е., поэтому его реализация в ближайшее время не представляется реалистичной. Проект LATOR сравним по сложности с предложенным в настоящей работе. Помимо , он допускает измерение квадрупольного момента Солнца, ППН-параметра и ряда других эффектов. Предлагаемый нами эксперимент, благодаря эллиптическим орбитам спутников и атомным часам на борту, также допускает измерение этих параметров, причем, согласно предварительным оценкам, с более высокой точностью. Кроме того, он допускает проверку эйнштейновского принципа эквивалентности по схеме, предложенной в работе Литвинов и Пилипенко (2021), проведение наблюдений по схеме космической радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (Рёлофс и др., 2019), исследование спина (Пилипенко и др., 2024) внутренней структуры Солнца и ряда других эффектов. Результаты исследования достижимых точностей измерения соответствующих величин будут нами представлены в последующих публикациях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Потенциальная точность измерения ППН-параметра с помощью двух оснащенных современными атомными часами спутников на эллиптических околоземных орбитах составляет , что в 2 раза превосходит лучший на сегодня результат, полученный в работе Бертотти и др. (2003). Для околосолнечных орбит достижима точность , что позволит на 3 порядка улучшить результат Бертотти и др. (2003) и проверить ряд теорий, которые предсказывают отклонения от , соответствующего ОТО, на уровне – (Дамур и др., 2002). Полученные нами оценки не являются окончательными и могут быть улучшены путем оптимизации орбит спутников. Предложенный эксперимент допускает, помимо , измерение других параметров нарушения ОТО, проведение наблюдений по схеме космической радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами, изучение внутренней структуры Солнца и исследование ряда других эффектов.
Трудность практического осуществления эксперимента связана с разработкой бортовых стандартов частоты со стабильностью ~10–18 – на настоящий момент имеются лабораторные образцы с такими параметрами, а бортовые достигают лишь ~8 × 10–18. Также требуется усовершенствование интерферометрических методов измерения радиальной скорости между спутниками, которые в ближайшее время достигнут точности при требуемых ~10–18 (Абих и др., 2019). Представляет интерес оценка точности предложенного эксперимента при использовании схемы компенсации нерелятивистского эффекта Доплера типа Gravity Probe A (Вессо и Ливайн, 1979). Данная работа является предметом нашего дальнейшего исследования.
Автор выражает благодарность М.В. Захваткину за ценные обсуждения вопроса точностей орбит околоземных и межпланетных космических аппаратов. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-22-00861.
About the authors
Д. А. Литвинов
Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
Author for correspondence.
Email: litvirq@gmail.com
Russian Federation, Москва
References
- Аарони и др. (O. Aharony, S.S. Gubser, J. Maldacena, H. Ooguri, and Y. Oz), Phys. Rep. 323, 183 (2000).
- Абих и др. (K. Abich, A. Abramovici, B. Amparan, A. Baatzsch, B.B. Okihiro, D.C. Barr, M.P. Bize, Ch. Bogan, et al. ), Phys. Rev. Lett. 123, 031101 (2019).
- Альтшуль и др. (B. Altschul, Q. G. Bailey, L. Blanchet, K. Bongs, Ph. Bouyer, L. Cacciapuoti, S. Capozziello, N. Gaaloul, D. Giulini, J. Hartwig, et al. ), Adv. Space Res. 55, 501 (2015).
- Аштекар и Бьянки (A. Ashtekar and E. Bianchi), Rep. Progr. Phys. 84, 042001 (2021).
- Бахман и др. (B. Bachman, G. De Vine, J. Dickson, S. Dubovitsky, J. Liu, W. Klipstein, K. McKenzie, R. Spero, A. Sutton, B. Ware, and C. Woodruff), J. Phys.: Conf. Ser. 840, 012011 (2017).
- Бертотти и др. (B. Bertotti, L. Iess, and P. Tortora), Nature 425, 374 (2003).
- Бланше и др. (L. Blanchet, C. Salomon, P. Teyssandier, and P. Wolf), Astron. Astrophys. 370, 320 (2001).
- Ботвелл и др. (T. Bothwell, D. Kedar, E. Oelker, J.M. Robinson, S.L. Bromley, W.L. Tew, J. Ye, and C.J. Kennedy), Metrologia 56, 065004 (2019).
- Вессо, Ливайн (R.F.C. Vessot and M.W. Levine), Gen. Rel. and Grav. 10, 181 (1979).
- Дамур и др. (T. Damour, F. Piazza, and G. Veneziano), Phys. Rev. 66, 046007 (2002).
- Деревянко и др. (A. Derevianko, K. Gibble, L. Hollberg, N.R. Newbury, Ch. Oates, M.S. Safronova, L.C. Sinclair, and N. Yu), Quantum Sci. and Tech. 7, 044002 (2022).
- Импери и др. (L. Imperi, L. Iess, and M.J. Mariani), Icarus 301, 9 (2018).
- Кан и др. (Z. Kang, S. Bettadpur, P. Nagel, et al.), J. of Geodesy 94, 1 (2020).
- Кардашев Н.С., Хартов В.В., Абрамов B.B. и др., Астрон. журн. 90, 179 (2013).
- Кастеллини и др. (F. Castellini, G. Bellei, and F. Budnik), AIAA Scitech 2020 Forum (Orlando, 2020, с. 1701).
- Ким и др. (K. Kim, A. Aeppli, T. Bothwell, et al.), Phys. Rev. Lett. 130, 113203 (2023).
- Ламберт, Ле Понсен-Лафитт (S. Lambert and C. Le Poncin-Lafitte), Astron. Astrophys. 529, A70 (2011).
- Лине и Тейссандье (B. Linet and P. Teyssandier), Phys. Rev. D 66, 024045 (2002).
- Литвинов и др. (D.A. Litvinov, V.N. Rudenko, A.V. Alakoz, U. Bach, N. Bartel, A.V. Belonenko, K.G. Belousov, M. Bietenholz, et al.), Phys. Lett. A 382, 2192 (2018).
- Литвинов, Пилипенко (D. Litvinov and S. Pilipenko), Classical and Quantum Gravity 38, 135010 (2021).
- Монтенбрук и др. (O. Montenbruck, S. Hackel, J. Ijssel, et al.), GPS Solut. 22, 1 (2018).
- Ни (W.-T. Ni), Int. J. of Mod. Phys. D 17, 921 (2008).
- Орилья и др. (S. Origlia, M.S. Pramod, S. Schiller, Y. Singh, K. Bongs, R. Schwarz, A. Al-Masoudi, S. Dörscher, et al. ), Phys. Rev. A 98, 053443 (2018).
- Павлис и др. (N.K. Pavlis, S.A. Holmes, S.C. Kenyon, et al.), J. of Geophys. Res. (Solid Earth) 117, B04406 (2012).
- Пилипенко и др. (S. Pilipenko, M. Zakhvatkin, D. Litvinov, and A. Filetkin), Bull. Lebedev Phys.Instit. 51(2), 70 (2024).
- Поляков и др. (V. Polyakov, Y. Timofeev, and N. Demidov), 2021 Joint Conf. of the Europ. Frequency and Time Forum and IEEE Inter. Frequency Control Symp. (EFTF/IFCS) (IEEE, 2021, с. 1).
- Рёлофс и др. (F. Roelofs, H. Falcke, C. Brinkerink, et al.), Astron. Astrophys. 625, A124 (2019).
- Сотириу, Фараони (T.P. Sotiriou and V. Faraoni), Rev. Mod. Phys. 82, 451 (2010).
- ван Трис и др. (H.L. van Trees, K.L. Bell, and Z. Tian), Detection, Estimation, and Modulation Theory. Part 1 – Detection, Estimation, and Filtering Theory (Wiley, New York, 2nd ed., 2013).
- Турышев и др. (S. Turyshev, M. Shao, K. Nordtvedt, H. Dittus, C. Laemmerzahl, S. Theil, C. Salomon, S. Reynaud, et al.), Exp. Astron. 27, 27 (2009).
- Уилл (C.M. Will), Theory and experiment in gravitational physics (Cambridge Univer. Press, 2018).
- Хесс и др. (M.P. Heβ, L. Stringhetti, B. Hummelsberger, K. Hausner, R. Stalford, R. Nasca, L. Cacciapuoti, R. Much, et al.), Acta Astronautica 69, 929 (2011).
- Хоббс и др. (D. Hobbs, B. Holl, L. Lindegren, et al.), Proceed. of the Inter. Astron. Union 5, S261, 315 (2009).
- Шень и др. (W. Shen, P. Zhang, Z. Shen, et al.), Phys. Rev. D 108, 064031 (2023).
- Эбботт и др. (B.P. Abbott, R. Abbott, T.D. Abbott, et al.), Astrophys. J. 848, L12 (2017).
- Эшби, Бертотти (N. Ashby and B. Bertotti), Classical and Quantum Gravity 27, 145013 (2010).
Supplementary files