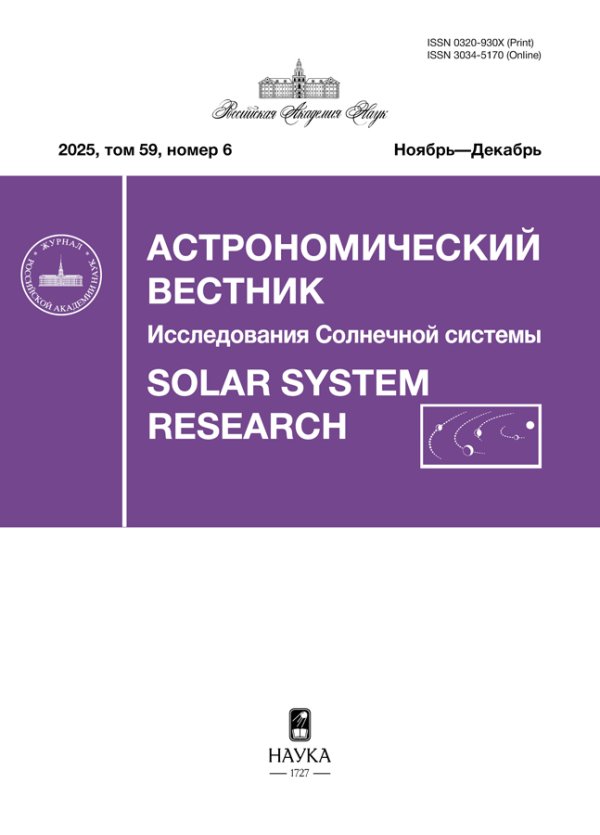Получение плазменно-пылевых облаков из метеоритного вещества, его аналогов и имитаторов лунного реголита с помощью микроволнового разряда
- Authors: Борзосеков В.Д.1,2, Ахмадуллина Н.С.3, Соколов А.С.1, Гаянова Т.Э.1, Резаева А.Д.1,2, Степахин В.Д.1, Кончеков Е.М.1, Малахов Д.В.1, Воронова Е.В.1, Нугаев И.Р.1, Логвиненко В.П.1,2, Князев А.В.1, Летунов А.А.1, Харлачев Д.Е.1, Образцова Е.А.1,4, Морозова Т.И.5, Зайцев М.А.5, Ищенко А.В.6, Вайнштейн И.А.6, Гроховский В.И.6, Шишилов О.Н.4,7, Скворцова Н.Н.1
-
Affiliations:
- Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
- Российский университет дружбы народов
- Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
- Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
- Институт космических исследований РАН
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
- МИРЭА – Российский технологический университет
- Issue: Vol 58, No 3 (2024)
- Pages: 290-316
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-930X/article/view/264298
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320930X24030049
- EDN: https://elibrary.ru/NEEAJM
- ID: 264298
Cite item
Full Text
Abstract
В эксперименте получены плазменно-пылевые облака из вещества метеорита Царев, имитатора лунного реголита LMS-1D и ильменитового концентрата с помощью микроволнового разряда в порошковых средах. Для каждого из образцов зарегистрирована динамика развития разряда и образования плазменно-пылевого облака с последующей релаксацией после окончания микроволнового импульса. По спектрам излучения плазмы и поверхности твердого тела определены температуры газа, электронов и поверхности. Проведенное сравнение фазового и элементного состава исходных образцов и образцов после воздействия плазмы показало, что существенного изменения состава не происходит. Однако результаты сканирующей электронной микроскопии четко указывают на сфероидизацию исходных угловатых частиц и частиц неправильной формы. Также наблюдается появление сферических частиц, размеры которых больше, чем линейные размеры частиц в исходном образце. Полученные результаты указывают на возможность использования таких экспериментов для исследования химических и плазмохимических процессов синтеза и модификации веществ в условиях плазменно-пылевых облаков, встречающихся в космических явлениях.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В ходе различных космических процессов образуется многофазная плазменно-пылевая среда (Kuznetsov и др., 2023; Popel и др., 2018; Zakharov и др., 2020; Johnstone, 2013; Goetz и др., 2022). Такие плазменно-пылевые облака могут содержать не только плазму, но и пылевые частицы, капли расплава, нейтральный газ. Удары метеороидов и микрометеороидов о поверхность астрономического тела (Gerasimov и др., 1998; Popel и др., 2020), движение метеороидов в атмосфере планет (Бронштэн, 1981; Silber и др., 2018) являются процессами, в которых образуется такая многофазная среда.
Существующие пути лабораторного моделирования предполагают как прямые методы (Mocker и др., 2011; Friichtenicht, 1962; Shu и др., 2012; Semkin и др., 2007; 2009; Hudepohl и др., 1989; Best, Rose, 1999; Igenbergs и др., 1987; Vricella и др., 2017; Chhabildas и др., 1995; Thornhill и др. 2006; Lexow и др., 2013) моделирования, так и “косвенные” (Helber и др., 2019; Loehle и др., 2017; Blanchard, Cunningham, 1974; Bones и др., 2016; Gómez Martín и др., 2017; Sorokin и др., 2020a; Stöffler, Langenhorst, 1994; Fulvio и др., 2021; Moroz и др., 1996; Grokhovsky и др., 2020; Bezaeva и др., 2010). Прямые методы моделирования основаны на разгоне ударника до скоростей, характерных для метеороидов Солнечной системы, а в косвенных методах воспроизводятся какие-то стадии процессов или условия.
Создание плазменно-пылевых облаков из вещества метеоритов, реголитов или эквивалентных им искусственных смесей в лабораторных условиях позволяет исследовать отдельные вопросы космического выветривания (Prince и др., 2020; Sasaki и др., 2003; Sorokin и др., 2020b), предбиологического синтеза (Managadze, 2003; Zaitsev и др., 2016; Ferus и др., 2020; Martins и др., 2013). Синтез органических веществ из простейших неорганических в условиях плазменно-пылевого облака отличается от других возможных путей предбиологического синтеза наличием большого числа возможных плазмохимических реакций (с атомами и молекулами в возбужденном состоянии, с заряженными частицами, фотолитические реакции под действием ультрафиолетового излучения), а также наличием частиц пыли, которые могут играть роль как центров кристаллизации, так и катализаторов реакций (Parmon, 1999; Gerasimov, Safonova, 2008; Peters и др., 2023; Saladino и др., 2013; 2018; Snytnikov, 2002; 2010).
Заряженная пыль присутствует повсеместно в космосе и атмосфере Земли: в межзвездном веществе, туманностях и облаках, остатках сверхновых, протопланетных дисках, в окрестностях активных ядер галактик, в ионосфере Земли и хвостах метеороидов, в хвостах комет, в атмосферах других планет и в экзосферах безатмосферных тел (спутников и астероидов). На отдельных телах и пылинках могут быть найдены органические соединения.
На пылевых частицах в молекулярных слоях протопланетных дисков могли происходить сложные химические реакции и образовываться органические соединения, в том числе – простые аминокислоты (например, глицин). Можно ожидать развития процессов синтеза органических соединений в переходных областях протопланетных дисков, где еще высоки концентрации заряженных частиц (в том числе заряженной пыли), но вместе с тем присутствуют плотные молекулярные области. Также предпосылками для развития данных процессов могут быть вспышки звезд, которые дают высокое излучение, проходящее в более плотные слои, и высыпания зарядов. В итоге рядом оказываются области с противоположно заряженными частицами, ионами и ион-радикалами, которые притягиваются и интенсивнее вступают в химические реакции.
В небольших метеоритах (или в верхних частях ядра кометного вещества), в которых не происходило нагрева внутренних пород, соединения могут существовать в таком виде, в каком они осаждались на поверхности пылинок в процессе формирования планет в протопланетном диске или образовывались на поверхности пыли в результате химических реакций. Это подтверждается наблюдениями. Во время метеорного потока Леониды в 2001 г. были собраны данные аппаратом Leonid MAC, которые показали, что метеорные тела с размерами 50 мкм – 10 см богаты соединениями CN (Jenniskens и др., 2004), а также H2, O, H, H2O, CO2, CO, CH4, CH, C2HO (Jenniskens, 2001). В спектрах метеорных потоков наблюдались полосы O и N2 в разных возбужденных состояниях.
Кометы являются источником метеорных тел, которые могут попасть в атмосферу Земли и служить триггерами для предбиологического синтеза органических веществ и для зарождения жизни. Кометы и порождаемые ими мелкие метеорные тела практически не испытывали термальный метаморфизм, и в их составе могли сохраниться более сложные вещества, синтезированные на пылевых частицах во время образования планет (Vasyunin и др., 2008). При прохождении метеорным телом атмосферы Земли в плазменно-пылевом хвосте метеороида создаются высокие температуры и концентрации частиц, что оказывается благоприятными условиями для быстрого протекания ряда химических реакций. Вместе с тем быстрая термическая “закалка” продуктов синтеза может благоприятствовать сохранению синтезированных органических веществ.
Известно, что азот – эссенциальный элемент многих органических соединений, необходимых для жизни земных организмов. Такими соединениями являются азотистые основания (строительные блоки нуклеиновых кислот и АТФ и др.) и аминокислоты (структурные элементы пептидов, белков и т. д.). Вместе с тем газообразный азот (преобладающий компонент земной атмосферы) довольно химически инертное вещество. Но преобразованной кинетической энергии метеороида хватает, чтобы при взаимодействии атмосферных газов и паров (N2, CO2, H2O,) с простыми и сложными веществами, а также отдельными функциональными группами веществ, присутствующих в метеоритах (C, N, H, CN, H2O и т. д.), получились такие соединения, как HCN, NO, в условиях высоких температур – азотистые основания, серо- и фторсодержащие соединения и т. д.
В наших исследованиях по задачам синтеза микро- и наночастиц в микроволновом разряде в смесях порошков металл/диэлектрик (Gayanova и др., 2023; Skvortsova и др., 2021a; 2023а; Batanov и др., 2013; Akhmadullina и др., 2019; Sokolov и др., 2023) мы получаем плазменно-пылевые облака даже в условиях атмосферного давления рабочего газа. Такую постановку эксперимента мы использовали и для создания облака частиц из порошковых образцов, повторяющих химический состав лунного реголита (Skvortsova и др., 2017; 2019; 2021b; 2023b; Batanov и др., 2022; Kachmar и др., 2021). В облаке, содержащем плазму, испарившееся вещество, капли расплава, частицы пыли, температура газа порядка 5000 К, а плотность плазмы составляет ~1014 см–3. В ходе плазменного воздействия образуются новые вещества и фазы, происходят морфологические изменения частиц пыли. При этом процесс нагрева быстрый (< 50 мкс), поскольку связан с развитием низкопорогового разряда на контактах металл-диэлектрик либо полупроводник-диэлектрик (Batanov и др., 2004; Batanov, Kossyi, 2015), а не с непосредственным нагревом веществ в микроволновом поле (Bykov и др., 2001; Vodop’yanov и др., 2017; Rybakov и др., 2006; 2013; Rybakov, Buyanova, 2018; Egorov и др., 2010). Непосредственный нагрев веществ в микроволновом поле является относительно медленным процессом даже с учетом возможного развития тепловой неустойчивости. Вероятность инициации микроволнового пробоя в смесях порошковых образцов зависит от близости к оптимуму размера проводящих частиц (соответствует толщине скин-слоя), доли проводящих частиц в смеси, интенсивности микроволнового излучения.
При использовании в экспериментах по микроволновому разряду в смесях порошков в качестве исходных смесей минералогических образцов, характерных для космических тел, становится возможным моделирование плазменно-пылевых сред, образующихся, например, при ударе микрометеороида о поверхность безатмосферного тела или при движении метеороида в атмосфере планеты. Причем такое моделирование позволит воссоздать многофазную среду с характерными для нее процессами превращений и синтеза веществ.
В представляемой работе мы использовали в экспериментах в качестве исходных веществ три типа образцов: 1) ильменитовый концентрат, поскольку ильменит часто выступает фазой, содержащейся в лунном реголите; 2) имитатор лунной пыли LMS-1D (Lunar mare simulant – dust) (Long-Fox, Britt, 2023; Madison и др., 2022; Stockstill-Cahill и др., 2021; 2022) как образец, повторяющий по минералогическому составу и распределению частиц по размерам реголит лунных морей (Флоренский и др., 1975; Slyuta, 2014; Heiken и др., 1991; NASA Lunar sample and photocatalog; Виноградов, 1974; Барсуков, Сурков, 1979; Барсуков, 1980), а точнее, его самую мелкую фракцию – лунную пыль (Кузнецов и др., 2016; Zakharov и др., 2020; Park и др., 2006); 3) вещество метеорита Царев (обыкновенный хондрит L5) (Cеменова и др., 1984; Мигдисова и др., 1982; Барсукова и др., 1982; Slyuta, 2017) как пример оригинального вещества космической природы со сложным минералогическим составом. Отдельно основные результаты экспериментов с веществом метеорита Царев нами уже были представлены в (Akhmadullina и др., 2023).
УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
В качестве источника линейно поляризованного микроволнового излучения с длиной волны λ = 4 мм (частота f = 75 ГГц) используется гиротрон (Litvak и др., 2021). В экспериментах используются импульсы длительностью до 10 мс и мощностью до 450 кВт. Микроволновое излучение на выходе гиротрона представляет собой гауссов пучок. Этот пучок от гиротрона до образца передается через квазиоптическую систему фокусирующих зеркал (рис. 1). В месте расположения образца диаметр микроволнового пучка составляет 5 см, что обеспечивает средние интенсивности электромагнитной волны до 20 кВт/см2.
Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – гиротрон, 2 – фокусирующее зеркало квазиоптического тракта, 3 – плоское зеркало, 4 – высокоскоростная камера Phantom VEO 710L, 5 – квазиоптический СВЧ-ответвитель, 6–8 – детекторы падающего отраженного и прошедшего микроволнового излучения, 9 – плазмохимический реактор, 10 – оконечные линзы передающих световодов спектрометров Avantes AvaSpec.
Исследуемый порошковый образец размещается горизонтально тонким слоем (1–2 мм) в виде пятна диаметром 4–5 см на поверхности кварцевого диска с диаметром 8 см. Для ограничения разлета и сбора вещества в процессе эксперимента на кварцевый диск (толщина 6–8 мм) вертикально и соосно с ним устанавливается тонкостенная кварцевая трубка диаметром 7 см и высотой до 10 см. Исследуемый образец в сборке с кварцевым диском и кварцевой трубкой помещается в вакуумируемый (до 10–2 торр) плазмохимический реактор (рис. 1) так, что центр порошкового образца совпадает с осью микроволнового пучка. Плазмохимический реактор имеет снизу и сверху прозрачные для микроволнового излучения кварцевые окна. Микроволновое излучение подается в плазмохимический реактор снизу вверх, т. е. проходит через слой порошка, а разряд будет возникать на верхней открытой поверхности порошкового образца. Это возможно, поскольку начальный (при нормальных условиях) коэффициент поглощения микроволнового излучения не превышает 30%.
Для оценки величины и динамики коэффициента поглощения микроволнового излучения в порошковом образце и плазменно-пылевом облаке используется система балансных микроволновых измерений (рис. 1). С временным разрешением 200 нс регистрируется уровень подаваемой микроволновой мощности, уровень отраженного излучения (сумма отражений от стационарных объектов и плазменно-пылевого облака) и уровень излучения, прошедшего через порошковый образец и плазменно-пылевое облако.
Регистрация спектров излучения плазмы и поверхностей твердых тел позволяет определять: температуру электронов Te (по относительной интенсивности линий металлов); вращательную температуру газа Tr (по полосам молекулы TiO), которая максимально близка к поступательной температуре в условиях микроволновых разрядов; температуру поверхности твердого тела Ts (по континууму излучения в виновской области спектра), которая соответствует температуре поверхности порошкового образца. Линии обзора спектрометров имеют три характерных направления (рис. 1): сверху – луч проходит через плазменно-пылевое облако и упирается в верхнюю поверхность порошкового образца; сбоку – луч проходит сквозь плазменно-пылевое облако параллельно поверхности порошкового образца; снизу – луч проходит через весь слой порошкового образца. Всего в исследованиях используется несколько спектрометров с разной полосой обзора и спектральным разрешением (AvaSpec-3648-U80: диапазон 371–920 нм, разрешение 0.36 нм; AvaSpec-ULS4096-CL-2-EVO 2109527U2: диапазон 219–381 нм, разрешение ~0.1 нм: 2109528U2: диапазон 379–521 нм, разрешение ~0.1 нм; AvaSpec-ULS2048CL-EVO 210952U1: диапазон 520–739 нм, разрешение ~0.25 нм) (Sokolov и др., 2023).
Динамика процессов развития микроволнового разряда и эволюции плазменно-пылевого облака регистрируется высокоскоростной видеокамерой Phantom VEO 710L (монохромная, 1280×800 пикселей, 7400 кадр/с, 680000 кадр/с при разрешении 64×8 пикселей, минимальное время экспозиции 1 мкс, светочувствительность сенсора ISO Mono 6400D, динамический диапазон 12 бит), которая располагается над плазмохимическим реактором (рис. 1).
ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦОВ
Ильменитовый концентрат
Был приобретен коммерчески доступный ильменитовый концентрат в виде порошка с размерами частиц не более 100 мкм. В документации, предоставляемой поставщиком, указан минеральный состав (ильменит 95%, рутил 3%, циркон 0.4%) и элементный состав (табл. 1), полученный с помощью рентгенофлуоресцентного анализа. Ильменитовый концентрат измельчался посредством перетирания в агатовой ступке в течение 10 мин., и 1 г материала был использован в качестве образца в эксперименте без добавления дополнительного металлического порошка. Как упоминалось выше, низкопороговый микроволновый пробой происходит в смеси порошков металла и диэлектрика (обычно необходима массовая доля металла от 5%) либо полупроводника и диэлектрика. Ильменит же обладает полупроводниковыми свойствами, поэтому изначально мы предполагали, что микроволновой разряд сможет развиться в нем без добавок. Для подготовленного образца ильменита были получены микрофотографии рис. 2 и рис. 3. Измерения проводились с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) Zeiss Merlin, оборудованного приставкой для рентгеновского микроанализа Oxford Instruments INCAx-act. Для получения изображений было использовано ускоряющее напряжение 10 кВ, что позволило одновременно получать достаточно качественные изображения материалов и проводить измерения с помощью рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии (РЭДС). Элементный состав проанализированных участков в целом соответствует заявленному поставщиком. Частицы имеют неправильную форму, в некоторых случаях с выделяющимися острыми ребрами, размер частиц достигает 100 мкм.
Таблица 1. Элементный состав образца ильменитового концентрата
№ п/п | Элемент | Доля, % |
1 | TiO2 | 53.9 |
2 | Fe2O3 | 41.7 |
3 | SiO2 | 1.5 |
4 | SO3 | 1.1 |
5 | MnO | 0.6 |
6 | Al2O3 | 0.6 |
7 | ZrO2 | 0.2 |
8 | P2O5 | 0.2 |
9 | CaO | 0.1 |
10 | NbO | 0.1 |
Рис. 2. Микрофотографии подготовленного образца ильменитового концентрата.
Рис. 3. Микрофотография подготовленного образца ильменитового концентрата с наложенными многослойными картами распределения элементов и карты распределения отдельных элементов. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи.
Имитатор лунной пыли LMS-1D
Используемый в эксперименте имитатор лунной пыли LMS-1D был произведен компанией ExolithLab (США). Имитатор повторяет по минералогическому составу (табл. 2), элементному составу (табл. 3) и распределению частиц по размерам пыль лунных морей. Элементный состав в табл. 3 получен с помощью рентгенофлуоресцентного анализа производителем. Состав и распределения частиц по размерам предоставлены производителем. Диапазон размеров частиц лежит в пределах 0.04–32 мкм с медианным размером 4 мкм. При приготовлении образца для эксперимента к LMS-1D добавлялось 10% (по массе) металлического магния (размер частиц не более 75 мкм). Такая добавка необходима для инициации микроволнового пробоя, поскольку лунный реголит, а значит и его имитатор, представляет собой в основном композицию диэлектрических материалов без включений нейтральных металлов. Стоит отметить, что нанофазное железо (Taylor и др., 2001; Basu, 2005), которое в лунной пыли образуется, в частности, термовосстановительным путем при прохождении ударной волны при ударах микрометеоритов (Sorokin и др., 2020b), в используемом имитаторе отсутствует. А нанофазное железо – характерный продукт космического выветривания лунного реголита. Его наличие могло бы привести к возникновению низкопорогового микроволнового пробоя в имитаторе и без необходимости добавления порошка металла. После приготовления смеси LMS-1D c 10% порошка металлического магния полученный образец был перетерт в ступке для гомогенизации и разбития агломератов. Мы получили микрофотографии РЭМ нескольких участков (рис. 4), наложенные на них многослойные карты распределения элементов и карты распределения элементов по отдельности (рис. 5). Элементный состав оказался в рамках заявленного производителем. Добавленные частицы нейтрального магния уверенно обнаруживаются на микрофотографиях. Частицы имитатора лунной пыли имеют неправильную форму, в некоторых случаях с выделяющимися острыми ребрами, размер частиц достигает 100 мкм. Частицы малых размеров преимущественно образуют агломераты, а также покрывают поверхность более крупных частиц, что затрудняет идентификацию и описание формы последних. В образце не обнаруживается стеклянных частиц сферической формы, присутствие которых характерно для лунного реголита (Slyuta, 2014; Popel и др., 2020).
Таблица 2. Минералогический состав имитатора лунной пыли LMS-1D
№ п/п | Минералы и породы | Доля (масс.), % |
1 | Пироксен | 32.8 |
2 | Базальт, содержащий стекло | 32.0 |
3 | Анортозит | 19.8 |
4 | Оливин | 11.1 |
5 | Ильменит | 4.3 |
Таблица 3. Элементный состав имитатора лунной пыли LMS-1D, полученный с помощью рентгенофлуоресцентного анализа производителя (ExolitLab)
№ п/п | Оксид | Доля (масс.), % |
1 | Si O2 | 46.9 |
2 | MgO | 16.8 |
3 | Al2O3 | 12.4 |
4 | FeO | 8.6 |
5 | CaO | 7.0 |
6 | TiO2 | 3.6 |
7 | Na2O | 1.7 |
8 | K2O | 0.7 |
9 | MnO | 0.2 |
10 | P2O5 | 0.2 |
Рис. 4. Микрофотографии подготовленного образца имитатора лунной пыли LMS-1D с добавлением 10% металлического магния.
Рис. 5. Микрофотография подготовленного образца имитатора лунной пыли LMS-1D с добавлением 10% металлического магния с наложенными многослойными картами распределения элементов и карты распределения отдельных элементов. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи.
Вещество метеорита Царев
Минералогический и элементный состав метеорита Царев, представляющего собой хондрит петрографического типа L5, был изучен ранее (Cеменова и др., 1984; Мигдисова и др., 1982; Барсукова и др., 1982; Oshtrakh и др., 2008; 2013a; 2013b; Maksimova и др., 2014; 2017; 2018). Основными фазами являются оливин, ортопироксен, троилит, клинопироксен, металлическая фаза представлена в основном сплавом железа, никеля и кобальта.
Предоставленный нам образец весом 102 г был предварительно расколот на несколько частей, которые затем были размолоты в шаровой мельнице Fritsch Pulverisette 7 (в стакане из карбида вольфрама с использованием шариков из карбида вольфрама). Помол осуществляли при 600 об/мин 2 раза по 10 мин.
Размер частиц вещества метеорита после размола, измеренный с помощью метода динамического рассеяния света, лежит в диапазоне 0.2–19.7 мкм. Микрофотографии (рис. 6), полученные на РЭМ, в целом подтверждают такие размеры. Частицы имеют неправильную форму, в некоторых случаях с выделяющимися острыми ребрами. Стеклянных частиц сферической формы в образце не обнаружено. Частицы больших размеров представляют собой в основном агломераты более мелких частиц.
Рис. 6. Микрофотографии подготовленного образца вещества метеорита Царев, полученного после размола на шаровой мельнице.
В пробах вещества, исследованных с РЭМ и методом РЭДС, не обнаружено отдельных частиц железа или другого металла. Карты распределений элементов представлены на рис. 7, а элементный состав для отдельной пробы представлен в табл. 4. Состав в пределах ожидаемого, однако определить долю кобальта в образце не удалось в пределах погрешности метода. Наличие никеля и большое содержание железа указывают на то, что, несмотря на невозможность обнаружить на микрофотографиях отдельные частицы металлов, железоникелевые сплавы могут присутствовать в образце. Это нам дало возможность предположить, что самого вещества метеорита Царев будет достаточно для инициации микроволнового пробоя и не потребуется добавка дополнительного порошка металла.
Рис. 7. Микрофотография вещества метеорита Царев, полученного после размола на шаровой мельнице, и карты распределения элементов. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи.
Таблица 4. Элементный состав пробы вещества метеорита Царев
№ п/п | Элемент | Доля (масс.), % |
1 | C | 4.67 |
2 | O | 39.85 |
3 | Na | 0.58 |
4 | Mg | 11.72 |
5 | Al | 1.09 |
6 | Si | 14.46 |
7 | S | 1.93 |
8 | Cl | 0 |
9 | Ca | 1.38 |
10 | Fe | 22.10 |
11 | Co | 0 |
12 | Ni | 2.23 |
Проведенные нами в (Akhmadullina и др., 2023) исследования фазового состава образца вещества метеорита выявили только основные фазы в виде оливина и ортопироксена. Обнаружению остальных фаз методом рентгенофазового анализа (РФА) мешает их малое количество (содержание меньше 3% по объему) и низкая кристалличность для ряда фаз.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Ильменитовый концентрат
Рабочим газом в эксперименте являлся воздух атмосферного давления. Мощность микроволнового излучения составляла 300–400 кВт, а длительности импульсов 6–8 мс. Образец испытал воздействие пяти микроволновых импульсов с суммарной энергией 11.4 кДж. Разряд в порошковом образце ильменитового концентрата инициировался практически сразу на фронте (~100 мкс) микроволнового импульса. Фотографии образца до и после воздействия разряда приведены на рис. 8.
Рис. 8. Фотографии образцов, размещенных на кварцевой подложке внутри кварцевой трубки: (а) – ильменитовый концентрат до воздействия разряда; (б) – имитатор лунной пыли LMS-1D с добавлением порошка металлического магния до воздействия разряда; (в) – вещество метеорита Царев до воздействия разряда; (г) – ильменитовый концентрат после воздействия разряда; (д) – имитатор лунной пыли LMS-1D с добавлением порошка металлического магния после воздействия разряда; (е) – вещество метеорита Царев после воздействия разряда. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи.
Развитие разряда в порошковом образце сопровождается радиальным расширением плазменного образования над образцом до размеров порядка ширины микроволнового пучка. Это более длительный (0.5–1 мс) по сравнению с первичным пробоем процесс. В течение микроволнового импульса плазменно-пылевое образование обладает наибольшей температурой и интенсивностью свечения (рис. 9, кадр на 5.35 мс), визуально наблюдается разлет частиц в объем реактора. После окончания микроволнового импульса (рис. 9, кадр на 18.3 мс) интенсивность свечения плазменно-пылевого образования начинает спадать. В условиях атмосферного давления рабочего газа существующая в течение микроволнового импульса концентрация плазмы (~1014 см–3, измерялась ранее по штарковскому уширению линии водорода Hα в экспериментах с добавлением небольшого процента водородосодержащих примесей) должна за время порядка 1–2 мс спадать на несколько порядков (Райзер, 2009). Поэтому кадр высокоскоростной камеры на 18.3 мс (рис. 9) соответствует уже газопылевому облаку, а свечение вызвано тепловым излучением нагретого газа и отдельных пылевых частиц.
Рис. 9. Кадры развития микроволнового разряда в образце ильменитового концентрата. Время начала кадра (миллисекунды) от момента пробоя указано на каждом кадре в левом верхнем углу. Время экспозиции кадра 100 мкс. Мощность микроволнового излучения 300 кВт, длительность импульса микроволнового излучения 8 мс.
В спектрах излучения (рис. 10), зарегистрированных обзорным спектрометром (Avantes AvaSpec-3648-U80, спектральный диапазон 371–920 нм, разрешение 0.36 нм), линия обзора которого направлена снизу вверх и проходит через весь слой порошкового образца, зарегистрированы линии нейтрального железа Fe I, нейтрального титана Ti I, иона титана Ti II, молекулярные полосы TiO, FeO, а также линии примесей (Na, Li, K). Данный спектр позволяет определить температуру теплового излучения по континууму в виновской области спектра (рис. 11) (Voronova и др., 2021). Очевидно, что в тепловом излучении при такой линии обзора будет преобладать излучение твердого тела, а не плазмы или газа в плазменно-пылевом облаке. Поскольку энергии в импульсе микроволнового излучения (до 3 кДж) принципиально не хватит, чтобы нагреть всю массу (1 г) образца до измеряемых в эксперименте температур 1500–3000 К, то эта температура характеризует тонкий поверхностный слой, в котором и происходит основное взаимодействие частиц образца с плазмой и микроволновым излучением.
Рис. 10. Спектр излучения в эксперименте с созданием плазменно-пылевого облака в порошковом образце ильменитового концентрата в течение длительности микроволнового импульса.
Рис. 11. Динамика температуры поверхности порошкового образца ильменитового концентрата. Длительность микроволнового импульса отмечена серым прямоугольником.
Вращательная температура газовой компоненты плазменно-пылевого облака определялась по молекулярной полосе γ-TiO (Hermann и др., 2001) в спектре, полученном со спектрометром AvaSpec-ULS2048CL-EVO (210952U1: диапазон 520–739 нм, разрешение ~0.25 нм), обладающим лучшим разрешением, и линия обзора которого проходила над поверхностью порошкового образца параллельно. Вычислению вращательных температур мешает наличие теплового континуума, поэтому вычисленное значение имеет значительную погрешность Tr = 5500 ± 1500 К.
Более детальные спектры снимались со спектрометром AvaSpec-ULS4096-CL-2-EVO (2109527U2: диапазон 219–381 нм, спектральное разрешение ~0.1 нм; 2109528U2: диапазон 379–521 нм, спектральное разрешение ~0.1 нм). Температура электронов вычислялась по относительной интенсивности пар линий металлов (две пары линий Fe I 396.23 нм и 407.15 нм, 396.23 нм и 438.35 нм) в предположении, что существует равновесие между заселенностью некоторых электронных уровней элементов в газовой фазе и температурой электронного газа (Лохте-Хольтгревен, 1971), с использованием
(1)
где I – интенсивность линии, A – вероятность перехода, g – коэффициент вырождения, λ – длина волны, E – энергия верхнего уровня перехода, T – температура, k – постоянная Больцмана. Индексы 1 и 2 относятся к двум различным линиям одного элемента.
Полученная температура в 5000 К оказывается меньше среднего значения вращательной температуры, что может указывать на некоторые ошибки в допущениях используемых методов расчета или на неравномерность распределения температуры в плазменно-пылевом облаке.
Для получения РЭМ микрофотографий (рис. 12 и рис. 13) и карт распределения элементов (рис. 14 и рис. 15) по РЭДС пробы вещества ильменитового концентрата после воздействия микроволнового разряда отбирались как из основной массы вещества на кварцевом диске (рис. 12), так и с внутренних стенок кварцевой трубки (рис. 13). В пробе из основной массы вещества преобладают частицы с угловатой формой, как в исходном образце, но появилось и значительное количество сферических частиц. Сфероидизация частиц является характерным процессом плазменного воздействия (Самохин и др., 2019; Károly, Szépvölgyi, 2005). Сферические частицы имеют негладкую поверхность и пористую структуру. На крупных частицах (>10 мкм) осело некоторое количество более мелких (~1 мкм) частиц. Судя по картам распределений элементов (рис. 14 и рис. 15), заметного изменения элементного состава по сравнению с исходным образцом не произошло. Даже сферические частицы не имеют отличного от других частиц распределения элементов. Локальные измерения элементного состава (табл. 5) демонстрируют некоторый разброс содержания Fe, Ti и O.
Рис. 12. Микрофотографии ильменитового концентрата после воздействия микроволнового разряда. Проба взята из основной массы вещества на кварцевом диске.
Рис. 13. Микрофотографии ильменитового концентрата после воздействия микроволнового разряда. Проба взята с внутренних стенок кварцевой трубки.
Рис. 14. Многослойные карты распределения элементов в пробах ильменитового концентрата после воздействия микроволнового разряда: слева – проба из основной массы образца; справа – проба с внутренних стенок кварцевой трубки. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи.
Рис. 15. Микрофотография пробы ильменитового концентрата после воздействия микроволнового разряда с наложенными многослойными картами распределения элементов и карты распределения отдельных элементов. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи.
Таблица 5. Содержание кислорода, железа и титана в образце ильменитового концентрата до и после (пробы №№ 1–4) воздействия микроволнового разряда
№ п/п | Элемент, % | Доля (масс.) в исх. образце, % | Проба № 1. Доля (масс.) после эксперимента, % | Проба № 2 | Проба № 3 | Проба № 4 |
1 | O | 59.78 | 40.7 | 40.5 | 66.1 | 59.5 |
2 | Fe | 16.68 | 29.6 | 32.1 | 15.0 | 24.8 |
3 | Ti | 17.98 | 29.0 | 27.0 | 18.3 | 11.4 |
Имитатор лунной пыли LMS-1D
Рабочим газом в эксперименте являлся аргон атмосферного давления. Мощность микроволнового излучения составляла 400 кВт, а длительности импульсов 6 мс. Образец испытал воздействие пяти микроволновых импульсов с суммарной энергией 7.2 кДж. Разряд в порошковом образце имитатора лунной пыли LMS-1D (с добавлением 10% массовой доли порошка металлического магния) инициировался на фронте микроволнового импульса. Фотографии образца до и после воздействия разряда приведены на рис. 8. Динамика развития разряда в порошковом образце имитатора лунной пыли практически не отличается от образца ильменитового концентрата: на начальной стадии происходит радиальное расширение плазменного образования; наибольшая интенсивность излучения и температура плазменно-пылевого образования наблюдаются в течение микроволнового импульса (рис. 16, кадр на 5.35 мс), когда также визуально наблюдается разлет частиц в объем реактора; после окончания микроволнового импульса (рис. 16, кадр на 18.3 мс) интенсивность свечения плазменно-пылевого образования начинает спадать, как и температуры.
Рис. 16. Кадры развития микроволнового разряда в образце имитатора лунной пыли LMS-1D. Время начала кадра (миллисекунды) от момента пробоя указано на каждом кадре в левом верхнем углу. Время экспозиции кадра 100 мкс. Мощность микроволнового излучения 400 кВт, длительность импульса микроволнового излучения 6 мс.
В спектрах излучения (рис. 17), зарегистрированных с обзорным спектрометром, линия обзора которого проходит снизу вверх через весь слой порошкового образца, зарегистрированы линии нейтральных железа Fe I, титана Ti I, калия KI и его регулярного спутника рубидия Rb I, натрия Na I, иона железа Fe II, молекулярные полосы оксидов Mn O. Причем линии щелочных металлов обладают большой интенсивностью. На обзорном спектре отсутствуют полосы нейтрального магния или его иона, однако в эксперименте были зарегистрированы линии магния в ультрафиолетовой области с помощью спектрометра AvaSpec-ULS4096-CL-2-EVO. Динамика температуры поверхности образца, определенная по континууму в виновской области спектра, приведена на (рис. 18). Температура электронов, вычисленная по относительной интенсивности ряда линий железа (метод описан ниже), составила ~5500 К. Вследствие отсутствия полос излучения TiO, несмотря на наличие титана в составе LMS-1D в форме ильменита, определить вращательную температуру газа отработанным для образца ильменитового концентрата методом оказалось невозможно.
Рис. 17. Спектр излучения в эксперименте с созданием плазменно-пылевого облака в порошковом образце имитатора лунной пыли LMS-1D с добавлением порошка металлического магния в течение длительности микроволнового импульса.
Рис. 18. Динамика температуры поверхности порошкового образца имитатора лунной пыли LMS-1D с добавлением порошка металлического магния. Длительность микроволнового импульса отмечена серым прямоугольником.
По ряду линий железа Fe I (табл. 6) температура рассчитывалась исходя из формулы (1), приведенной к виду
(2)
где все параметры, кроме температуры, относятся к одной линии, а величина K одинакова для всех линий одного источника (в нашем случае нейтрального железа Fe I). Каждой линии соответствует точка в координатах и E. Эти точки должны лежать на прямой, угол наклона которой зависит только от температуры. Конкретные значения для каждого кадра вычислялись методом наименьших квадратов.
Таблица 6. Линии нейтрального железа Fe I, наблюдавшиеся в спектрах свечения плазменно-пылевого облака и для образца вещества метеорита Царев, и для имитатора лунной пыли LMS-1D
№ п/п | Линия | Длина волны λ, нм | gkAki, с–1 | Энергия верхнего уровня, Ek см–1 |
1 | Fe I | 381.584 | 1.12 × 108 | 38175.36 |
2 | Fe I | 382.0425 | 6.67 × 107 | 33095.94 |
3 | Fe I | 385.6371 | 4.64 × 106 | 26339.7 |
4 | Fe I | 386.5523 | 1.55 × 107 | 34017.1 |
5 | Fe I | 389.5656 | 9.39 × 106 | 26550.48 |
6 | Fe I | 389.9707 | 2.58 × 106 | 26339.7 |
7 | Fe I | 390.2946 | 2.14 × 107 | 38175.36 |
8 | Fe I | 400.5242 | 2.04 × 107 | 37521.16 |
9 | Fe I | 406.3594 | 6.65 × 107 | 37162.75 |
10 | Fe I | 407.1738 | 7.64 × 107 | 37521.16 |
11 | Fe I | 426.0474 | 3.99 × 107 | 42815.86 |
12 | Fe I | 432.5762 | 5.16 × 107 | 36079.37 |
13 | Fe I | 433.7046 | 1.02 × 106 | 35611.63 |
14 | Fe I | 438.3545 | 5.00 × 107 | 34782.42 |
15 | Fe I | 440.475 | 2.75 × 107 | 35257.32 |
16 | Fe I | 441.5122 | 1.19 × 106 | 35611.63 |
17 | Fe I | 452.8614 | 5.44 × 108 | 39625.8 |
На рис. 19 представлены микрофотографии пробы вещества имитатора лунной пыли LMS-1D с добавлением порошка металлического магния после воздействия микроволнового разряда. Проба на рис. 19 отбиралась со внутренних стенок кварцевой трубки. Среди осажденных частиц много очень мелкой пыли и частиц, по форме не отличающихся от исходных. Сферические частицы также встречаются, но реже, чем в образце ильменитового концентрата. Причем обнаруживаются и довольно крупные (~100 мкм) сферические частицы. На картах распределения элементов (рис. 20) можно отметить, что, как и в исходном образце, основные составляющие элементы распределены практически равномерно, за исключением магния, часть которого была добавлена в виде металлического порошка. Локальные измерения элементного состава в различных участках пробы и для частиц разной формы явно указывают на увеличение (до двух раз) доли магния по сравнению с составом исходной пробы имитатора лунной пыли LMS-1D с добавлением порошка металлического магния (табл. 7), что, видимо, связано с распылением и последующим осаждением на поверхности других частиц металлического магния, добавленного в виде порошка к имитатору. Вероятнее всего, магний присутствует в окисленном состоянии. Также можно отметить образование агломератов мелких частиц или оседания мелких частиц на крупные частицы, в некоторых случаях до состояния полного покрытия поверхности крупных частиц.
Рис. 19. Микрофотографии имитатора лунной пыли LMS-1D с добавлением порошка металлического магния после воздействия микроволнового разряда. Проба взята с внутренних стенок кварцевой трубки.
Рис. 20. Микрофотография, с наложенной многослойной картой распределения элементов, и карты распределения отдельных элементов в образце имитатора лунной пыли LMS-1D с добавлением 10% металлического магния после воздействия микроволнового разряда. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи.
Таблица 7. Элементный состав имитатора лунной пыли LMS-1D с добавлением порошка металлического магния до и после (пробы №№ 1–6) воздействия микроволнового разряда
№ п/п | Элемент | Доля (масс.) в исх. образце, % | Проба № 1. Доля (масс.) после эксперимента, % | Проба № 2 | Проба № 3 | Проба № 4 | Проба № 5 | Проба № 6 |
1 | N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
2 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.56 |
3 | K | 0.13 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.24 | 0.53 |
4 | Na | 1.06 | 0.49 | 0.32 | 0.26 | 0.80 | 0.95 | 0.86 |
5 | Ti | 0.72 | 0.82 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Fe | 0.73 | 1.59 | 0.00 | 4.53 | 4.88 | 0.00 | 0.00 |
7 | Ca | 1.51 | 2.63 | 2.21 | 1.21 | 2.46 | 0.21 | 0.43 |
8 | Al | 4.63 | 4.09 | 4.35 | 1.23 | 1.32 | 0.00 | 0.42 |
9 | Si | 11.90 | 12.10 | 10.75 | 10.36 | 6.21 | 1.43 | 2.34 |
10 | Mg | 22.36 | 25.74 | 22.04 | 32.08 | 41.37 | 42.62 | 51.94 |
11 | O | 56.94 | 52.11 | 59.71 | 48.71 | 42.52 | 52.43 | 42.92 |
Вещество метеорита Царев
Рабочим газом в эксперименте являлся воздух атмосферного давления. Как часть дополнительного эксперимента в кварцевую трубку были помещены титановые пластины (рис. 8). Они располагались длинной стороной перпендикулярно вектору напряженности электрического поля линейно поляризованного микроволнового излучения. Мощность микроволнового излучения увеличивалась от импульса к импульсу от 200 кВт 400 кВт, а длительности импульсов от 4 мс до 6 мс. Образец испытал воздействие 17 микроволновых импульсов с суммарной энергией 39.2 кДж. Разряд в порошковом образце вещества метеорита Царев инициировался с задержкой 1–2 мс от начала фронта микроволнового импульса. Фотографии образца до и после воздействия разряда приведены на рис. 8.
Развитие разряда в веществе метеорита Царев (рис. 21) имеет те же стадии, что и два приведенных выше образца: радиальное расширение плазменного образования; стадия с наибольшей интенсивностью излучения и температурой плазменно-пылевого образования в течение микроволнового импульса; стадия остывания и разлета после окончания микроволнового импульса. Меньшая интенсивность и длительность свечения на кадрах рис. 21 по сравнению с рис. 9 и рис. 16 может быть связана с использованием существенно меньшего времени экспозиции.
Рис. 21. Кадры развития микроволнового разряда в образце вещества метеорита Царев. Время начала кадра (миллисекунды) от момента пробоя указано на каждом кадре в левом верхнем углу. Время экспозиции кадра 0.6 мкс. Мощность микроволнового излучения 400 кВт, длительность импульса микроволнового излучения 6 мс.
На обзорном спектре излучения (рис. 22) для направления приема излучения снизу вверх через весь слой порошкового образца присутствует много линий нейтрального железа Fe I, линии нейтрального титана Ti I, кальция Ca I, лития Li I, калия K I, рубидия Rb I, натрия Na I, иона кальция Ca II, молекулярные полосы оксидов MgO, Ca O. В работе (Akhmadullina и др., 2023) были обнаружены и линии иона железа Fe II в ультрафиолетовой области. Получаемые нами в эксперименте спектры имеют схожие черты со спектрами метеоров (Borovička, 1994; Vojáček и др., 2015), со спектрами расширяющегося газового облака после ударного события (Schultz, Eberhardy, 2015) и со спектрами при моделировании ударного события с помощью лазерной абляции (Ferus и др., 2018; 2019; Hawkes и др., 2008; Křivková и др., 2021). Сходство состоит в наличии большого числа линий железа и кальция (табл. 6, табл. 8). Из наиболее существенных отличий стоит выделить: наличие интенсивного теплового континуума, отсутствие линий двукратно ионизованного железа и других металлов. Детальное сравнение спектров заслуживает отдельного исследования.
Рис. 22. Спектр излучения в эксперименте с созданием плазменно-пылевого облака в порошковом образце вещества метеорита Царев в течение длительности микроволнового импульса.
Таблица 8. Линии нейтрального кальция Ca I и иона кальция Ca II, наблюдавшиеся в спектре свечения плазменно-пылевого облака для образца вещества Царев
№ п/п | Элемент | Длина волны, нм | gkAki, с–1 | Энергия нижнего уровня, Ei см–1 | Энергия верхнего уровня, Ek см–1 |
1 | Ca I | 336.192 | 1.56 × 108 | 15315.943 | 45052.374 |
2 | Ca I | 336.214 | 3.20 × 107 | 15315.943 | 45050.419 |
3 | Ca I | 347.476 | 1.40 × 107 | 15210.063 | 43980.767 |
4 | Ca I | 363.075 | 1.48 × 108 | 15210.063 | 42744.716 |
5 | Ca I | 363.097 | 4.59E+07 | 15210.063 | 42743.002 |
6 | Ca II | 370.603 | 1.80 × 108 | 25191.51 | 52166.93 |
7 | Ca II | 37369 | 3.40 × 108 | 25414.4 | 52166.93 |
8 | Ca I | 374.835 | 1.70 × 107 | 20335.36 | 47006.194 |
9 | Ca II | 393.366 | 5.88 × 108 | 0 | 25414.4 |
10 | Ca II | 396.847 | 2.80 × 108 | 0 | 25191.51 |
11 | Ca I | 422.673 | 6.54 × 108 | 0 | 23652.304 |
12 | Ca I | 428.301 | 2.17 × 108 | 15210.063 | 38551.558 |
13 | Ca I | 428.936 | 1.80 × 108 | 15157.901 | 38464.808 |
14 | Ca I | 429.899 | 1.40 × 108 | 15210.063 | 38464.808 |
15 | Ca I | 430.253 | 6.80 × 108 | 15315.943 | 38551.558 |
16 | Ca I | 430.774 | 1.99 × 108 | 15210.063 | 38417.543 |
17 | Ca I | 431.865 | 2.20 × 108 | 15315.943 | 38464.808 |
18 | Ca I | 443.496 | 3.40 × 108 | 15210.063 | 37751.867 |
19 | Ca I | 443.569 | 1.03 × 108 | 15210.063 | 37748.197 |
20 | Ca I | 445.478 | 6.10 × 108 | 15315.943 | 37757.449 |
21 | Ca I | 445.589 | 1.00 × 108 | 15315.943 | 37751.867 |
22 | Ca I | 445.661 | 7.35 × 106 | 15315.943 | 37748.197 |
23 | Ca I | 452.694 | 1.20 × 108 | 21849.634 | 43933.477 |
24 | Ca I | 504.162 | 9.90 × 107 | 21849.634 | 41679.008 |
25 | Ca I | 527.027 | 2.50 × 108 | 20371 | 39340.08 |
Значения температуры поверхности образца приведены на (рис. 23). Температура электронов, вычисленная по относительной интенсивности пар линий кальция Ca I (линии 422.673 нм и 430.253 нм), имеющих существенную разницу в энергии верхнего уровня и присутствующих в нескольких временных окнах регистрации в течение одного разряда, составила ~7900 К. Динамика изменения температуры электронов приведена в табл. 9 для расчетов по вышеуказанным линиям Ca I (TCa) и ряду линий Fe I (TFe) (метод приведен выше). Расчет проводился для указанных в табл. 9 моментов времени, которые находились как в пределах длительности (≤ 4 мс) микроволнового импульса, так и после его окончания (> 4 мс). Время экспозиции спектра составляет 0.5 мс, а время, приведенное в табл. 9, соответствует началу временного интервала накопления спектра.
Рис. 23. Динамика температуры поверхности порошкового образца вещества метеорита. Длительность микроволнового импульса отмечена серым прямоугольником.
Таблица 9. Динамика изменения температуры электронов
№ п/п | Время, мс | TCa, К | TFe, К |
1 | 1.5 | 8100 | 6000 |
2 | 2.7 | 6900 | 6400 |
3 | 3.9 | 7700 | 6100 |
4 | 5.1 | 8900 | 6500 |
Выполненный на РЭМ анализ проб вещества метеорита Царев после воздействия микроволнового разряда приведен на рис. 24. В пробе, отобранной с внутренних стенок кварцевой трубки, содержатся в основном сферические частицы. Стоит отметить наличие сферических частиц, размеры которых (~100 мкм) больше размеров частиц исходного вещества, что указывает на вероятное слияние микрокапель расплава, образующегося при воздействии микроволнового разряда. Также в пробе присутствуют пористые частицы и частицы сложной формы. На поверхности крупных частиц наблюдаются субмикронные частицы и прилипшие к ним мелкие сферические частицы. Элементный состав сферических частиц близок друг другу (рис. 25), но можно отметить локальные увеличения концентраций никеля, алюминия, серы и натрия в пределах отдельных частиц. Элементный состав отдельной пробы вещества метеорита Царев после воздействия микроволнового разряда представлен в табл. 10 вместе с элементным составом исходного образца для удобства сравнения. Проведенный нами в работе (Akhmadullina и др., 2023) РФА не показал появления новых фаз или изменения соотношения основных фаз (оливин основная фаза, ортопироксен вторичная) после воздействия на образец микроволнового разряда.
Рис. 24. Микрофотографии вещества метеорита Царев после воздействия микроволнового разряда. Проба взята с внутренних стенок кварцевой трубки.
Рис. 25. Микрофотография с наложенной многослойной картой распределения элементов и карты распределения отдельных элементов в пробе вещества метеорита Царев после воздействия микроволнового разряда. Цветной рисунок доступен в электронной версии статьи.
Таблица 10. Элементный состав в исходной пробе вещества метеорита Царев и в пробе после воздействия микроволнового разряда по локальным измерениям
№ п/п | Элемент | Доля (масс.) в исх. образце, % | Доля (масс.) после эксперимента,% |
1 | C | 4.67 | 9.55 |
2 | O | 39.85 | 39.41 |
3 | Na | 0.58 | 1.12 |
4 | Mg | 11.72 | 9.94 |
5 | Al | 1.09 | 1.29 |
6 | Si | 14.46 | 18.40 |
7 | S | 1.93 | 0.76 |
8 | Cl | 0 | 0.41 |
9 | Ca | 1.38 | 2.56 |
10 | Fe | 22.10 | 16.57 |
11 | Co | 0 | 0 |
12 | Ni | 2.23 | 1.44 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В экспериментах по микроволновому разряду в порошковых образцах были получены плазменно-пылевые облака из веществ, релевантных для космических процессов образования многофазной плазменно-пылевой среды. Динамика развития плазменно-пылевых облаков имела характерные стадии: инициирования разряда; радиального расширения плазменного образования над поверхностью образцов; поддержания максимальной температуры плазмы и газа в течение длительности микроволнового импульса с идущим испарением вещества и вылетом частиц образца в объем; остывания и разлета после завершения микроволнового импульса. В спектрах излучения плазменно-пылевых облаков зарегистрированы линии нейтральных атомов, линии ионов и молекулярные полосы оксидов веществ, входящих в состав исходных проб. Измеренные температуры электронов достигали 7000 К, газа – 5500 К, поверхности порошкового образца – 2000 К.
Возникновение низкопорогового микроволнового разряда в порошковом образце ильменитового концентрата и вещества метеорита Царев без добавления к ним металлических порошков интересно само по себе. Это является следствием достаточного собственного содержания проводящих фаз в этих образцах для возникновения разряда такого типа. Данный факт может оказаться необходимым для учета, например, в прикладных задачах по спеканию лунного реголита путем облучения микроволновым излучением (Taylor, Meek, 2005; Meurisse и др., 2017). При превышении некоторого порога (10–20 кВт/см2) по интенсивности волны и достаточном содержании проводящей фазы может возникнуть разряд. Причем для возникновения разряда условия вакуума не должны являться помехой, поскольку он будет развиваться в облаке собственных паров нагреваемого реголита. В дальнейшем было бы интересно провести такой эксперимент в условиях глубокого вакуума.
Результатом воздействия микроволнового разряда на все образцы стало изменение морфологии частиц (произошла сфероидизация частиц) и до некоторой степени – размеров частиц (появились отдельные сферические частицы, более крупные, чем в исходных образцах). В случае образца имитатора лунной пыли LMS-1D в пробах наблюдалось меньшее количество сферических частиц, чем для двух других образцов. На поверхности крупных частиц наблюдалось появление частиц субмикронного размера. При этом очевидного изменения элементного состава, определенного методом РЭДС для всех образцов, не обнаружено.
Использованный в работе экспериментальный подход возможно применить для исследований предбиологического синтеза органических веществ в условиях плазменно-пылевых облаков с важной ролью пылевых частиц как центров кристаллизации и/или как катализатора (Parmon, 1999; Peters и др., 2023; Saladino и др., 2013; 2018; Snytnikov, 2010; Snytnikov и др., 2002). Для этого необходимо в качестве порошковых образцов использовать либо минералы, характерные для космических объектов, либо непосредственно вещество космических объектов. В качестве рабочего газа может выступать смесь газов, предполагаемая для места протекания процесса (например, модель первичной атмосферы Земли).
Плазменно-пылевые методы оказываются эффективными для изучения возможности процессов синтеза органических соединений в условиях ранней Земли, в частности во время пролетов метеорных тел в атмосфере. При таком пролете образуется метеороидный след, содержащий различные фазы веществ, в том числе пылевую компоненту. Органическое вещество достаточно легко синтезируется на твердых катализаторах. Для этого они должны содержать, например, железо, никель и кремний, которые присутствуют в метеорном веществе. Также в результате развития волн и неустойчивостей в пылевой плазме метеороидных хвостов пылевые частицы могут концентрироваться в локальных областях, что повышает вероятность реализации химических реакций (Morozova, Popel, 2020; 2021a; 2021b; 2022a; 2022b; 2023). Энергии для возбуждения колебательных степеней свободы при температурах, достигаемых в метеорных следах, дают возможность развития свободнорадикальных химических процессов и протекания более широкого спектра химических реакций (Gurel, Gurel, 1983). Также в протопланетных дисках можно ожидать развитие процессов синтеза органических соединений в областях концентрации пыли, особенно в случае ее зарядки и присутствия электронов и ионов в окружающей плазме, а также во время вспышек протозвезд (Морозова, Кузнецов, 2023; Morozova и др., 2022c; Snytnikov др., 2002).
Авторы благодарят Российский научный фонд за финансовую поддержку, проект № 21-72-10164.
About the authors
В. Д. Борзосеков
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН; Российский университет дружбы народов
Author for correspondence.
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва; Москва
Н. С. Ахмадуллина
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
А. С. Соколов
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
Т. Э. Гаянова
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
А. Д. Резаева
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН; Российский университет дружбы народов
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва; Москва
В. Д. Степахин
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
Е. М. Кончеков
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
Д. В. Малахов
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
Е. В. Воронова
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
И. Р. Нугаев
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
В. П. Логвиненко
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН; Российский университет дружбы народов
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва; Москва
А. В. Князев
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
А. А. Летунов
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
Д. Е. Харлачев
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
Е. А. Образцова
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва; Долгопрудный
Т. И. Морозова
Институт космических исследований РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
М. А. Зайцев
Институт космических исследований РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
А. В. Ищенко
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Екатеринбург
И. А. Вайнштейн
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Екатеринбург
В. И. Гроховский
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Екатеринбург
О. Н. Шишилов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет); МИРЭА – Российский технологический университет
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Долгопрудный; Москва
Н. Н. Скворцова
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Email: borzosekov@fpl.gpi.ru
Russian Federation, Москва
References
- Барсуков В.Л., Сурков Ю.А. (ред.) Грунт из материкового района Луны. М.: Наука, 1979. 708 с.
- Барсуков В.Л. (ред.) Лунный грунт из Моря Кризисов. М.: Наука, 1980. 360 с.
- Барсукова Л.Д., Харитонова В.Я., Банных Л.Н. Химический состав метеорита Царев // Метеоритика. 1982. Вып. 41. С. 41–43.
- Бронштэн В.А. Физика метеорных явлений. М.: Наука, 1981. 416 с.
- Виноградов А.П. (ред.) Лунный грунт из Моря Изобилия. М.: Наука, 1974. 624 с.
- Кузнецов И.А., Захаров А.В., Дольников Г.Г., Ляш А.Н., Афонин В.В., Попель С.И., Шашкова И.А., Борисов Н.Д. Лунная пыль: свойства и методы исследований // Вестн. НПО им. С.А. Лавочкина. 2016. № 4 (34). С. 20–32.
- Лохте-Хольтгревен В.(ред.) Методы исследования плазмы. М.: Мир, 1971. 552 с.
- Мигдисова Л.Ф., Заславская Н.И., Иванов А.В., Щербовский Е.Я., Левский Л.К. Особенности состава и структуры метеорита Царев // Метеоритика. 1982. № 41. С. 13–30.
- Морозова Т.И., Кузнецов И.А. Фотозарядка пыли в условиях протопланетных дисков // Вестн. Московского университета. Сер. 3. Физика. Астрономия. 2023. Т. 78. № 3. id. 2330802.
- https://doi.org/10.55959/MSU0579-9392.78.2330802
- Райзер Ю.П. Физика газового разряда. Долгопрудный: Изд. дом “Интеллект”, 2009. 736 с.
- Самохин А.В., Фадеев А.А., Алексеев Н.В., Синайский М.А., Суфияров В.Ш., Борисов Е.В., Корзников О.В., Федина Т.В., Водовозова Г.С., Барышков С.В. Сфероидизация порошков на основе железа в потоке плазмы электродугового плазмотрона и их применение в селективном лазерном плавлении // Физика и химия обработки материалов. 2019. № 4. С. 12–20. https://doi.org/10.30791/0015-3214-2019-4-12-20
- Cеменова Л.Ф., Фисенко А.В., Кашкарова В.Г., Мельникова Л.Н., Безрогова Е.В., Помыткина В.А., Лаврухина А.К. Исследование химического состава минеральных фракций хондрита Царев // Метеоритика. 1984. № 43. С. 114–122.
- Флоренский К.П., Базилевский А.Т., Николаева О.В. Лунный грунт: свойства и аналоги. Модель 1974 года. Монография. М.: Всероссийский институт научной и технической информации РАН, 1975. 72 с.
- Akhmadullina N.S., Skvortsova N.N., Obraztsova E.A., Stepakhin V.D., Konchekov E.M., Letunov A.A., Konovalov A.A., Kargin Yu.F., Shishilov O.N. Plasma-chemical processes under high-power gyrotron’s discharge in the mixtures of metal and dielectric powders // Chem. Phys. 2019. V. 516. P. 63–70. https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2018.08.023
- Akhmadullina N.S., Borzosekov V.D., Skvortsova N.N., Stepakhin V.D., Gusein-Zade N.G., Malakhov D.V., Knyazev A.V., Gayanova T.E., Kozak A.K., Sokolov A.S., Sarksyan K.A., Ishchenko A.V., Weinstein I.A., Grokhovsky V.I., Shishilov O.N. Interaction of the substance of the Tsarev meteorite with radiation from a powerful gyrotron: Dusty plasma cloud formation and phase transformations // Fusion Sci. and Technology. 2023. Published online 19 Sep 2023. https://doi.org/10.1080/15361055.2023.2250669
- Basu A. Nanopahse Fe in lunar soils // J. Earth System Sci. 2005. V. 114. P. 375–380. https://doi.org/10.1007/BF02702956
- Batanov G.M., Berezhetskaya N.K., Kossyi I.A., Magunov A.N., Silakov V.P. Interaction of high-power microwave beams with metal-dielectric media // Eur. Phys. J. Appl. Phys. 2004. V. 26. P. 11–16. https://doi.org/10.1051/epjap:2004016
- Batanov G.M., Berezhetskaya N.K., Borzosekov V.D., Iskhakova L.D., Kolik L.V., Konchekov E.M., Letunov A.A., Malakhov D.V., Milovich F.O., Obraztsova E.A., Obraztsova E.D., Petrov A.E., Sarksyan K.A., Skvortsova N.N., Stepakhin V.D., Kharchev N.K. Application of microwave discharge for the synthesis of TiB2 and BN nano- and microcrystals in a mixture of Ti-B powders in a nitrogen atmosphere // Plasma Phys. Rep. 2013. V. 39. P. 843–848. https://doi.org/10.1134/S1063780X13100024
- Batanov G.M., Kossyi I.A. Pulsed microwave discharges in powder mixtures: Status, problems, and prospects // Plasma Phys. Rep. 2015. V. 41. P. 847–857. https://doi.org/10.1134/S1063780X15090020
- Batanov G.M., Borzosekov V.D., Voronova E.V., Kachmar V.V., Kolik L.V., Konchekov E.M., Letunov A.A., Malakhov D.V., Petrov A.E., Sarksyan K.A., Skvortsova N.N., Stepakhin V.D., Kharchev N.K. Microwave discharge in gas above regolith surface // Plasma Phys. Rep. 2022. V. 48. P. 408–414. https://doi.org/10.1134/S1063780X22040031
- Best S.R., Rose M.F. A plasma drag hypervelocity particle accelerator (HYPER) // Int. J. Impact Eng. 1999. V. 23. № 1. Pt 1. P. 67–76. https://doi.org/10.1016/S0734-743X(99)00063-9
- Bezaeva N.S., Badjukov D.D., Rochette P., Gattacceca J., Trukhin V.I., Kozlov E.A., Uehara M. Experimental shock metamorphism of the L4 ordinary chondrite Saratov induced by spherical shock waves up to 400 GPa // Meteorit. and Planet. Sci. 2010. V. 45. № 6. P. 1007–1020. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2010.01069.x
- Blanchard M.B., Cunningham G.G. Artificial meteor ablation studies: Olivine // J. Geophys. Res. 1974. V. 79. № 26. P. 3973–3980. https://doi.org/10.1029/JB079i026p03973
- Bones D.L., Gómez Martín J.C., Empson C.J., Carrillo Sánchez J.D., James A.D., Conroy T.P., Plane J.M.C. A novel instrument to measure differential ablation of meteorite samples and proxies: The Meteoric Ablation Simulator (MASI) // Rev. Sci. Instrum. 2016. V. 87. № 9. id. 094504. https://doi.org/10.1063/1.4962751
- Borovička J. Two components in meteor spectra // Planet. and Space Sci. 1994. V. 42. № 2. P. 145–150. https://doi.org/10.1016/0032–0633(94)90025–6
- Bykov Yu.V., Rybakov K.I., Semenov V.E. High-temperature microwave processing of materials // J. Phys. D: Appl. Phys. 2001. V. 34. id. R55. https://doi.org/10.1088/0022-3727/34/13/201
- Chhabildas L.C., Kmetyk L.N., Reinhart W.D., Hall C.A. Enhanced hypervelocity launcher – capabilities to 16 km/s // Int. J. Impact Eng. 1995. V. 17. № 1–3. P. 183–194. https://doi.org/10.1016/0734-743X(95)99845-I
- Egorov S.V., Eremeev A.G., Plotnikov I.V., Rybakov K.I., Kholoptsev V.V., Bykov Yu.V. Absorption of microwaves in metal-ceramic powder materials // Radiophys. and Quantum Electronics. 2010. V. 53. № 5–6. P. 354–362. https://doi.org/10.1007/s11141-010-9234-8
- Ferus M., Koukal J., Lenža L., Srba J., Kubelík P., Laitl V., Zanozina E.M., Pavel V., Kaiserová T., Knížek A., Rimmer P., Chatzitheodoridis E., Civiš S. Calibration-free quantitative elemental analysis of meteor plasma using reference laser-induced breakdown spectroscopy of meteorite samples // Astron. and Astrophys. 2018. V. 610. id. A73 (12 p.) https://doi.org/10.1051/0004-6361/201629950
- Ferus M., Kubelík P., Petera L., Lenža L., Koukal J., Křivková A., Laitl V., Knížek A., Saeidfirozeh H., Pastorek A., Kalvoda T., Juha L., Dudžák R., Civiš S., Chatzitheodoridis E., Krůs M. Main spectral features of meteors studied using a terawatt-class high-power laser // Astron. and Astrophys. 2019. V. 630. id. A127 (20 p.). https://doi.org/10.1051/0004-6361/201935816
- Ferus M., Rimmer P., Cassone G., Knížek A., Civiš S., Šponer J.E., Ivanek O., Šponer J., Saeidfirozeh H., Kubelík P., Dudžák R., Petera L., Juha L., Pastorek A., Křivková A., Krůs M. One-pot hydrogen cyanide-based prebiotic synthesis of canonical nucleobases and glycine initiated by high-velocity impacts on early Earth // Astrobiology. 2020. V. 20. № 12. P. 1476–1488.
- http://doi.org/10.1089/ast.2020.2231
- Friichtenicht J.F. Two-million-volt electrostatic accelerator for hypervelocity research // Rev. Sci. Instrum. 1962. V. 33. № 2. P. 209–212. https://doi.org/10.1063/1.1746548
- Fulvio D., Fuks Maron L., Cires Perez Y., Tahir, Del Rosso T. Micrometeorite bombardment simulated by ns-pulsed laser ablation: Morphological characterization of the impact craters // Icarus. 2021. V. 366. id. 114532. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114532
- Gayanova T.E., Voronova E.V., Kuznetsov S.V. Obraztsova E.A., Skvortsova N.N., Sokolov A.S., Nugaev I.R., Stepakhin V.D. Synthesis of microstructures of hexagonal boron nitride in gyrotron discharge in metal–dielectric powder mixtures // High Energy Chem. 2023. V. 57. Suppl. 1. S. 53–56. https://doi.org/10.1134/S0018143923070111
- Gerasimov M.V., Ivanov B.A., Yakovlev O.I., Dikov Yu.P. Physics and chemistry of impacts // Earth, Moon and Planets. 1998. V. 80. P. 209–259. https://doi.org/10.1023/A:1006322032494
- Gerasimov M.V., Safonova E.N. Shock processes role in abiotic synthesis of organics matter at the early stages of the Earth formation // Problemy zarozhdeniya i evolyutsii biosfery (Problems of Biosphere Origin and Evolution) / Ed. Galimov E.M. M.: URSS, 2008. P. 145–153.
- Goetz C., Gunell H., Volwerk M., Beth A., Eriksson A., Galand M., Henri P., Nilsson H., Simon Wedlund C., Alho M., Andersson L., Andre N., De Keyser J., Deca J., Ge Y., Glassmeier K.-H., Hajra R., Karlsson T., Kasahara S., Kolmasova I., LLera K., Madanian H., Mann I., Mazelle C., Odelstad E., Plaschke F., Rubin M., Sanchez-Cano B., Snodgrass C., Vigren E. Cometary plasma science // Exp. Astron. 2022. V. 54. P. 1129–1167. https://doi.org/10.1007/s10686-021-09783-z
- Gómez Martín J.C., Bones D.L., Carrillo-Sánchez J.D., James A.D., Trigo-Rodríguez J.M., Fegley B.Jr., Plane J.M.C. Novel experimental simulations of the atmospheric injection of meteoric metals // Astrophys. J. 2017. V. 836. id. 212 (26 p.). https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa5c8f
- Grokhovsky V.I., Muftakhetdinova R.F., Yakovlev G.A., Brusnitsyna E.V., Petrova E.V. Post-impact metamorphism of the Chelyabinsk meteorite in shock experiment // Planet. and Space Sci. 2020. V. 192. id. 105050. https://doi.org/10.1016/j.pss.2020.105050
- Gurel D., Gurel O. Oscillations in chemical reactions. Berlin. Heidelberg. New York, Tokio: Springer-Verlag, 1983. 146 p.
- Hawkes R.L., Milley E.P., Ehrman J.M., Woods R.M., Hoyland J.D., Pettipas C.L., Tokaryk D.W. What can we learn about atmospheric meteor ablation and light production from laser ablation? // Earth, Moon and Planet. 2008. V. 102. P. 331–336. https://doi.org/10.1007/s11038-007-9186-y
- Heiken G., Vaniman D., French B. (Eds) Lunar Sourcebook. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991. Р. 286–356.
- Helber B., Dias B., Bariselli F., Zavalan L.F., Pittarello L., Goderis S., Soens B., McKibbin S.J., Claeys P., Magin T.E. Analysis of meteoroid ablation based on plasma wind-tunnel experiments, surface characterization, and numerical simulations // Astrophys. J. 2019. V. 876. № 2. id. 120 (14 p.). https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab16f0
- Hermann J., Perrone A., Dutouquet C. Analyses of the TiO-γ system for temperature measurements in a laser-induced plasma // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2001. V. 34. 153–164. https://doi.org/10.1088/0953-4075/34/2/303
- Hudepohl A., Rott M., Igenbergs E. Coaxial plasma accelerator with compressor coil and radial gas injection // IEEE Trans. Magn. 1989. V. 25. Р. 232–237. https://doi.org/10.1109/20.22540
- Igenbergs E., Aigner S., Hüdepohl A., Iglseder H., Kuczera H., Rott M., Weishaupt U. Launcher technology, in-flight velocity measurement and impact diagnostics at the TUM/LRT // Int. J. Impact Eng. 1987. V. 5. № 1–4. P. 371–385. https://doi.org/10.1016/0734-743X(87)90054-6
- Jenniskens P. Meteors as a delivery vehicle for organic matter to the early Earth // Meteoroids 2001 Conf., ESA Special Publication // 2001. V. 495. P. 247–254.
- Jenniskens P., Schaller E.L., Laux C.O., Wilson M.A., Schmidt G., Rairden R.L. Meteors do not break exogenous organic molecules into high yields of diatomics // Astrobiology. 2004. V. 4. № 1. P. 67–79.
- http://doi.org/10.1089/153110704773600249
- Johnstone A.D. (Ed) Cometary Plasma Processes. Geophysical Monograph Series. American Geophysical Union, 2013. 364 p.
- Kachmar V.V., Moshkina K.G., Borzosekov V.D., Sorokin A.A., Skvortsova N.N. Non-Gaussian distribution of regolith particles deposited on tantalum and molybdenum surfaces under gyrotron pulsed radiation // J. Phys.: Conf. Ser. 2021. V. 2036. id. 012030. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2036/1/012030
- Károly Z., Szépvölgyi J. Plasma spheroidization of ceramic particles // Chemical Eng. and Processing: Process Intensification. 2005. V. 44. № 2. P. 221–224. https://doi.org/10.1016/j.cep.2004.02.015
- Křivková A., Petera L., Laitl V., Kubelík P., Chatzitheodoridis E., Lenža L., Kouka J., Knížek A., Dudžák R., Páclík D., Civiš S., Krůs M., Ferus M. Application of a dielectric breakdown induced by high-power lasers for a laboratory simulation of meteor plasma // Exp. Astron. 2021. V. 51. P. 425–451. https://doi.org/10.1007/s10686-020-09688-3
- Kuznetsov I.A., Zakharov A.V., Zelenyi L.M., Popel S.I., Morozova T.I., Shashkova I.A., Dolnikov G.G., Lyash A.N., Dubov A.E., Viktorov M.E., Topchieva A.P., Klumov B.A., Usachev A.D., Lisin E.A., Vasiliev M.M., Petrov O.F., Poroikov A. Yu. Dust particles in space: Opportunities for experimental research // Astron. Rep. 2023. V. 67. P. 35–60. https://doi.org/10.1134/S1063772923010110
- Lexow B., Wickert M., Thoma K., Schäfer F., Poelchau M.H., Kenkmann T. The extra-large light-gas gun of the Fraunhofer EMI: Applications for impact cratering research // Meteoritics and Planet. Sci. 2013. V. 48. P. 3–7. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2012.01427.x
- Litvak A.G., Denisov G.G., Glyavin M.Y. Russian gyrotrons: achievements and trends // IEEE J. Microwaves. 2021. V. 1. № 1. P. 260–268. https://doi.org/10.1109/JMW.2020.3030917
- Loehle S., Zander F., Hermann T., Eberhart M., Meindl A., Oefele R., Vaubaillon J., Colas F., Vernazza P., Drouard A., Gattacceca J. Experimental simulation of meteorite ablation during Earth entry using a plasma wind tunnel // Astrophys. J. 2017. V. 837. id. 112 (10 p.). https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa5cb5
- Long-Fox J.M., Britt D.T. Characterization of planetary regolith simulants for the research and development of space resource technologies // Frontiers in Space Technol. 2023. V. 4. id. 1255535 (16 p.). https://doi.org/10.3389/frspt.2023.1255535
- Madison A., Landsman Z., Long-Fox J., Metke A., Krol K., Easter P., Sipe C., Weber L., Britt D. Lunar dust simulants and their applications // Conf. Earth and Space. 2022. P. 86–94. https://doi.org/10.1061/9780784484470.008
- Maksimova A.A., Oshtrakh M.I., Klencsár Z., Petrova E.V., Grokhovsky V.I., Kuzmann E., Homonnay Z., Semionkin V.A. A comparative study of troilite in bulk ordinary chondrites Farmington L5, Tsarev L5 and Chelyabinsk LL5 using mössbauer spectroscopy with a high velocity resolution // J. Mol. Struct. 2014. V. 1073. P. 196–201. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2014.05.049
- Maksimova A.A., Oshtrakh M.I., Petrova E.V., Grokhovsky V.I., Semionkin V.A. Comparison 263 of iron-bearing minerals in ordinary chondrites from H, L and LL groups using Mössbauer spectroscopy with a high velocity resolution // Spectrochim. Acta. Part A: Molec. and Biomolec. Spectroscopy. 2017. V. 172. P. 65–76. https://doi.org/10.1016/j.saa.2016.04.032
- Maksimova A.A., Kamalov R.V., Chukin A.V., Felner I., Oshtrakh M.I. An analysis of orthopyroxene from Tsarev l5 meteorite using X-ray diffraction, magnetization measurement and Mössbauer spectroscopy // J. Mol. Struct. 2018. V. 1174. P. 6–11. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.06.040
- Managadze G.G. The synthesis of organic molecules in a laser plasma similar to the plasma that emerges in hypervelocity collisions of matter at the early evolutionary stage of the Earth and in interstellar clouds // J. Exp. Theor. Phys. 2003. V. 97. P. 49–60. https://doi.org/10.1134/1.1600796
- Martins Z., Price M., Goldman N., Sephton M.A., Burchell M.J. Shock synthesis of amino acids from impacting cometary and icy planet surface analogues // Nature Geosci. 2013. V. 6. P. 1045–1049. https://doi.org/10.1038/ngeo1930
- Meurisse A., Beltzung J.C., Kolbe M., Cowley A., Sperl M. Influence of mineral composition on sintering lunar regolith // J. Aerospace Eng. 2017. V. 30. № 4. id. 113695951. https://doi.org/10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000721
- Mocker A., Bugiel S., Auer S., Baust G., Colette A., Drake K., Fiege K.; Grün E., Heckmann F., Helfert S., Hillier J., Kempf S., Matt G., Mellert T., Munsat T., Otto K., Postberg F., Röser H.-P., Shu A., Sternovsky Z., Srama R. A 2 MV Van de Graaff accelerator as a tool for planetary and impact physics research // Rev. Sci. Instrum. 2011. V. 82. № 9. id. 095111. https://doi.org/10.1063/1.3637461
- Moroz L.V., Fisenko A.V., Semjonova L.F., Pieters C.M., Korotaeva N.N. Optical effects of regolith processes on S-asteroids as simulated by laser shots on ordinary chondrite and other mafic materials // Icarus. 1996. V. 122. № 2. P. 366–382. https://doi.org/10.1006/icar.1996.0130
- Morozova T.I., Popel S.I. On the plasma–dust processes accompanying meteor showers // Plasma Phys. Rep. 2020. V. 46. P. 1075–1088. https://doi.org/10.1134/S1063780X20100074
- Morozova T.I., Popel S.I. Electrophonic noises from meteors and dust acoustic modulational perturbations // J. Phys. Conf. Ser. 2021a. V. 1787. id. 012052. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1787/1/012052
- Morozova T.I., Popel S.I. Modulational interaction in a dusty plasma of meteoroid wakes // Geomagn. Aeron. 2021b. V. 61. P. 888–895. https://doi.org/10.1134/S0016793221060116
- Morozova T.I., Popel S.I. Lower hybrid waves upon interaction of meteor wakes with the Earth’s ionosphere // Plasma Phys. Rep. 2022a. V. 48. P. 774–777. https://doi.org/10.1134/S1063780X22600384
- Morozova T.I., Popel S.I. Modulational interaction of Langmuir waves and generation of magnetic field in meteoroid trails // Plasma Phys. Rep. 2022b. V. 48. P. 1075–1079. https://doi.org/10.1134/S1063780X22600414
- Morozova T.I., Garasev M.A., Kuznetsov I.A. On the possibility of dust grain destruction by the Coloumb explosion in protoplanetary disks // Radiophys. and Quantum Electronics. 2022c. V. 65. P. 1–8. https://doi.org/10.1007/s11141-022-10188-x
- Morozova T.I., Popel S.I. Some Aspects of Modulational Interaction in Earth’s Dusty Ionosphere Including Dusty Plasmas of Meteor Tails // Plasma Phys. Rep. 2023. V. 49. P. 65–69. https://doi.org/10.1134/S1063780X22601389
- NASA Lunar sample and photo catalog.
- https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/samplecatalog/ (accessed November 13, 2023)
- Oshtrakh M.I., Petrova E.V., Grokhovsky V.I., Semionkin V.A. A study of ordinary chondrites by Mössbauer spectroscopy with high-velocity resolution // Meteorit. and Planet. Sci. 2008. V. 43. № 5. P. 941–958. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2008.tb01091.x
- Oshtrakh M.I. Petrova E.V., Grokhovsky V.I., Semionkin V.A. Variations in quadrupole splitting of the 57Fe in the M1 and M2 sites of meteoritic olivines with different origin // Hyperfine Interact. 2013a. V. 222. P. 61–66. https://doi.org/10.1007/s10751-012-0694-4
- Oshtrakh M.I., Grokhovsky V.I., Petrova E.V., Larionov M. Yu., Goryunov M.V., Semionkin V.A. Mössbauer spectroscopy with a high velocity resolution applied for the study of meteoritic iron-bearing minerals // J. Mol. Struct. 2013b. V. 1044. P. 268–278. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2012.09.059
- Park J., Liu Y., Kihm K.D., Hill E., Taylor L.A. Submicron particle size distribution of Apollo 11 lunar dust // Earth and Space 2006: Engineering, Construction, and Operations in Challenging Environment. Proc. 2006. Pages: 1–6.
- https://doi.org/10.1061/40830(188)2
- Parmon V.N. Abiogenic catalysis in Nature // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Engineering Aspects. 1999. V. 151. № 1–2. P. 351–365. https://doi.org/10.1061/40830(188)27
- Peters S., Semenov D.A., Hochleitner R., Trapp O. Synthesis of prebiotic organics from CO2 by catalysis with meteoritic and volcanic particles // Sci. Rep. 2023. V. 13. id. 6843. https://doi.org/10.1038/s41598-023-33741-8
- Popel S.I., Zelenyi L.M., Golub' A.P., Dubinskii A.Yu. Lunar dust and dusty plasmas: Recent developments, advances, and unsolved problems // Planet. and Space Sci. 2018. V. 156. P. 71–84. https://doi.org/10.1016/j.pss.2018.02.010
- Popel S.I., Golub’ A.P., Zakharov A.V. Zelenyi L.M. Formation of microspherules of lunar regolith in plasma–dust processes initiated by meteoroid impacts // Plasma Phys. Rep. 2020. V. 46. P. 265–272. https://doi.org/10.1134/S1063780X20030101
- Prince B.S., Magnuson M.P., Chaves L.C., Thompson M.S., Loeffler M.J. Space weathering of FeS induced via pulsed laser irradiation // J. Geophys. Res.: Planets. 2020. V. 125. № 5. id. e2019JE006242. https://doi.org/10.1029/2019JE006242
- Rybakov K.I., Semenov V.E., Egorov S.V., Eremeev A.G., Plotnikov I.V., Bykov Yu.V. Microwave heating of conductive powder materials // J. Appl. Phys. 2006. V. 99. № 2. id. 023506. https://doi.org/10.1063/1.2159078
- Rybakov K.I., Olevsky E.A., Krikun E.V. Microwave sintering: fundamentals and modeling // J. Am. Ceram. Soc. 2013. V. 96. № 4. P. 1003–1020. https://doi.org/10.1111/jace.12278
- Rybakov K.I., Buyanova M.N. Microwave resonant sintering of powder metals // Scripta Materialia. 2018. V. 149. P. 108–111. https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2018.02.014
- Saladino R., Botta G., Delfino M., Di Mauro E. Meteorites as catalysts for prebiotic chemistry // Chem. Eur. J. 2013. V. 19. № 50. P. 16916–16922. https://doi.org/10.1002/chem.201303690
- Saladino R., Botta L., Di Mauro E. The prevailing catalytic role of meteorites in formamide prebiotic processes // Life. 2018. V. 8. № 1. id. 6 (11 p.). https://doi.org/10.3390/life8010006
- Sasaki S., Kurahashi E., Yamanaka C., Nakamura K. Laboratory simulation of space weathering: Changes of optical properties and TEM/ESR confirmation of nanophase metallic iron // Adv. Space Res. 2003. V. 31. № 12. P. 2537–2542. https://doi.org/10.1016/S0273-1177(03)00575-1
- Schultz P.H., Eberhardy C.A. Spectral probing of impact-generated vapor in laboratory experiments // Icarus. 2015. V. 248. P. 448–462. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2014.10.041
- Semkin N.D., Piyakov A.V., Voronov K.E., Bogoyavlenskii N.L., Goryunov D.V. A linear accelerator for simulating micrometeorites // Instrum. Exp. Tech. 2007. V. 50. P. 275–281. https://doi.org/10.1134/S0020441207020194
- Semkin N.D., Voronov K.E., Piyakov A.V., Piyakov I.V. Simulation of micrometeorites using an electrodynamical accelerator // Instrum. Exp. Tech. 2009. V. 52. P. 595–601. https://doi.org/10.1134/S0020441209040228
- Shu A., Collette A., Drake K., Grün E., Horányi M., Kempf S., Mocker A., Munsat T., Northway P., Srama R., Sternovsky Z., Thomas E. 3 MV hypervelocity dust accelerator at the Colorado Center for Lunar Dust and Atmospheric Studies // Rev. Sci. Instrum. 2012. V. 83. id. 075108. https://doi.org/10.1063/1.4732820
- Silber E.A., Boslough M., Hocking W.K., Gritsevich M., Whitaker R.W. Physics of meteor generated shock waves in the Earth’s atmosphere – A review // Adv. Space Res. 2018. V. 62. № 3. P. 489–532. https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.05.010
- Sokolov A.S., Akhmadullina N.S., Borzosekov V.D., Voronova E.V., Gayanova T.É., Gusein-zade N.G., Zakletskii Z.A., Kozak A.K., Malakhov D.V., Skvortsova N.N., Stepakhin V.D., Obraztsova E.A. Shishilov O.N. Plasma-chemical facility for synthesis of micro- and nanoparticles having controlled compositions and structures on the basis of a microwave discharge in the gyrotron radiation // Radiophys. and Quantum Electronics. 2023. V. 65. P. 840–854. https://doi.org/10.1007/s11141-023-10261-z
- Skvortsova N.N., Malakhov D.V., Stepakhin V.D., Maiorov S.A., Batanov G.M., Borzosekov V.D., Konchekov E.M., Kolik L.V., Letunov A.A., Obraztsova E.A., Petrov A.E., Pozdnyakov D.O., Sarksyan K.A., Sorokin A.A., Ukryukov G.V., Kharchev N.K. Initiation of dusty structures in chain reactions under the action of gyrotron radiation on a mixture of metal and dielectric powders with an open boundary // JETP Lett. 2017. V. 106. P. 262–267. https://doi.org/10.1134/S0021364017160135
- Skvortsova N.N., Maiorov S.A., Malakhov D.V., Stepakhin V.D., Obraztsova E.A., Kenzhebekova A.I., Shishilov O.N. On the dust structures and chain reactions induced over the regolith by gyrotron radiation // JETP Lett. 2019. V. 109. № 7. P. 441–448. https://doi.org/10.1134/S0021364019070130
- Skvortsova N.N., Shishilov O.N., Akhmadullina N.S., Konchekov E.M., Letunov A.A., Malakhov D.V., Obraztsova E.A., Stepakhin V.D. Synthesis of micro- and nanostructured materials via oscillating reactions initiated by high-power microwave pulses // Ceram. Int. 2021a. V. 47. P. 3978–3987. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.09.262
- Skvortsova N.N., Stepakhin V.D., Sorokin A.A., Malakhov D.V., Gusein-zade N.G., Akhmadullina N.S., Borzosekov V.D., Voronova E.V., Shishilov O.N. Microwave simulation experiments on regolith (lunar dust) deposition on stainless steel // Materials. 2021b. V. 14. id. 6472. https://doi.org/10.3390/ma14216472
- Skvortsova N.N., Obraztsova E.A., Stepakhin V.D., Konchekov E.M., Gayanova T.E., Vasilieva L.A., Lukianov D.A., Sybachin A.V., Skvortsov D.A., Gusein-Zade N.G., Shishilov O.N. Microdispersed Ti/B/N materials synthesized in chain reactions in processes initiated by microwaves of a high-power gyrotron: Structure and cytotoxicity // Fusion Sci. and Technol. 2023a. https://doi.org/10.1080/15361055.2023.2255442
- Skvortsova N.N., Stepakhin V.D., Borzosekov V.D., Sorokin A.A., Malakhov D.V., Kachmar V.V., Kolik L.V., Konchekov E.M., Gusein-zade N.G., Akmadullina N.S., Voronova E.V., Shishilov O.N. Microwave plasma imitation experiments on deposition of lunar dust on metal plates // Plasma Phys. Rep. 2023b. V. 49. P. 120–128. https://doi.org/10.1134/S1063780X22601833
- Slyuta E.N. Physical and mechanical properties of the lunar soil (a review) // Sol. Syst. Res. 2014. V. 48. P. 330–353. https://doi.org/10.1134/S0038094614050050
- Slyuta E.N. Physical and mechanical properties of stony meteorites // Sol. Syst. Res. 2017. V. 51. P. 64–85. https://doi.org/10.1134/S0038094617010051
- Snytnikov V.N., Dudnikova G.I., Gleaves J.T., Nikitin S.A., Parmon V.N., Stoyanovsky V.O., Vshivkov V.A., Yablonsky G.S., Zakharenko V.S. Space chemical reactor of protoplanetary disk // Adv. Space Res. 2002. V. 30. № 6. P. 1461–1467. https://doi.org/10.1016/S0273-1177(02)00507-0
- Snytnikov V.N. Astrocatalysis abiogenic synthesis and chemical evolution at pregeological stages of the Earth’s formation // Paleontol. J. 2010. V. 44. P. 761–777. https://doi.org/10.1134/S0031030110070063
- Sokolov A.S., Akhmadullina N.S., Borzosekov V.D., Voronova E.V., Gayanova T.É., Gusein-zade N.G., Zakletskii Z.A., Kozak A.K., Malakhov D.V., Skvortsova N.N., Stepakhin V.D., Obraztsova E.A. Shishilov O.N. Plasma-chemical facility for synthesis of micro- and nanoparticles having controlled compositions and structures on the basis of a microwave discharge in the gyrotron radiation // Radiophys. and Quantum Electronics. 2023. V. 65. P. 840–854. https://doi.org/10.1007/s11141-023-10261-z
- Sorokin E.G., Yakovlev O.I., Slyuta E.N., Gerasimov M.V., Zaitsev M.A., Shcherbakov V.D., Ryazantsev K.M., Krasheninnikov S.P. Experimental modeling of a micrometeorite impact on the Moon // Geochem. Int. 2020a. V. 58. P. 113–127. https://doi.org/10.1134/S0016702920020111
- Sorokin E.M., Yakovlev O.I., Slyuta E.N., Gerasimov M.V., Zaitsev M.A., Shcherbakov V.D., Ryazantsev K.M., Krasheninnikov S.P. Experimental model of the formation of nanophase metallic iron in the lunar regolith // Dokl. Earth Sci. 2020b. V. 492. P. 431–433. https://doi.org/10.1134/S1028334X20060203
- Stöffler D., Langenhorst F. Shock metamorphism of quartz in nature and experiment: I. Basic observation and theory // Meteorit. and Planet. Sci. 1994. V. 29. № 2. P. 155–181. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.1994.tb00670.x
- Stockstill-Cahill K., Blewett D.T., Benjamin D., Bussey J., Cahill J.T.S., Clyde B., Denevi B.W., Hibbitts K., Graziano M., Greenhagen B.T., Martin A.C., Montalbano T.J., Patterson G.W., Stickle A.M., Wagoner C.M. 2021 Lunar Simulant Assessment // JHU-APL LSII REPORT. 2021. Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.
- https://lsic.jhuapl.edu/Our-Work/Working-Groups/files/Lunar-Simulants/2021%20Lunar%20Simulant%20Assessment_final.pdf (accessed November 13, 2023).
- Stockstill-Cahill K., Martin A., Wagoner C. 2022 Lunar Simulant Assesment // JHU-APL LSII REPORT. 2022, Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.
- https://lsic.jhuapl.edu/Our-Work/Working-Groups/files/Lunar-Simulants/2022%20Lunar%20Simulants%20Assessment%20Final.pdf (accessed November 13, 2023).
- Taylor L.A., Pieters C.M., Keller L.P., Morris R.V., McKay D.S. Lunar Mare Soils: Space weathering and the major effects of surface-correlated nanophase Fe // J. Geophys. Res.: Planets. 2001. V. 106 (E11). P. 27985–27999. https://doi.org/10.1029/2000JE001402
- Taylor L.A., Meek T.T. Microwave Sintering of Lunar Soil: Properties, Theory, and Practice // J. Aerospace Eng. 2005. V. 18. № 3. P. 188–196. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0893-1321(2005)18:3(188)
- Thornhill T.F., Chhabildas L.C., Reinhart W.D., Davidson D.L. Particle launch to 19 km/s for micro-meteoroid simulation using enhanced three-stage light gas gun hypervelocity launcher techniques // Int. J. Impact Eng. 2006. V. 33. P. 799–811. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2006.09.015
- Vasyunin A.I., Semenov D., Henning Th., Wakelam V., Herbst E., Sobolev A.M. Chemistry in protoplanetary disks: A sensitivity analysis // Astrophys. J. 2008. V. 672. P. 629–641. https://doi.org/10.1086/523887
- Vodop’yanov A.V., Mansfeld D.A., Samokhin A.V., Alekseev N.V., Tsvetkov Yu.V. Production of nanopowders by the evaporation–condesation method using a focused microwave radiation // Radiophys. and Quantum Electronics. 2017. V. 59. P. 698–705. https://doi.org/10.1007/s11141-017-9737-7
- Vojáček V., Borovička J., Koten P., Spurný P., Štork R. Catalogue of representative meteor spectra // Astron. and Astrophys. 2015. V. 580. id. A67 (31 p.). https://doi.org/10.1051/0004-6361/201425047
- Voronova E.V., Knyazev A.V., Letunov A.A., Logvinenko V.P., Skvortsova N.N., Stepakhin V.D. Temperature of the surface of powders in experiments with chain plasma-chemical reactions initiated by the radiation of a gyrotron in Pd + Al2O3 mixtures // Phys. Atom. Nuclei. 2021. V. 84. № 10. P. 1761–1764. https://doi.org/10.1134/S1063778821090374
- Vricella A., Delfini A., Pacciani A., Pastore R., Micheli D., Rubini G., Marchetti M., Santoni F. A new advanced railgun system for debris impact study // Procedia Struct. Integr. 2017. V. 3. P. 545–552. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2017.04.044
- Zaitsev M.A., Gerasimov M.V., Safonova E.N., Vasiljeva A.S. Peculiarities in the formation of complex organic compounds in a nitrogen–methane atmosphere during hypervelocity impacts // Sol. Syst. Res. 2016. V. 50. P. 113–129. https://doi.org/10.1134/S0038094616020076
- Zakharov A.V., Zelenyi L.M., Popel’ S.I. Lunar dust: properties and potential hazards // Sol. Syst. Res. 2020. V. 54. P. 455–476. https://doi.org/10.1134/S0038094620060076
Supplementary files