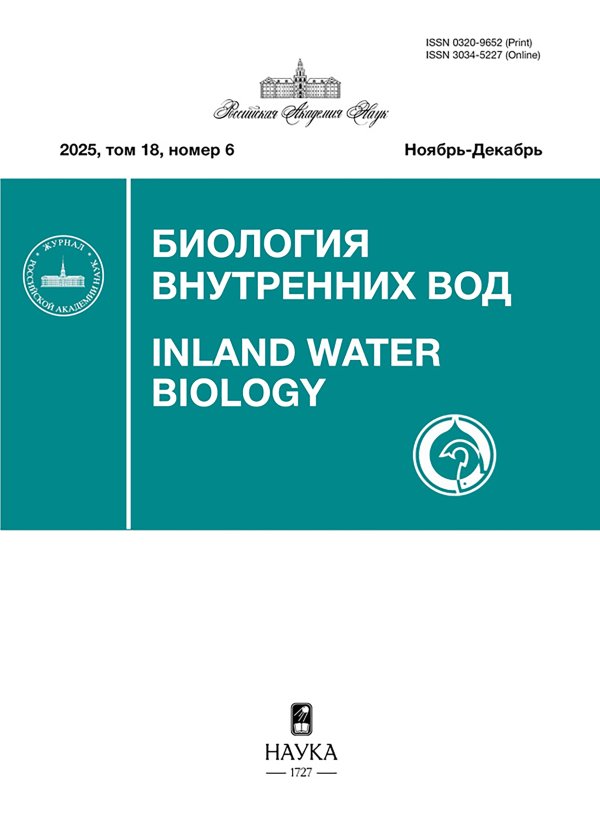Planktonic communities in reservoirs of the ore deposits along the pH gradient (Zabaykalsky Krai)
- Authors: Afonina E.Y.1, Tashlykova N.A.1
-
Affiliations:
- Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 17, No 1 (2024)
- Pages: 67-79
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-9652/article/view/261522
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320965224010053
- EDN: https://elibrary.ru/zajfdp
- ID: 261522
Cite item
Full Text
Abstract
The results of summer studies of phyto- and zooplankton in aquatic systems of the technogenic origin are presented. There are low species richness and a significant range of the quantitative indicators of aquatic organisms. The change of the main structure-forming taxa in the pH gradient is shown. Environmental factors that determine the composition and structure of plankton communities have been identified.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Техногенные водоемы, образовавшиеся при заполнении грунтовыми водами, водами поверхностного стока и атмосферными осадками карьеров, котлованов и выемок, сформированных в результате деятельности горнопромышленного комплекса, представляют собой новые гидроресурсы геотехнических систем (Castro, Moore, 2000; Filippova, Deryagin, 2005; Blanchette, Lund, 2016; Seelen et al., 2021). Аккумуляция природных вод в котловине, генетически связанной с выработанными месторождениями минерального сырья, позволяет рассматривать карьерные водоемы как вторичные природно-техногенные гидросистемы озерного типа, специфика которых определяется взаимодействием техногенных и естественных факторов (Суховило, Романчук, 2018). Несмотря на различия в условиях образования, контролируемых процессами горнопромышленного техногенеза, водоемы как аквальные системы техногенного происхождения имеют общие черты с природными лимническими системами. В частности, это замедленный водообмен, в результате которого формируется водная масса, отличающаяся по своим характеристикам от питающих вод, а также аккумулируются элементы, поступающие в процессе стока, и материал, возникающий в самом водоеме (Удачин и др., 2009). Наряду с этим, карьерные водоемы обладают рядом специфических черт: ограниченная площадь водосбора, невыработанность ложа и берегов, малая мощность донных отложений и не сформированные продукционные характеристики (Хомич, 1986).
Морфометрические характеристики техногенных озер отличаются значительным разнообразием и зависят от типа добываемого сырья, технологии разработки месторождения и особенностей горнотехнической рекультивации (Хомич, 1986; Gammons et al., 2009; Soni et al., 2014). Антропогенные водоемы подразделяются на озера “естественного” типа, расположенные в природных понижениях рельефа, и “искусственного” типа, образованные затоплением карьеров и отстойников (Юркевич, 2009). Несмотря на широкое распространение этих новообразованных антропогенных систем, становление, функционирование и перспективы существования их мало исследованы (Derham, 2004; Wołowski et al., 2013; Soni et al., 2014; Ferrari et al., 2015; Blanchette, Lund, 2016; Суховило, Романчук, 2018; Vucic et al., 2019; Mondal et al., 2021). Однако карьерные озера могут применяться как тестовые системы для фундаментальных научных концепций и использоваться как “природные лаборатории” для изучения экологических процессов (Thomas, John, 2006; Blanchette, Lund, 2020).
Цель работы — оценка видового разнообразия и структуры фито- и зоопланктона различных водопроявлений рудных месторождений в градиенте изменения pH.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Характеристика района и объектов исследований. Гидробиологические исследования проводили в августе 2022 г. на техногенных водоемах горнорудных объектов Жипкошинского и Завитинского месторождений, Балейского и Дарасунского рудных полей (рис. 1).
Рис. 1. Карта-схема территории обследования: а — Жипкошинское месторождение, б — Завитинское месторождение, в — Балейское рудное поле, г — Дарасунское рудное поле. 1‒16 — точки отбора проб (описание в табл. 1).
Открытую добычу руды в Завитинском бериллий-литиевом месторождении проводили в 1937–1997 гг., в Жипкошинском сурьмяном — в 2006–2018 гг. (Абрамова, 2018). Балейский золоторудный узел включает Балейское, Тасеевское, Средне-Голготайское и Андрюшкинское месторождения. Эксплуатацию Балейского месторождения проводили в 1929–1992 гг., прекращена из-за приближения контура карьера к жилой застройке г. Балей; Тасеевского — с 1948 по 1995 гг. В настоящее время идут подготовительные работы по повторному вовлечению в эксплуатацию Тасеевского участка (Замана, Усманов, 2009). Дарасунское рудное поле включает Дарасунское, Теремкинское, Талатуйское золоторудные месторождения. Рудник работает нестабильно, поскольку производство периодически то прекращается, то восстанавливается (Гораш, 2004).
Всего обследовано 16 водных объектов (семь карьерных озер, шесть прудов хвостохранилищ и три мелких водоема), значительно различающихся по морфометрическим и физико-химическим параметрам (Ташлыкова и др., 2023) (табл. 1).
Таблица 1. Морфометрические и физико-химические параметры техногенных водоемов (по: (Ташлыкова и др., 2023))
Точки отбора проб | Координаты с.ш., в.д. | Глубина, м | Прозрачность, м | Температура, °C | Электропроводность (ЕС), мкСм/см | pH | Eh, мВ |
ЖП-1 | 51°36.115', 115°15.365' | 6.5 | 4.5 | 19.5 (18.4–5.7) | 318 (338–344) | 8.4 (8.6–7.7) | 279 (388–279) |
ЖП-2 | 51°36.489', 115°15.227' | 2.1 | 2 | 19.9 (18.1–19.2) | 349 (360–368) | 8.5 (8.4–8.4) | 261 (279‒) |
ЖП-3 | 51°36.457', 115°15.278' | 0.5 | 0.15 | 21 | 146 | 7.7 | 155 |
ЗВ-1 | 50°41.127', 115°36.701' | 11.3 | 6 | 21 (18.2–8) | 1814 (1822–2210) | 7.3 (7.3–6.8) | 281 (231–168) |
ЗВ-2 | 50°40.649', 115°37.069' | 33 | 7 | 22.5 (21–4) | 1470 (1485–1713) | 8.3 (8.2–7.4) | 210 (121–130) |
ЗВ-3 | 51°41.102', 115°41.374' | 1 | 1 | 19.5 | 2715 | 7.7 | 243 |
ЗВ-4 | 51°42.081', 115°40.881' | 9.8 | 5.4 | 23.3 (21.6–13.8) | 406 (448–494) | 8.15 (8.3–7.6) | 159 (131–) |
Бал-4 | 51°32.824', 116°34.940' | 10.1 | 0.5 | – (13.2–7.8) | – (84–80) | – (9.4–7.2) | – (138–232) |
Бал-5 | 51°33.668', 116°36.897' | 1.8 | 1.8 | 16.8 | 1533 | 7.25 | 89 |
Бал-10 | 51°29.262', 116°39.437' | 130 | 6.5 | 19.6 (17.6–3.8) | 1309 (1360–2040) | 8.2 (7.6–6.8) | 159 (196–167) |
Бал-6 | 51°34.204', 116°38.504' | 0.8 | 0.8 | 15.1 | 475 | 7.4 | 165 |
Тс-1 | 51°33.491', 116°39.126' | 72 | 5 | 18.6 (18–4) | 3590 (5042–3368) | 3.1 (3.3–5.4) | 539 (600–104) |
Тс-3 | 51°32.894', 116°38.080' | 4.3 | 3 | 16.6 (16.7–17.1) | 5520 (410–5480) | 2.9 (2.9–2.8) | 568 (584–179) |
Анд | 51°30.425', 116°46.977' | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 327 | 7.4 | 198 |
ВД-1 | 52°20.529', 115°35.846' | 0.5 | 0.5 | 18.8 | 1444 | 5.85 | 230 |
ВД-2 | 52°20.729', 115°35.239' | 0.5 | 0.5 | 18.8 | 2652 | 6.5 | 249 |
Примечание. ЖП-1 — верхний карьер; ЖП-2 — нижний карьер, ЖП-3 — водоем в траншее между карьерами, ЗВ-1 — верхний карьер, ЗВ-2 — нижний карьер, ЗВ-3 — верхнее хвостохранилище; ЗВ-4 — нижнее хвостохранилище; Бал-4 — Новотроицкий карьер; Бал-5 — хвостохранилище ЗИФ-1; Бал-6 — водоем выше отвалов Средне-Голготайского месторождения; Тс-1 — Тасеевский карьер; Тс-3 — хвостохранилище ЗИФ-2; Анд — водоем ниже штольни Андрюшкинского месторождения; Бал-10 — Балейский карьер; ВД-1 — третья секция хвостохранилища; ВД-2 — вторая секция хвостохранилища. Перед скобками приведены данные в прибрежье, в скобках — в центре (в поверхностном ‒ в придонном слое воды), “–” — данные отсутствуют.
По имеющимся данным (Ташлыкова и др., 2023), самыми глубоководными были карьеры (Бал-10–130 м, Тс-1–72 м, ЗВ-2–33 м). Глубина в прудах варьировала от 1.8 (Тс-3) до 9.8 м (ЗВ-4). В прочих водоемах глубина не превышала 1 м. Температура поверхностных вод была от 2.5 (Анд) до 21.6°С (ЗВ-4). В карьерных озерах зарегистрирована температурная стратификация, придонная температура воды опускалась до 4.0–7.8°С. Высокая прозрачность воды (5–7 м) отмечена в карьерах ЗВ-1, ЗВ-2, Бал-10, Тс-1, низкая — в ЖП-3 и Бал-4 из-за взмучивания мелкодисперсной взвеси.
Для техногенных вод регистрировали широкий диапазон рН (2.8–9.4), Eh (89–584 мВ) и EC (146–5520 мкСм/см). В глубоководных карьерах наблюдали хемоклин. По химическому составу воды преимущественно сульфатные, реже гидрокарбонатно-сульфатные с разным соотношением магния и кальция (Ташлыкова и др., 2023).
Растительный пояс почти не развит. Отдельные куртины макрофитов отмечали в хвостохранилищах Тс-3 (тростник) и ЗВ-3 (рдесты, ряска, уруть).
Сбор и обработка проб. Фитопланктон собирали в пелагиали с помощью батометра Паталаса из двух–трех горизонтов (приповерхностный, горизонт прозрачности и придонный), в литорали — путем зачерпывания воды. Зоопланктон отбирали тотально сетью Джеди (средняя модель, размер ячеи сита 64 мкм) и процеживанием 100–120 л воды через сеть (размер ячеи 73 мкм) (интегральная проба). Лабораторную обработку зафиксированных в 4%-ном растворе формалина образцов проводили по общепринятым методам (Киселев, 1969; Садчиков, 2003). Биомассу водорослей определяли по объему отдельных клеток или колоний водорослей (Садчиков, 2003), зоопланктеров — по уравнениям связи длины тела и сырой массы организмов разной таксономической принадлежности (Ruttner-Kolisko, 1977; Балушкина, Винберг, 1979).
Анализ данных. Для определения разнообразия и структуры фито- и зоопланктона использовали следующие индексы: неоднородности или Шеннона–Уивера по численности (Hn), доминирования Симпсона (D) и выравненности Пиелу (e) (Magurran, 1988). Математическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета программ Microsoft Excel v. 2010 и STATISTICA v. 10. Для изучения взаимосвязей показателей разнообразия и структурных характеристик (общее число видов, численность (N) и биомасса (B) фито- и зоопланктона) и абиотических факторов среды (глубина H, прозрачность TR, температура воды T, водородный показатель рН, окислительно-восстановительный потенциал ОВП или Eh, макрокомпонентный состав) применяли факторный анализ методом главных компонент (PCA). Абсолютное значение нагрузки >0.7 принимали за существенную связь. При анализе использовали среднеарифметическое значение (x) и ошибку средней величины (Sx).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Получена характеристика фито- и зоопланктона в исследованных водоемах, ранжированных по градиенту рН поверхностных вод. Выделено шесть групп водоемов: рН ≤3 – очень кислые (Тс-3), рН 3–5 – кислые (Тс-1), рН 5.1–6.5 – слабокислые (ВД-2), рН 6.5–7.5 – нейтральные (ЗВ-1, Бал-5, Бал-6, Анд, ВД-1), рН 7.5–8.5 – слабощелочные (ЖП-3, ЗВ-2, ЗВ-3, ЗВ-4, Бал-10), рН 8.5–9.5 – щелочные (ЖП-1, ЖП-2, Бал-4).
Фитопланктон. Выявлено 74 таксона водорослей рангом ниже рода из 7 отделов: Bacillariophyta (24), Chlorophyta (19), Cyanobacteria (14), Chrysophyta (5), Dinophyta (4), Charophyta (4) и Euglenophyta (4). Число видов изменялось от 2 (в очень кислых и кислых водах) до 27 (в слабощелочных). Во второй секции Дарасунского хвостохранилища водоросли не отмечены (рис. 2). Разнообразие водорослей в литоральной зоне было больше (3–15 таксонов), чем в пелагической (3–9). Представители Bacillariophyta (преимущественно бентосные формы) в кислых водоемах присутствовали единично, в нейтральных водоемах преобладали Bacillariophyta, Dinophyta и Cyanobacteria, в слабощелочных и щелочных — Cyanobacteria, Chlorophyta и Bacillariophyta. В состав доминирующего комплекса входили: цианобактерии Gloeocapsa crepidinum (Thuret) Thuret, 1876, G. turgida (Kützing) Hollerbach, 1936, Aphanothece clathrata West & G.S. West, 1906, Dolichospermum solitarium (Klebahn) Wacklin, L. Hoffmann & Komárek, 2009, Microcystis pulverea (H.C. Wood) Forti, 1907; диатомовые Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith, 1853, Nitzschia sp., Fragilaria crotonensis Kitton, 1869, F. radians (Kützing) D.M. Williams & Round, 1988, Lindavia comta (Kützing) T. Nakov & al., 2015, Diatoma vulgaris Bory, 1824, Gomphonema olivaceum (Hornemann) Ehrenberg, 1838 и другие бентосные формы родов Navicula, Gyrosigma, Epithemia, Achnanthes; динофитовые — Apocalathium aciculiferum (Lemmermann) Craveiro, Daugbjerg, Moestrup & Calado, 2016 и виды рода Peridinium; зеленые Ankyra ancora f. issaevi (Kisselev) Fott, 1974, Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E. Hegewald, 2005, Scenedesmus obtusus Meyen, 1829, Oocystis marssonii Lemmermann, 1898. Вид Fragilaria crotonensis, виды рода Peridinium и хлорококковые водоросли зарегистрированы при рН 6.5–9.4, цианобактерии — при рН 6.5–8.5 (табл. 2).
Таблица 2. Видовой состав доминантов фитопланктона по численности N и биомассе B в техногенных водоемах в градиенте рН (≤3.0–9.5)
Примечание: серый — численность, синий — биомасса.
Общие значения N и B изменялись в широких пределах: от 1.65 ± 0.92 до 2986.68 ± 2616.47 тыс. кл./л и от 0.33 ± 0.19 до 494.65 ± 178.86 мг/м3, соответственно. Наименьшую плотность водорослей отмечали при рН <3, наибольшую — при рН 8.5–9.4 (рис. 2).
Рис. 2. Диаграмма вариабельности индексов разнообразия и структурных показателей фито- (а) и зоопланктона (б) в техногенных водоемах в градиенте рН. n — число видов, N — численность, B — биомасса, Hn — индекс Шеннона–Уивера, e — индекс Пиелу.
Значения индекса Hn варьировали от 1.09 ± 1.13 до 1.67 ± 0.75 бит, D — от 0.68 ± 0.34 до 0.47 ± 0.30, e — от 0.37 ± 0.32 до 0.71 ± 0.24. Значения индексов видового разнообразия, полученные для фитопланктона Балейского карьера, указывают на сложность структуры, высокое разнообразие и полидоминантность сообщества. Для остальных водоемов отмечены монодоминантные альгоценозы с низким видовым разнообразием (рис. 2).
Зоопланктон. Видовой состав включал 66 таксонов рангом ниже рода (30 видов и подвидов Rotifera, 20 – Cladocera и 16 – Copepoda). Встречались также ювенильные Cyclopoida, видовую принадлежность которых не определяли. Всего в сильнокислых водоемах обнаружено 2 вида организмов, в кислых — 5, в нейтральных — 20 (при варьировании от 2 до 11 видов), в слабощелочных — 51 (от 4 до 22), в щелочных — 29 (от 7 до 17) (рис. 2). В пробах из Дарасунского хвостохранилища представители зоопланктона не обнаружены. Видовой состав зоопланктона в литорали богаче, чем в пелагиали (2–18 и 1–12 видов соответственно). Коловратка Keratella quadrata (O.F. Müller, 1786) обнаружена во всем диапазоне рН (2.8–9.4). Виды Lecane luna (O.F. Müller, 1776) и Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785) не встречались в очень кислых водах. Виды Polyarthra vulgaris Carlin, 1943, Keratella cochlearis (Gosse, 1851), Kellicottia longispina (Kellicott, 1879), Simocephalus vetulus (O.F. Müller, 1776), Daphnia galeata Sars, 1864, Neutrodiaptomus incongruens (Poppe, 1888), Cyclops vicinus Uljanin, 1875, Microcyclops rubellus (Lilljeborg, 1901) отсутствовали в очень кислых и кислых водах. Brachionus sericus Rousselet, 1907 отмечен только в сильнокислой и кислой среде, Bdelloidea, Cephalodella sp., Polyarthra remata Skorikov. 1896, Daphnia magna Straus, 1820, Alona quadrangularis (O.F. Müller, 1776), Megacyclops viridis (Jurine, 1920) – в щелочной, Attheyella nordenskioldii nordenskioldii (Lilljeborg, 1902) – в нейтральной.
Численность и биомасса зоопланктона варьировали в широких пределах — от 37.20 ± 7.21 тыс. экз./м3 и 42.16 ± 19.21 мг/м3 в кислых водах до 344.42 ± 140.15 тыс. экз./м3 и 602.61 ± 196.56 мг/м3 в щелочных (рис. 2). При крайних значениях pH (2.8–3.3 и 8.4–8.6) в сообществе развивался монодоминантный ротаториоценоз — Brachionus sericus (98–100% всей численности) и Keratella quadrata (99%), соответственно. Доминирующий комплекс зоопланктона в разных условиях формировали 4–10 таксонов (1–4 в водоеме): Asplanchna priodonta Gosse, 1850, Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834), Hexarthra mira (Hudson, 1871), Lecane luna, Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832, Keratella quadrata, K. cochlearis, Kellicottia longispina, Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832, Simocephalus vetulus, Daphnia longispina s. lat. (O.F. Müller, 1785), D. curvirostris Eylmann, 1887, Coronatella rectangula (G.O. Sars, 1862), Flavalona costata (Sars, 1962), Acantodiaptomus denticornis (Wierzejski, 1887), Neutrodiaptomus incongruens, Cyclops vicinus, Cyclopoida, Atheyella nordenskioldii nordenskioldii. Основу численности формировал в основном ротаторный комплекс, биомассы — рачковый (табл. 3).
Таблица 3. Видовой состав доминантов зоопланктона по численности N и биомассе B в техногенных водоемах в градиенте рН (≤3.0–9.5)
Примечание: серый — численность, синий — биомасса.
Показатели индексов разнообразия варьировали в широком диапазоне: Hn — от 0.03 ± 0.01 до 2.74 ± 0.28 бит, Ds — от 0.21 ± 0.0 до 0.99 ± 0.0, e — от 0.04 ± 0.02 до 0.93 ± 0.03, соответственно. По условному разделению значений индексов водоемы классифицировали от олиго-мезотрофного типа с высоким видовым разнообразием и выравненностью сообщества зоопланктона (водоемы Балейского месторождения) до характеристик, указывающих на экстремальные экологические условия (водоемы Тасеевского и Жипкошинского месторождений) (рис. 2).
Влияние факторов среды. Анализ главных компонент (PCA) выявил корреляцию между показателями разнообразия и структуры фито- и зоопланктона и численности массовых видов в разных по экологическим условиям водоемах. Выделено две главные компоненты, определяющие 63.24% вариаций набора данных с собственными значениями >1. Первый фактор (F1: 37.76%) определял гидрохимические показатели. Факторные нагрузки переменных (pH, CO2, HCO3-) демонстрировали положительную корреляцию с индексами разнообразия фито- и зоопланктона, переменные (Eh, Mg2+, Na+, TDS) определяли численность коловраток Brachionus sericus. Второй фактор (F2: 25.84%) интегрирует информацию о положительной связи физико-химических параметров (Н, Cl-, F-, K+, NO3–, NO2–) с числом видов альгофлоры, численностью некоторых водорослей (Gloeocapsa сrepidinum, Microcystis pulverea) и беспозвоночных (Filinia longiseta и Neutrodiaptomus incongruens). Анализ данных показал положительную корреляцию доминирующих видов диатомовых с Si, сине-зеленых — с T, большинства гидробионтов — с P (рис. 3).
Рис. 3. Распределение физико-химических показателей вод и основных характеристик и массовых таксонов фито- и зоопланктона в пространстве двух компонент. ph — фитопланктон, z — зоопланктон, n — число видов/таксонов, N — численность, B — биомасса, H — индекс Шеннона–Уивера, D — индекс Симпсона, е — индекс Пиелу, H — глубина, TR — прозрачность, T — температура воды, рН — водородный показатель, Eh — окислительно-восстановительный потенциал. Фитопланктон: Aa — Ankyra ancora, Ac — Aphanothece clathrata, As — Anabaena sp., Bac — Bacillariophyta, Cya — Cyanobacteria, Ds — Dolichospermum solitarium, Fc — Fragilaria crotonensis, Fr — Fragilaria radians, Gc — Gloeocapsa crepidinum, Gt — Gloeocapsa turgida, Mp — Microcystis pulverea, Na — Nitzschia acicularis, Nsp — Nitzschia sp., Om — Oocystis marssonii, Psp — Peridinium sp., So — Scenedesmus obtusus; зоопланктон: Ad — Acantodiaptomus denticornis, An — Attheyella nordenskioldii, Bs — Brachionus sericus, Cv — Cyclops vicinus, Cycl — Cyclopoida, Dc — Daphnia curvirostris, Dl — D. longispina, Ed — Euchlanis dilatata, Fl — Filinia longiseta, Hm — Hexarthra mira, Kc — Keratella cochlearis, Kl — Kellicottia longispina, Kq — Keratella quadrata, Ll — Lecane luna, Ni — Neutrodiaptmus incongruens, Sp — Synchaeta pectinata, Sv — Simocephalus vetulus.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Планктонные сообщества обследованных водоемов горнорудной территории характеризуются ограниченным набором видов водорослей (от 1 до 27 таксонов) и беспозвоночных (от 2 до 22) и массовым развитием Bacillariophyta, Chlorophyta, Dinophyta, Cyanobacteria, Rotifera и ювенильных Cyclopoida, что считается отличительной особенностью карьерных озер (Wollmann et al., 2000; Derham, 2004; Tavernini et al., 2009; Романов и др., 2011; Sienkiewicz, Gąsiorowski, 2016; Marszelewski et al., 2017; Goździejewska et al., 2021; Mondal et al., 2022). Экосистемы этих водоемов относятся к “молодым” и уязвимым с упрощенными и формирующимися экологическими связями (Derham, 2004; Nixdorf et al., 2005; Soni et al., 2014; Blanchette, Lund, 2016). Бедность фито- и зоопланктона обусловлена низким содержанием биогенов (Gammons et al., 2009), ограниченностью водосбора, крутизной берегов, отсутствием мелководий (Blanchette, Lund, 2016), что сдерживает развитие макрофитов как среды обитания для гидробионтов (Scheffer, 1999).
Наши результаты по влиянию факторов среды на развитие гидробионтов подтверждаются аналогичными исследованиями других авторов (El-Bassat, Taylor, 2007; Moser, Weisse, 2011; Ferrari et al., 2015; Pociecha et al., 2018; Снитько, Снитько, 2019; Vucic et al., 2019; Mondal et al., 2021, 2022), показавшими, что состав и структура планктонных биоценозов в техногенных водоемах определяются совокупностью комплекса абиотических параметров. Происхождение, возраст и текущее использование водоемов также относятся к ключевым факторам, которые обеспечивают направление и темп биологической сукцессии антропогенной экосистемы, и влияют на разнообразие гидробионтов (Tavernini et al., 2009; Goździejewska et al., 2021).
В водоемах техногенного происхождения активная реакция среды служит наиболее важным фактором, поскольку от pH зависит подвижность металлов и металлоидов (Soni et al., 2014; Снитько, Снитько, 2019), доступность биогенных элементов для первичных продуцентов (Nixdorf et al., 2003) и, соответственно, состав планктона (Wollmann et al., 2000; Marszelewski et al., 2017). Большинство гидробионтов имеет относительно узкий диапазон толерантности к показателю pH, оптимум которого расположен в пределах от слабокислой до слабощелочной реакции среды (Иванова, Казанцева, 2006). Предыдущими исследованиями (Deneke, 2000; Kalin et al., 2001; Nixdorf et al., 2001; Derham, 2004; Tavernini et al., 2009; Weithoff et al., 2010; Sienkiewicz, Gąsiorowski, 2018) показано, что при очень кислых условиях в планктоне развиваются фитофлагеляты (Ochromonas, Chlamydomonas), Rotifera (Cephalodella hoodi (Gosse, 1886), Elosa worallii Lord, 1891, Brachionus sericus, Bdelloidae) и мелкие Cladocera (Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1785)), в кислых — Peridinium, Cryptophyta, кокковые формы Chlorophyta, мелкие Cyclopoida и Сalanoida, Rotifera, в слабокислых — Cryptophyta, Chlorophyta, Bacillariophyta, Rotifera (Kellicottia, Keratella, Polyarthra), крупные Crustacea. В нейтральных и слабощелочных водах разнообразие фито- и зоопланктона увеличивается. Наши данные дополняют этот ряд, показывая, что в водоемах при рН >8.5 разнообразие харовых, динофитовых и эвгленовых водорослей и ракообразных снижается и усиливается роль коловраток и зеленых водорослей.
Основу фитопланктона в обследованных водоемах формируют Bacillariophyta, Dinophyta, Chlorophyta и Cyanobacteria. Диатомеи наиболее устойчивы к подкисленным водам (Thomas, John, 2006; Sienkiewicz, Gąsiorowski, 2018). Представители зеленых и хризофитовых водорослей характеризуются широкой экологической валентностью (Nixdorf et al., 2001) и предпочитают мезотрофные водоемы с повышенной щелочностью (Tavernini et al., 2009). Виды рода Peridinium, как представители флагеллят, по данным ряда авторов (Gammons et al., 2009; Sienkiewicz, Gasiorowski, 2018), относятся к “пионерам” молодых и подкисленных карьерных озер. Цианобактерии активно развиваются в богатых органикой водоемах (Hindák, Hindáková, 2003; El-Bassat, Taylor, 2007).
В зоопланктоне из коловраток доминируют преимущественно представители Keratella и Brachionus. Keratella quadrata — широко толерантный вид к изменениям ионного состава воды (Калинкина, 2003). Ацидобионт Brachionus sericus обитает в сильнокислых водоемах (Deneke, 2000). Коловратки Euchlanis dilatata, Lecana luna, Keratella cochlearis и другие виды Brachionus предпочитают эвтрофные и загрязненные воды (El-Bassat, Taylor, 2007; Ejsmont-Karabin, 2012; Mondal et al., 2022); Hexarthra и Polyarthra — мезотрофные воды с широкой вариабельностью физико-химических показателей среды (Perreira et al., 2002). Среди Cladocera преобладают виды-убиквисты Bosmina longirostris и Chydorus sphaericus, обладающие повышенной устойчивостью к воздействию шахтных вод (Leppänen, 2018), Ch. sphaericus — эвриионный вид и может достигать высокой плотности в кислых водах (Deneke, 2000). Представители рода Bosmina адаптированы к водам различного химического состава и хорошо переносят загрязнение (Sienkiewicz, Gąsiorowski, 2018). Однако в наших водоемах этих и других ветвистоусых (кроме Daphnia) отмечали спорадически и редко. Низкую плотность или отсутствие Cladocera связывают либо с прессом хищников (рыб) (Hobaek et al., 2002), либо с “цветением” водорослей (Hakanson, Boulion, 2003; El-Bassat, Taylor, 2007). Однако в обследованных водоемах доминируют рыбы-бентофаги (карась, гольяны) (Горлачева, 2014), и массового развития водорослей не наблюдали. Заметный вклад в численность (5–22%) и биомассу (21–62%) зоопланктона вносили виды рода Daphnia (D. magna в ЖП-1, ЖП-2, D. curvirostris Acantodiaptomus в ЖП-3, D. galeata в ЗВ-4, Бал-4, Бал-5, D. cucculata Sars, 1862 в ЗВ-4, D. longispina в ЗВ-2), предпочитающие нейтральную и/или щелочную среду обитания (Коровчинский и др., 2021).
Низкое видовое разнообразие планктонных сообществ (Hn ≤1) при низких значениях рН отмечено в карьерных озерах Австралии (Derham, 2004; Moser, Weisse, 2011), Бразилии (Ferrari et al., 2015), Польши (Pociecha et al., 2018), Индии (Mondal et al., 2021). Разнообразные и полидоминантные планктоценозы со структурообразующими таксонами из Cyanobacteria, Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyclopoida, Cladocera характерны для эвтрофных водоемов с рН 6.8–8.5 (El-Bassat, Taylor, 2007; Sienkiewicz, Gasiorowski, 2015; Goździejewska et al., 2021).
Для карьерных озер рудных месторождений Юго-Восточного Забайкалья (Шерловогорского олово-полиметаллического, Спокойнинского вольфрамового, Жипкошинского сурьмяного, Малокулундинского и Орловского редкометалльных), отличительная особенность которых — широкий диапазон значений рН среды, установлено, что уровень развития водорослей и беспозвоночных планктона зависит от гидрохимических факторов (общая минерализация вод, микро- и макрокомпонентный состав, органическое вещество и рН). Так, видовое богатство водорослей в неагрессивных и нейтрально-слабощелочных водах (рН 7–8.8) значительно выше, чем в водоемах с низким значением рН. В кислых и слабокислых условиях (рН 3–6) водоросли и беспозвоночные не встречались. В слабощелочных водоемах (рН 7.5–7.8) Шерловогорского и Орловского горно-обогатительных комбинатов видовое богатство гидробионтов выше по сравнению с другими обследованными водоемами (Афонина и др., 2022).
Снижение и/или прекращение техногенной нагрузки на водоем приводит к формированию более разнообразной альгофлоры (в основном за счет криптофитовых, динофитовых, эвгленовых) вследствие накопления доступных для миксотрофных организмов органических веществ (Кривина, Тарасова, 2018). По мере увеличения возраста озер доминирование переходит к рачковому комплексу (представителям рода Daphnia, науплиям и копеподитам Cyclopoida) (Gołdyn et al., 2006). Более “старые” водоемы характеризуются устойчивой экосистемой, в которой развиваются сообщества с высоким видовым разнообразием (Soni et al., 2014; Marszelewski et al., 2017; Mondal et al., 2022). Так, планктонные сообщества более “старых” водоемов Балейского месторождения (Бал-4, Бал-6, Бал-10) характеризовались бóльшим биоразнообразием по сравнению с другими.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Видовой состав альгофлоры исследованных техногенных водоемов слагался из 74 таксонов водорослей, планктофауны — из 66. Фито- и зоопланктон характеризовались широкой вариацией показателей разнообразия и структуры. Планктоценозы наиболее разнообразны в слабощелочных водоемах, обильны — в щелочных. Изменения основных структурообразующих таксонов в градиенте рН в фитопланктоне происходят следующим образом: Bacillariophyta (Nitzschia sp.) – Bacillariophyta — Bacillariophyta (Flagilaria crotonensis) и Cyanobacteria (Groeocapsa crepidinum) – Bacillariophyta и Cyanobacteria (Anabaena). Состав зоопланктона в этих же условиях изменяется следующим образом: Rotifera (Brachionus sericus) – Rotifera (Keratella quadrata) и Cyclopoida — Rotifera (K. quadrata, Euchlanis dilatata) и Crustacea (Daphnia, Cyclopoida, Calanoida) – Rotifera (K. quadrata). Структурные характеристики фито- и зоопланктона зависят от химического состава воды (рН, окислительно-восстановительный потенциал и концентрации основных катионов (Mg2+, Na+, K+), анионов (HCO3-, Cl-) и биогенных элементов (NO3-, NO2-, P)), а также физических параметров водоемов (глубины и температуры воды). Таким образом, в Забайкальском крае в аквальных системах техногенного происхождения активная реакция среды служит наиболее важным фактором. Для водоемов подобного типа характерна смена разнообразия гидробионтов в градиенте рН, поскольку большинство организмов имеет оптимум pH в пределах от слабокислой — слабощелочной реакции среды. Снижение и/или прекращение техногенной нагрузки на карьерные озера приводит к формированию устойчивых экосистем с более разнообразной флорой и фауной.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы благодарят сотрудников Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН за помощь в сборе планктонных проб. Выражаем благодарность Е. Б. Фефиловой (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) в определении вида Harpacticoida.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 22-17-00035 “Экология и эволюция водных экосистем в условиях климатических флуктуаций и техногенной нагрузки”.
About the authors
E. Yu. Afonina
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: kataf@mail.ru
Russian Federation, Chita
N. A. Tashlykova
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: kataf@mail.ru
Russian Federation, Chita
References
- Абрамова В.А. 2018. Гидрохимия карьерных вод Завитинского месторождения редких металлов (Забайкальский край) // Аспирант. Т. 12. № 2. С. 3.
- Афонина Е.Ю., Ташлыкова Н.А., Замана Л.В. и др. 2022. Гидрохимия и гидробиология техногенных водоемов горнопромышленных территорий Юго-Восточного Забайкалья // Аридные экосистемы. Т. 28. № 4(93). С. 189.
- Балушкина Е.Б., Винберг Г.Г. 1979. Зависимость между массой и длиной тела у планктонных животных // Общие основы изучения водных экосистем. Л.: Наука. С. 169.
- Гораш Ю.Ю. 2004. Развитие золотодобычи на Дарасунском руднике // Горн. инф.-аналит. бюлл. № 11. С. 154.
- Горлачева Е.П. 2014. Питание и трофические взаимоотношения рыб в реке Унда (Забайкальский край) // Чтения памяти В.Я. Леванидова. Владивосток: Изд-во ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. Вып. 6. С. 159.
- Замана Л.В., Усманов М.Т. 2009. Эколого-гидрогеохимическая характеристика водных объектов золотопромышленных разработок Балейско-Тасеевского рудного поля (Восточное Забайкалье) // Изв. Сиб. отд. Секции наук о Земле РАЕН. № 1(34). С. 106.
- Иванова М.Б., Казанцева Т.И. 2006. Влияние активной реакции и общей минерализации воды на видовое разнообразие пелагического зоопланктона в озерах (статистический анализ) // Экология. № 4. С. 294.
- Калинкина Н.М. 2003. Экологические факторы формирования толерантности планктонных ракообразных к минеральному загрязнению (на примере водоемов северной Карелии): Автореф. дис…. докт. биол. наук. Петрозаводск. 47 с.
- Киселев И.А. 1969. Планктон морей и континентальных водоемов. Т. 1. Л.: Наука.
- Коровчинский Н.М., Котов А.А., Синев А.Ю. и др. 2021. Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии. М.: Тов-во науч. изд. КМК. Е. II.
- Кривина Е.С., Тарасова Н.Г. 2018. Особенности таксономической структуры техногенного водоема в период угасания // Изв. Самар. науч. центра РАН. Т. 20. № 2. С. 20.
- Романов Р.Е., Ермолаева Н.Е., Бортникова С.Б. 2011. Оценка влияния тяжелых металлов на планктон в техногенном водоеме // Химия в интересах устойчивого развития. Т. 19. № 3. С. 350.
- Садчиков А.П. 2003. Методы изучения пресноводного фитопланктона. М.: Изд-во Университет и школа.
- Снитько Л.В., Снитько В.П. 2019. Таксономическая структура и экология фитопланктона малых лесных озер в зоне техногенеза сульфидного месторождения (Южный Урал) // Биология внутр. вод. № 4–1. С. 25. https//dx.doi.org/10.1134/S032096521904034X1.
- Суховило Н.Ю., Романчук А.И. 2018. Термодинамические и гидрохимические особенности малых озер и меловых карьерных водоемов Беларуси и Польши // Актуальные вопросы наук о земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств: Сб. ст. IV Межд. науч.-практ. конф. Гомель: Гомельский гос. ун-т. Ч. 1. С. 42.
- Ташлыкова Н.А., Афонина Е.Ю., Замана Л.В. и др. 2023. Техногенные водоемы (Забайкальский край): экологические особенности // Успехи совр. естествознания. № 8. С. 66. https://dx.doi.org/10.17513/use.38090
- Удачин В.Н., Аминов П.Г., Лонщакова Г.Ф., Дерягин В.В. 2009. Распределение физико-химических параметров в карьерных озерах Блявинского и Яман-Касинского колчеданных месторождений (Южный Урал) // Вестник ОГУ. № 5. С. 167.
- Хомич С.А. 1986. Карьерные водоемы как лимнические системы // Вестн. Белорус. гос. ун-та. Сер. 2. География. № 1. С. 73.
- Юркевич Н.В. 2009. Геохимия вод и осадков техногенных карьерных озер Салаирского рудного поля: Автореф. дис…. канд. геол.-мин. наук. Новосибирск. 21 с.
- Blanchette M.L., Lund M.A. 2016. Pit lakes are a global legacy of mining: an integrated approach to achieving sustainable ecosystems and value for communities // Current Opinion in EnV. Sustain. V. 23. P. 28. https://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2016.11.012
- Blanchette M.L., Lund M.A. 2020. Foreword to the special issue on pit lakes: the current state of pit lake science // Mine Water Environ. V. 39. P. 425. https://doi.org/10.1007/s10230-020-00706-6
- Castro J.M., Moore J.N. 2000. Pit lakes: their characteristics and the potential for their remediation // Environ. Geol. V. 39(11). P. 1254.
- Deneke R. 2000. Review of rotifers and crustaceans in highly acidic environments of pH values ≤3 // Hydrobiologia. V. 433. P. 167.
- Derham T. 2004. Biological communities and water quality in acidic mine lakes. http://www.sese.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1637354/Derham_2004.pdf (дата обращения 21.12.2022).
- Ejsmont-Karabin J. 2012. The usefulness of zooplankton as lake ecosystem indicators: Rotifer trophic state index // Pol. J. Ecol. V. 60. P. 339–350.
- El-Bassat R.A., Taylor W.D. 2007. The zooplankton community of Lake Abo Zaabal, a newly-formed mining lake in Cairo, Egypt // Afr. J. Aquat. Sci. V. 32(2). P. 1.
- Ferrari C.R., de Azevedo H., Wisniewski M.J.S. et al. 2015. An overview of an acidic uranium mine pit lake (Caldas, Brazil): Composition of the zooplankton community and limnochemical aspects // Mine Water Environ. V. 34. P. 343. https://dx.doi.org/10.1007/s10230-015-0333-9
- Filippova K.A., Deryagin V.V. 2005. Chemical hydrology of mine pit lakes of the Bakala geotechnic system (Southern Urals) // Water Res. V. 32(4). P. 427.
- Gammons C.H., Harris L.N., Castro J.M. et al. 2009. Creating lakes from open pit mines: processes and considerations — with emphasis on northern environments // Canad. Techn. Report Fish. Aquat. Sci. V. 2826.
- Gołdyn R., Wasielewska E.S., Madura K.K. et al. 2006. Functioning of the gravel pit lake in Owińska (West Poland) in the years 2001–2005 // Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. V. 3. P. 45.
- Goździejewska A.M., Koszałka J., Tandyrak R. et al. 2021. Functional responses of zooplankton communities to depth, trophic status, and ion content in mine pit lakes // Hydrobiologia. V. 848. P. 2699. https://doi.org/10.1007/s10750-021-04590-1
- Hakanson L., Boulion V. 2003. Modelling production and biomasses of herbivorous and predatory zooplankton in lakes // Ecol. Modell. V. 161. P. 1.
- Hindák F., Hindáková A. 2003. Diversity of cyanobacteria and algae of urban gravel pit lakes in Bratislava, Slovakia: A survey // Hydrobiologia. V. 506. P. 155. https://doi.org/10.1023/B:HYDR.0000008631.82041.c7
- Hobaek M., Manca M., Andersen T. 2002. Factors influencing species richness in lacustrine zooplankton // Acta Oecol. V. 23. P. 155.
- Kalin M., Cao C., Smith M.P., Olaveson M.M. 2001. Development of the phytoplankton community in a pit-lake in relation to water quality changes // Water Res. V. 35(13). P. 3215.
- Leppänen J.J. 2018. An overview of Cladoceran studies conducted in mine water impacted lakes // Int. Aquat. Res. V. 10. P. 207. https://doi.org/10.1007/s40071-018-0204-7
- Magurran A.E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Marszelewski W., Dembowska E.A., Napiórkowski P., Solarczyk A. 2017. Understanding abiotic and biotic conditions in post-mining pit lakes for efficient management: a case study (Poland) // Mine Water Environ. V. 36. P. 418. http://dx.doi.org/10.1007/s10230-017-0434-8
- Mondal S., Palit D., Hazra N. 2021. Rotifer diversity in coal mine generated pit lakes of Raniganj Coal Field Area, West Bengal, India // LimnoFish. V. 7(2). P. 115. https://dx.doi.org/ 10.17216/LimnoFish.777321
- Mondal S., Palit D., Hazra N. 2022. Study on composition and spatiotemporal variation of zooplankton community in coal mine generated pit lakes, West Bengal, India // Tropical Ecol. https://doi.org/10.1007/s42965-022-00274-6
- Moser M., Weisse T. 2011. The most acidified Austrian lake in comparison to a neutralized mining lake // Limnologica. V. 41. P. 303.
- Nixdorf B., Fyson A., Krumbeck H. 2001. Review: plant life in extremely acidic waters // Environ. Experim. Botany. V. 46. P. 203.
- Nixdorf B., Lessmann D., Deneke R. 2005. Mining lakes in a disturbed landscape: Application of the EC Water Framework Directive and future management strategies // Ecol. Engin. V. 24. P. 67. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2004.12.008
- Nixdorf B., Lessmann D., Steinberg C.E.W. 2003. The importance of chemical buffering for pelagic and benthic colonization in acidic waters // Water, Air and Soil Pollut. V. 3. P. 27.
- Pereira R., Soares A., Ribeiro R., Calves F. 2002. Assessing the trophic state of Linhos Lake: a first step towards ecological rehabilitation // Environ. Manag. V. 64. P. 285–297. https://doi.org/10.1006/jema.2001.0521
- Pociecha A., Bielańska-Grajner I., Szarek-Gwiazda E.E. et al. 2018. Rotifer diversity in the acidic pyrite mine pit lakes in the Sudety Mountains (Poland) // Mine Water Environ. V. 37. P. 518. https://doi.org/10.1007/s10230-017-0492 y
- Ruttner-Kolisko A. 1977. Suggestions for biomass calculation of plankton rotifers // Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. Bd 8. S. 71.
- Seelen L.M.S., Teurlincx S., Bruinsma J. et al. 2021. The value of novel ecosystems: Disclosing the ecological quality of quarry lakes // Sci. Total Environ. V. 769. Р. 144294. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144294
- Scheffer M. 1999. The effect of aquatic vegetation on turbidity; how important are the filter feeders? // Hydrobiologia. V. 408(409). P. 307.
- Sienkiewicz E., Gąsiorowski M. 2016. The evolution of a mining lake — From acidity to natural neutralization // Sci. Total Environ. V. 557–558. P. 343–354. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.03.088
- Sienkiewicz E., Gąsiorowski M. 2018. The influence of acid mine drainage on the phyto- and zooplankton communities in a clay pit lake in the Łuk Mużakowa Geopark (Western Poland) // Fundam. Appl. Limnol. V. 191/2. P. 143. https://doi.org/10.1127/fal/2018/1079
- Soni A.K., Mishra B., Singh S. 2014. Pit lakes as an end use of mining: A review // J. Mining Environ. V. 5(2). P. 99.
- Tavernini S., Nizzoli D., Rossetti G., Viaroli P. 2009. Trophic state and seasonal dynamics of phytoplankton communities in two sand-pit lakes at different successional stages // J. Limnol. V. 68(2). P. 217. https://doi.org/10.3274/JL09-68-2-06
- Thomas E.J., John J. 2006. Diatoms and macroinvertebrates as biomonitors of mine-lakes in Collie, Western Australia // J. Royal Soc. West. Austr. V. 89. P. 109.
- Weithoff G., Moser M., Kamjunke N. et al. 2010. Lake morphometry and wind exposure may shape the plankton community structure in acidic mining lakes // Limnologica. V. 40. P. 161.
- Wołowski K., Uzarowicz Ł., Łukaszek M., Pawlik-Skowrońska B. 2013. Diversity of algal communities in acid mine drainages of different physico-chemical properties // Nova Hedwigia. V. 97. № 1–2. P. 117. http://dx.doi.org/10.1127/0029-5035/2013/0105
- Wollmann K., Deneke R., Nixdorf B., Packroff G. 2000. Dynamics of planktonic food webs in three mining lakes across a pH gradient (pH 2–4) // Hydrobiologia. V. 433. P. 3.
- Vucic J.M., Rachel S., Gray D.K. et al. 2019. Young gravel-pit lakes along Canada’s Dempster Highway: How do they compare with natural lakes? // Arct. Antarct. AlP. Res. V. 51(1). P. 25. https://dx.doi.org/10.1080/15230430.2019.1565854
Supplementary files