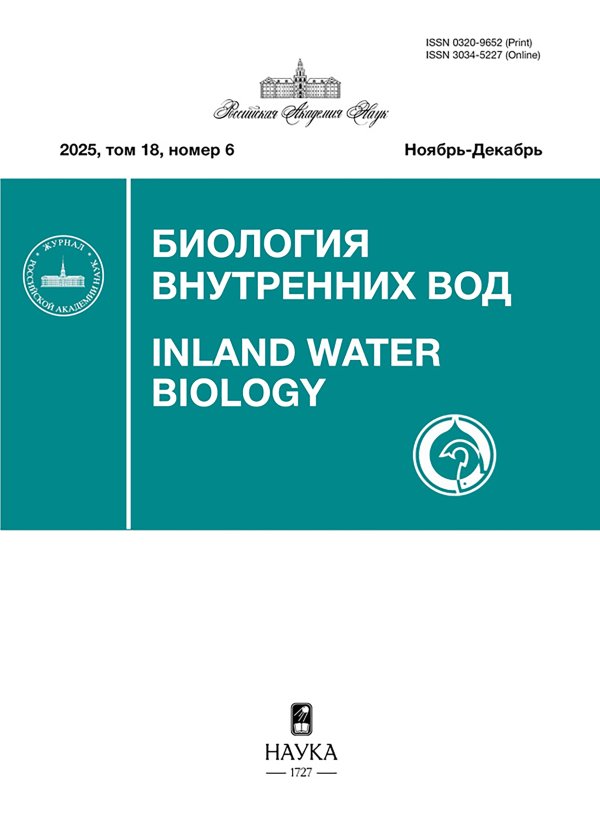Composition of the Low Molecular Weight Metabolome of Potamogeton perfoliatus (Potamogetonaceae) as an Indicator of the Transformation of the Ecological State of the Littoral Zone
- Authors: Krylova J.V.1, Kurashov Е.А.2, Protopopova E.V.2, Khodonovich V.V.2,3, Yavid E.Y.2, Kuchareva G.I.2
-
Affiliations:
- Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences
- St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
- Saint-Petersburg Branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution “All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography” (“GosNIORCH” by L.S. Berg)
- Issue: Vol 17, No 4 (2024)
- Pages: 555-565
- Section: ВЫСШАЯ ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-9652/article/view/269863
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320965224040048
- EDN: https://elibrary.ru/YJXAUA
- ID: 269863
Cite item
Full Text
Abstract
The composition and nature of changes in the low-molecular-weight metabolome (NM) of Potamogeton perfoliatus L., growing in 6 biotopes of Lake Ladoga with different types of the anthropogenic load has been analyzed. According to the research results, it was found that the total number of low molecular weight organic compounds (LMWOCs) in the P. perfoliatus NM composition is directly dependent on anthropogenic load, which is well marked by the development of cyanobacteria. The greater the intensity of pollution or eutrophication of waters, or the higher the number of cyanobacteria, the lower the total number of LMWOCs and their concentration. A strongly pronounced dependence of the total concentrations of groups of NM compounds on the anthropogenic disturbance of the biotope and the concentration of cyanobacteria was revealed. A decrease in the number, relative amount, total concentration of carboxylic acids, number and content of unsaturated fatty acids, and, at the same time, an increase in the composition and content of phenols and the total content of aldehydes and ketones depends on an increase in anthropogenic pressure. The specific composition of NM of pierced pondweed depends on its response to biotic and abiotic factors of the aquatic environment, including anthropogenic ones. The revealed features of the change in the composition of P. perfoliatus NM make it possible to use it as an integral indicator of the anthropogenic impact on the littoral biotopes of water bodies and the deterioration of their ecological state.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ1
Известно, что первичные и вторичные метаболиты водных растений играют весьма значимую роль в формировании и функционировании водных экосистем (Гуревич, 1978; Fink, 2007; Kurashov et al., 2014). Один из наиболее значимых механизмов, при помощи которого растения влияют на свое окружение и в наземных, и в водных экосистемах, – аллелопатия (Gopal, Goel, 1993; Hu, Hong, 2008; Allelopathy …, 2013; Kurashov et al., 2014; Aslam et al., 2017). В частности, данный механизм оказывает ингибирующие эффекты воздействия макрофитов на микроорганизмы, включая цианобактерий (Mushtaq et al., 2020; Śliwińska-Wilczewska et al., 2021; Asif et al., 2021). В свою очередь, цианобактерии, в изобилии развивающиеся при антропогенном воздействии, своими метаболитами могут воздействовать на макрофиты, приводя к изменению их метаболических профилей (Курашов и др., 2018а). По содержанию метаболического профиля макрофита можно судить об экологическом состоянии биотопа, а изменчивость метаболома использовать в качестве индикатора трансформации экосистемы.
Будучи наиболее динамичной частью экосистемы Ладожского озера, литоральная зона неизбежно претерпевает трансформацию, в том числе от загрязнения и эвтрофирования (Литоральная…, 2011). Именно в литоральной зоне выявлены наиболее загрязненные участки или зоны экологического риска, расположенные вблизи источников загрязнения (Андроникова и др., 2011). Поскольку индикаторная роль литоральной зоны в выявлении “горячих точек” очень значима для диагностики состояния экосистемы в целом (Литоральная…, 2011), а метаболический профиль водных растений, произрастающих в литоральной зоне, служит интегральным показателем ее состояния подобно общему анализу крови (Курашов и др., 2018а), то понятна актуальность изучения изменчивости метаболома макрофитов как индикатора состояния и трансформации водной экосистемы.
Рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus L.) широко распространен в Ладожском озере и часто доминирует в растительных ассоциациях, выполняя структурообразующую роль (Распопов, 1985). Показано, что P. perfoliatus в озерных местообитаниях активно реагирует за счет увеличения проективного покрытия и встречаемости, на изменение условий существования при колебаниях уровня воды, с которыми тесно связаны изменения многих физико-химических и гидробиологических факторов, влияющих на жизнедеятельность озерных макрофитов (Вейсберг, Исакова, 2022). В связи с этим остается не раскрытым вопрос, как изменяется НМ рдеста при изменении условий его существования, в том числе трансформируемых антропогенным фактором.
Цель работы – оценить изменчивость НМ P. perfoliatus для ее использования в качестве индикатора экологического состояния прибрежной зоны Ладожского озера и его изменения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для сравнительного исследования компонентного состава НМ по составляющим его НОС рдеста пронзеннолистного послужили сборы этого растения, проведенные в фазу цветения, из шести различных мест обитания Ладожского озера с разной антропогенной нагрузкой: Волховская губа вблизи устья р. Волхов, западная часть Свирской губы, зал. Импилахти, зал. Лехмолахти, у пос. Вороново и у о. Мантинсаари. Из экотопов, относящихся к зонам экологического риска были выбраны участки вблизи устья р. Волхов, а также выход из зал. Импилахти. Участок в Свирской губе имеет пограничный характер и, по-видимому, может испытывать негативное воздействие со стороны устья р. Свирь. Согласно данным в работе (Литоральная…, 2011) и табл. 1, местообитания в Волховской губе и зал. Импилахти можно отнести к биотопам с высокой антропогенной нагрузкой, в Свирской губе – со слабой антропогенной нагрузкой, у пос. Вороново, в зал. Лехмолахти и у о. Мантинсаари – с отсутствием или незначительной антропогенной нагрузкой. Растения собирали в июле 2014 г., точки отбора даны на рис. 1.
Рис. 1. Местоположение отбора образцов P. perfoliatus в Ладожском озере. 1 – зал. Импилахти, 2 – у о. Мантинсаари, 3 – Свирская губа, 4 – у пос. Вороново, 5 – у устья р. Волхов, 6 – зал. Лехмолахти; черным контуром обозначены зоны экологического риска, выделяемые в Ладожском озере (Литоральная…, 2011).
Морфометрия, гидрофизические и гидрохимические особенности литоральных местообитаний в Ладожском озера, в том числе представленных в нашей работе, подробно описаны в (Литоральная…, 2011). Основные лимнологические показатели состояния водной среды местообитаний P. perfoliatus, полученные in situ во время отбора проб при помощи многопараметрического автоматического зонда YSI 6600D (YSI Incorporated, США), представлены в табл. 1.
Таблица 1. Средние значения (медиана) основных лимнологических показателей состояния водной среды в период исследований
Показатель | В | И | Л | Вор | Ман | Сви |
Т | 30.62 | 22.30 | 15.73 | 26.90 | 20.30 | 22.30 |
S | 0.281 | 0.093 | 0.083 | 0.113 | 0.086 | 0.082 |
M | 0.165 | 0.064 | 0.065 | 0.071 | 0.061 | 0.056 |
O2 | 8.34 111.5 | 2.21 25.4 | 11.29 113.5 | 8.36 105.0 | 8.64 95.7 | 8.48 97.4 |
pH | 7.98 | 6.93 | 7.80 | 7.52 | 7.49 | 7.40 |
ОВП | 118 | 85 | 105 | 119 | 109 | 135 |
NH4+ | 0.13 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
Ц | 2426 | 12442 | 891 | 3333 | 1857 | 1409 |
Хл а | 8.3 | 10.4 | 3.7 | 12.5 | 4.4 | 3.9 |
Примечание. T – температура, °C; S – электропроводность, мСм/см; M – общая минерализация, г/л; O2 – концентрация кислорода, мг/л (над чертой), % насыщения – под чертой; ОВП – окислительно-восстановительный потенциал, mV; pH – кислотность среды; NH4+ – концентрация аммонийного азота, мг/л; Ц – концентрация цианобактерий, кл./мл; Хл а – концентрация хлорофилла а, мкг/л. Здесь и табл. 2–6, В – у устья р. Волхов, И – зал. Импилахти, Л – зал. Лехмолахти, Вор – у пос. Вороново, Ман – о. Мантинсаари, Сви – Свирская губа.
Численность цианобактерий (Ncyan), маркер степени антропогенного воздействия, определяли в составе фитопланктона. Пробы воды объемом 0.5 л для анализа фитопланктона отбирали батометром из поверхностного слоя воды. Использовали общепринятые в гидробиологии методы фиксации (“мягкий” способ фиксации проб раствором Люголя) и обработки фитопланктона (Гусева, 1959; Садчиков, 2003; Судницына, 2005).
Побеги P. perfoliatus отбирали целиком без корневой системы. На каждой станции собирали такое количество побегов, чтобы в сухом эквиваленте (≥100 г) их было достаточно при формировании интегральной пробы для хромато-масс-спектрометрического исследования, то есть пробы, содержащей разные побеги растения, отобранные в данном местообитании.
Отобранные растения промывали для освобождения от обрастаний и загрязнений в соответствии с ГОСТ 31412-2012.2 Растения сушили в проветриваемом помещении до воздушно-сухого состояния без доступа прямых лучей солнца (в тени). Традиционный метод сушки в тени считается наиболее подходящим поскольку позволяет получить максимальный выход эфирного масла для его последующего извлечения методом гидродистилляции (Hassanpouraghdam et al., 2010; Caputo et al., 2022). Воздушно-сухие растения хранили в лаборатории при относительной влажности ≤75%.
Компонентный состав НМ рдеста пронзеннолистного исследовали в составе эфирного масла, полученного из воздушно-сухого растительного материала методом паровой гидродистилляции. НОС, содержащиеся в эфирном масле высушенных растений, выделяли с помощью аппарата Клевенджера по ГОСТ 24027.2-803 с одновременной экстракцией в гексан. Перед перегонкой растительный материал измельчали до порошкообразного состояния в блендере. Для этого использовали несколько высушенных растений, чтобы получить интегральный порошкообразный образец. Для перегонки брали необходимую навеску (10–15 г), засыпали в колбу с 400 мл дистиллированной воды и добавляли 5 мл гексана. Гексановый экстракт до хромато-масс-спектрометрического анализа хранили в морозильной камере при температуре –18°С.
Состав НОС P. perfoliatus выявляли на хромато-масс-спектрометрическом комплексе TRACE ISQ (Thermo Scientific) с квадрупольным масс-анализатором. Использовали колонку модели “TRACE TR-5MS GC Column”, 15 м × 0.25 мм с фазой ID 0.25 мкм. Газом-носителем служил гелий. Масс-спектры снимали в режиме сканирования по полному диапазону масс (30–600 m/z) в программированном режиме температур (35° – 3 мин, 2°/мин до 60° – 3 мин, 2°/мин до 80° – 3 мин, 4°/мин до 120° – 3 мин, 5°/мин до 150° – 3 мин, 15°/мин до 240° – 10 мин) с последующей пошаговой обработкой хроматограмм. Выявленные НОС идентифицировали с помощью библиотек масс-спектров “NIST-2014” и “Wiley”. Для более точной идентификации применяли линейные индексы удерживания (Ткачев, 2008), полученные с использованием стандартов алканов C7–C30. Для количественного анализа применяли бензофенон в качестве внутреннего стандарта.
Сходство образцов эфирного масла по качественному составу НОС оценивали с помощью коэффициентов сходства Жаккара (J) (Jaccard, 1901) и Съеренсена–Чекановски (Qs) (Czekanowski, 1922; Sorensen, 1948), рассчитанных по следующим формулам:
,
где c – число общих НОС для образцов A и B; a – НОС, присутствующие в А; b – НОС, присутствующие в В.
Для оценки сходства образцов по количественным данным (по содержанию отдельных соединений и групп соединений) использовали индекс Мориситы (Мориситы–Хорна) (Morisita, 1959):
,
где ani – содержание i-го соединения (группы соединений) в образце А; bni – то же для образца В; aN – суммарное содержание НОС в образце А; bN – то же для образца В; da = ∑( ani2)/aN2 , db = ∑(bni2)/bN2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование компонентного состава НМ рдеста пронзеннолистного из различных местообитаний Ладожского озера показало наличие значительного числа НОС (254) (табл. 2; Доп. мат. табл. S1), принадлежащих к различным классам химических соединений (табл. 3). Количество общих соединений НМ рдеста в исследуемых биотопах было незначительным (25).
Таблица 2. Число и общая концентрация веществ НМ P. perfoliatus в различных биотопах в Ладожском озере
Показатель | В | И | Сви | Л | Вор | Ман |
НОС* | 77 | 61 | 130 | 107 | 122 | 126 |
С | 32.1 | 21.6 | 39.8 | 118.4 | 86.3 | 268.7 |
Примечание. НОС – число низкомолекулярных органических соединений; С – общая концентрация веществ, мкг/г сухой массы.
*Всего в шести биотопах выявлено 254 НОС, из них число общих веществ – 25 НОС.
Таблица 3. Основные группы соединений НМ P. perfoliatus в различных биотопах
Группа соединений | В | И | Сви | Л | Вор | Ман | ||||||
ОК | СВ | ОК | СВ | ОК | СВ | ОК | СВ | ОК | СВ | ОК | СВ | |
Ароматические углеводороды | 1.83 | 0.589 | 2.37 | 0.512 | 2.09 | 0.830 | 1.30 | 1.542 | 0.61 | 0.528 | 0.39 | 1.054 |
Спирты | 12.47 | 4.009 | 20.53 | 4.433 | 19.10 | 7.600 | 22.48 | 26.613 | 20.86 | 18.006 | 30.14 | 80.984 |
Альдегиды | 25.63 | 8.240 | 23.95 | 5.173 | 21.86 | 8.700 | 6.88 | 8.138 | 10.90 | 9.405 | 4.68 | 12.584 |
Углеводороды | 18.92 | 6.083 | 9.69 | 2.092 | 20.28 | 8.070 | 26.34 | 31.176 | 13.76 | 11.878 | 14.50 | 38.971 |
Карбоновые кислоты | 1.29 | 0.413 | 5.88 | 1.271 | 8.87 | 3.530 | 35.55 | 42.084 | 23.72 | 20.471 | 22.74 | 61.101 |
Эфиры | 2.80 | 0.902 | 5.80 | 1.253 | 2.36 | 0.940 | 1.34 | 1.582 | 0.68 | 0.591 | 0.40 | 1.074 |
Неидентифици-рованные НОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.570 | 0.08 | 0.094 | 0.41 | 0.355 | 0.13 | 0.339 |
Фосфорсодержащие НОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.046 | 0.11 | 0.094 | 0.02 | 0.051 |
Кетоны | 29.89 | 9.606 | 11.58 | 2.501 | 16.48 | 6.560 | 2.88 | 3.415 | 21.45 | 18.514 | 18.45 | 49.584 |
Полифункциональные НОС | 6.42 | 2.063 | 18.25 | 3.943 | 7.19 | 2.860 | 2.97 | 3.514 | 7.24 | 6.247 | 8.43 | 22.653 |
Азотсодержащие НОС | 0.54 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.118 | 0.01 | 0.037 |
Фенолы | 0.20 | 0.066 | 1.95 | 0.421 | 0.35 | 0.140 | 0.14 | 0.166 | 0.12 | 0.107 | 0.10 | 0.262 |
Примечание. ОК – относительное количество в суммарном содержании НОС, %; СВ – содержание веществ, мкг/г сухой массы.
Исследованные местообитания различались по концентрации цианобактерий, хлорофиллу а, значениям ОВП. Наиболее сильно отличался по перечисленным показателям участок озера у пос. Импилахти, здесь были отмечены очень низкие концентрации и % насыщения кислорода а также высокие (в ≥2 раз) концентрации аммонийного азота (табл. 1). НМ P. perfoliatus в этом местообитании характеризовался самым низким числом НОС (61) и их наименьшей суммарной концентрацией (21.6 мкг/г сухой массы).
Также небольшое число соединений (77) и небольшая суммарная концентрация в НМ (32.1 мкг/г сухой массы) были отмечены у рдеста из местообитания вблизи устья р. Волхов, подверженного значительному антропогенному воздействию. В образцах из остальных обследованных локаций, характеризующихся меньшей антропогенной нагрузкой, число обнаруженных НОС было в ~1.5–2 раза больше (107–130) с максимальным количеством в Свирской губе. Хотя местообитание в Свирской губе расположено в пределах зоны экологического риска, однако здесь наблюдается достаточно благоприятное состояние озерной среды. На этом участке отмечено самое большое значение ОВП (135 mV), что свидетельствует о высокой скорости окисления органического вещества в отличие от участка у пос. Импилахти, где наблюдали минимальное из всех шести местообитаний значение ОВП (85 mV) (табл. 1).
Следует отметить, что в образце из зал. Лехмолахти зарегистрирована самая высокая концентрация ненасыщенных карбоновых кислот (22.11 мкг/г сухой массы) и среди них самая большая концентрация линоленовой кислоты (21.8 мкг/г сухой массы), которая больше ни в одном из исследованных образцов не обнаружена (табл. 4). В данном биотопе наблюдали наименьшую численность цианобактерий, что вполне объяснимо, поскольку карбоновые кислоты являются их сильными подавляющими агентами. Возможно, линоленовая кислота служила в этом случае самым сильным аллелохемиком в составе НМ рдеста, ингибирующим развитие цианобактерий. Суммарное содержание жирных кислот в образце рдеста из зал. Лехмолахти было одним из самых высоких (42.12 мкг/г сухой массы), более высокая концентрация отмечена лишь в НМ P. perfoliatus из местообитания у о. Мантинсаари (табл. 3), которое также можно рассматривать как биотоп без нарушающего антропогенного воздействия.
Таблица 4. Содержание карбоновых кислот (CA), мкг/г сухой массы в исследованных образцах P. perfoliatus
СА | В | И | Сви | Вор | Л | Ман |
Октановая (C8H16O2)Н | – | – | – | – | 0.0215 | – |
Нонановая (C9H18O2)Н | – | – | – | – | 0.090 | – |
Декановая (C10H20O2)Н | – | – | – | – | 0.131 | – |
Додекановая (C12H24O2)Н | – | – | 0.08 | 0.022 | 0.245 | 0.110 |
Тетрадекановая (C14H28O2)Н | – | 0.636 [1] | 0.91 [2] | 2.123 | 1.805 | 11.050 [2] |
Пентадец-14-еновая (C15H28O2)НН | – | – | – | – | 0.285 | 0.351 |
Пентадекановая (C15H30O2)Н | – | – | – | 5.592 [2] | 0.116 | 3.700 |
(Z)-Гексадец-11-еновая (C16H30O2)НН | – | – | 0.24 | – | 5.804 | 0.723 |
Гексадекановая (C16H32O2)Н | 0.310 [1] | 0.635 [2] | 1.23 [1] | 11.698 [1] | 11.797 [2] | 32.143 [1] |
Октадекановая (C19H38O2)Н | – | – | 1.07 | 1.036 | – | 2.924 |
Линолевая (C18H32O2)НН | 0.100 [2] | – | – | – | – | 8.435 |
α-линоленовая кислота (C18H30O2)НН | – | – | – | – | 21.789 [1] | – |
Число НН/число Н | 1/1 (2) | 0/2 (2) | 1/4 (5) | 0/5 (5) | 3/7 (10) | 3/5 (8) |
Суммарная концентрация (НН/Н) | 0.1/0.31 | 0/1.27 | 0.24/3.29 | 0/20.47 | 27.87/14.21 | 9.51/49.93 |
Суммарная концентрация общая | 0.41 | 1.27 | 3.53 | 20.47 | 42.08 | 59.44 |
Примечание. Н – насыщенные жирные кислоты; НН – ненасыщенные жирные кислоты; “–” – компонент отсутствует; в круглых скобках – общее число карбоновых кислот, в квадратных – места жирных кислот, занимающих первые два места по содержанию в НМ.
В исследованных биотопах суммарная концентрация карбоновых кислот различалась по принципу антропогенного влияния – чем оно сильнее, тем меньше их концентрация. Высокие концентрации карбоновых кислот отмечены в ряду Мантинсари (61.1 мкг/г), Лехмолахти (42.08 мкг/г), Вороново (20.47 мкг/г), низкие – у устья р. Волхов, зал. Импилахти и Свирской губе (0.41, 1.27 и 3.53 мг/г соответственно) (табл. 3). Число обнаруженных в образцах карбоновых кислот также зависело от антропогенной нагрузки и было больше в чистых биотопах литоральной зоны (рис. 2).
Рис. 2. Изменение общего числа НОС (1) и числа карбоновых кислот (CA, 2) в составе НМ P. perfoliatus в исследованных биотопах. И – зал. Импилахти, В – у устья р. Волхов, Сви – Свирская губа, Вор – у пос. Вороново, Ман – о. Мантинсаари, Л – зал. Лехмолахти.
Наши исследования, как и ранее (Kurashov et. al, 2021), показали что в различных литоральных местообитаниях в Ладожском озере численность цианобактерий имеет сильную связь с содержанием жирных кислот у рдеста пронзеннолистного, уменьшаясь с увеличением концентрации этих аллелохемиков в составе НМ (рис. 3а).
Рис. 3. Изменение численности цианобактерий (Ncyan, тыс. кл./мл) (1), концентрации (СА, мкг/г сухой массы (2) и доли СА, % (3) суммарной доли альдегидов и кетонов, АЛ + К, % (4) и доли фенолов Ф, % (5) в составе P. perfoliatus.
В компонентном состава НМ рдеста пронзеннолистного из различных местообитаний Ладожского озера было обнаружено 12 карбоновых кислот (табл. 4), из них четыре – ненасыщенные. Наименьшие суммарные концентрации жирных кислот отмечены в образцах рдеста из биотопов в устье р. Волхов, а также на выходе из зал. Импилахти (местообитания с высокой антропогенной нагрузкой), наибольшие – в образцах из заливов Лехмолахти и Мантинсаари (чистые местообитания). Для двух последних местообитаний выявлено и наибольшее число и наибольшее содержание ненасыщенных жирных кислот (табл. 4).
В образце растения из биотопа у зал. Импилахти зарегистрировано самое большое относительное количество ароматических углеводородов (табл. 3), и, в частности, самые большие значения относительного количества фенолов (рис. 3б).
Значительная доля суммарного содержания НОС приходилась на альдегиды и кетоны (табл. 3), за исключением местообитания в зал. Лехмолахти. Большой процент альдегидов наблюдали в образцах из устья р. Волхов, зал. Импилахти и Свирской губы. Суммарная доля альдегидов и кетонов в исследованных местообитаниях также была наибольшей вблизи устья р. Волхов, в зал. Импилахти и Свирской губе (рис. 3а). Прослеживается определенная тенденция уменьшения тех и других в зависимости от уменьшения уровня антропогенного влияния, которое может быть маркировано концентрацией цианобактерий (рис. 3а).
Изменения доли карбоновых кислот и суммарной доли альдегидов и кетонов в НМ P. perfoliatus находились в противоположной зависимости (рис. 3а, 4), что подтверждает предположение о возможности использовать и те, и другие вещества при оценке экологического состояния биотопа и судить о степени влияния на него антропогенной нагрузки.
Рис. 4. Зависимость между долей карбоновых кислот (СА, %) и суммарной долей альдегидов и кетонов (АЛ + К, %) в составе НМ P. perfoliatus в исследованных местообитаниях.
Результаты оценки сходства рассматриваемых биотопов по индексам сходства Жаккара (J) и Съеренсена–Чекановски (Qs) на основе учета всех веществ метаболических профилей P. perfoliatus в приведены в табл. 5.
Наиболее сходными оказались НМ рдеста у пос. Вороново и о. Мантинсаари (J = 0.75, Qs = 0.85), наименее сходными – из Свирской губы и зал. Импилахти (J = 0.23, Qs = 0.38), а также зал. Лехмолахти и устья р. Волхов (J = 0.24, Qs = 0.39). Таким образом, наиболее сходными были НМ рдеста из чистых местообитаний, наименее сходными из битопов с наименьшей и наибольшей антропогенной нагрузкой. Однако, достаточно несхожими могут быть НМ рдеста и в разных чистых биотопах. Например, НМ P. perfoliatus из зал. Лехмолахти сильно отличался от такового из местообитаний у пос. Вороново, Свирская губа и о. Мантинсаари (табл. 5), если учитывать все НОС, входящие в НМ.
Таблица 5. Сходство мест обитаний по индексам сходства Жаккара (J) и Съеренсена–Чекановски (Qs) по всем веществам НМ P. perfoliatus
J/Qs | В | И | Л | Вор | Ман | Сви |
В | – | 0.51 | 0.39 | 0.69 | 0.72 | 0.53 |
И | 0.34 | – | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.38 |
Л | 0.24 | 0.26 | – | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
Вор | 0.53 | 0.26 | 0.23 | – | 0.85 | 0.60 |
Ман | 0.56 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | – | 0.60 |
Сви | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.43 | 0.43 | – |
Результаты оценки сходства по количественным данным для всех соединений, групп соединений и мажорных компонентов представлены в табл. 6. По количественным данным для групп соединений наиболее сходными были местообитания у пос. Вороново и о. Мантинсаари (0.96) как и в первом сравнении (по J и Qs), относящиеся к чистым районам. Несколько меньшее сходство проявилось для Свирской губы и у устья р. Волхов (0.92) – местообитаний в южной части Ладожского озера. Наименее сходны были местообитания в зал. Лехмолахти и у устья р. Волхов (0.48), т. е.биотопы с различным уровнем антропогенного воздействия и различным географическим положением (северо-западная и южная части озера) (табл. 6).
Таблица 6. Сходство мест обитаний (индекс Мориситы–Хорна) по количественным данным НМ P. perfoliatus
CmhМС/ CmhГС | В | И | Л | Вор | Ман | Сви |
В | – | 0.82 0.47 | 0.48 0.22 | 0.77 0.39 | 0.67 0.23 | 0.92 0.69 |
И | 0.47 | – | 0.57 0.15 | 0.78 0.30 | 0.74 0.19 | 0.91 0.43 |
Л | 0.23 | 0.15 | – | 0.84 0.36 | 0.86 0.37 | 0.71 0.20 |
Вор | 0.39 | 0.31 | 0.36 | – | 0.96 0.76 | 0.88 0.47 |
Ман | 0.24 | 0.19 | 0.37 | 0.77 | – | 0.81 0.43 |
Сви | 0.69 | 0.44 | 0.21 | 0.48 | 0.46 | – |
Примечание. CmhГС – группы соединений (над чертой); CmhВС – все соединения (под чертой); CmhМС – мажорные соединения.
Наибольшее сходство по количественным данным для всех соединений выявлено между биотопами у пос. Вороново и о. Мантинсаари (0.76) и у устья р. Волхов и Свирской губой (0.69), что в первом случае объясняется сходством по принципу “чистые участки”, во втором – приуроченностью биотопов к южной части в зонах антропогенного воздействия. Низкие индексы сходства отмечены между биотопами с большим различием в степени антропогенной нагрузки: у заливов Лехмолахти и Импилахти (0.15), о. Мантинсари и зал. Импилахти (0.19), зал. Лехмалахти и Свирской губой (0.2), зал. Лехмолахти и у устья р. Волхов (0.22) (табл. 6).
При сравнении биотопов по мажорным компонентам НМ также наиболее сходными оказались биотопы у пос. Вороново и о. Мантинсаари (0.77), наиболее различными – заливы Лехмолахти и Импилахти (0.15) (табл. 6).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Известно, что карбоновые кислоты играют значительную роль в водных экосистемах прежде всего, как активные аллелохемики, подавляя развитие планктонных водорослей и цианобактерий (Hegazy et al., 2001; Nakai et al., 2005; Hu, Hong, 2008; Zuo et al., 2016; Sun et al., 2016; Курашов и др., 2019; Крылова и др., 2020; Kurashov et al., 2021; Zhu et al., 2021).
Следует отметить, что только одну кислоту (гексадекановую) обнаружили во всех шести образцах растений. Возможно, это связано с тем, что ее синтез базовый и не прекращается в качестве защитной функции в любых экологических условиях, даже в случае высокой концентрации цианобактерий и их конкурентного преимущества. Причем, в четырех случаях из шести гексадекановая кислота занимала первое место по содержанию среди жирных кислот и в одном случае делила первое место с тетрадекановой кислотой (табл. 4). Если учитывать только насыщенные жирные кислоты, то данная кислота занимала первое место по содержанию. Гексадекановая кислота является наиболее обильной карбоновой кислотой не только у P. perfoliatus, но и у других макрофитов. Так, при исследовании содержания жирных кислот у 12 пресноводных макрофитов (Azolla microphylla Kaulfus, A. pinnata R.Br., Enhydra fluctuans Lour., Hydrilla verticillate (L. f.) Royle, Ipomoea aquaticа Forssk., Lemna minor L., Marsilea quadrifolia L., Pistia stratiotes L., Salvinia molesta D.Mitch., S. natans (L.) All., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. и Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas) было выявлено, что гексадекановая кислота наиболее обильна среди насыщенных жирных кислот у всех исследованных растений (Kumar et al., 2022). Похожий результат был получен и для шести видов рясковых (Spirodela polyrhiza, Landoltia punctata (G.Mey.) Les & D.J.Crawford, Lemna minor, L. gibba L., Wolffiella hyalina (Delile) Monod, Wolffia microscopica (Griff.) Kurz) (Appenroth et al., 2017). У макрофитов Myriophyllum spicatum L., Ceratophyllum demersum L. и Eichhornia crassipes (Mart.) Solms из водоемов бассейна р. Нил на гексадекановую кислоту приходилось 20–42% суммарного содержания жирных кислот (Haroon, 2020). В нашем случае гексадекановая кислота достигала 28.0–75.6% суммарного содержания жирных кислот.
В условиях интенсивного развития цианобактерий синтез свободных жирных кислот у макрофитов подавляется, однако при значительном развитии макрофитов, наоборот, жирные кислоты преобладают в составе НМ макрофитов и выступают в качестве аллелохемиков, подавляя развитие цианобактерий. В частности, это было продемонстрировано на примере роголистника темно-зеленого (Ceratophyllum demersum), произрастающего в пойменном озере с изменяющимся в разные годы трофическим состоянием и чередующимся доминированием в водоеме либо цианобактерий, либо погруженных макрофитов (Kurashov et al., 2018).
Данные, полученные для Potamogeton perfoliatus в настоящем исследовании, подтвердили эту закономерность. Так, наименьшим числом и содержанием жирных кислот характеризовались образцы рдеста из биотопов с наибольшей антропогенной нагрузкой и высоким развитием цианобактерий (в устье р. Волхов и на выходе из зал. Импилахти). Для этих же местообитаний выявлено наименьшее число (или полное отсутствие) и содержание ненасыщенных жирных кислот (табл. 4). Для другого местообитания в Волховской губе (у пос. Вороново), где зарегистрирована высокая концентрация цианобактерий, тоже было отмечено полное отсутствие ненасыщенных жирных кислот. Таким образом, высокое содержание жирных кислот в составе НМ P. perfoliatus, а также число и содержание ненасыщенных жирных кислот, могут служить признаком, что водное местообитание подвержено невысокой антропогенной нагрузке или таковая отсутствует.
Примечательно нахождение в значительном количестве (табл. 4) у рдеста из чистого зал. Лехмолахти α-линоленовой кислоты, относящейся к группе особо ценных полиненасыщенных жирных кислот, на нее приходилось 51.8% суммарного содержания жирных кислот. Следует отметить, что в макрофитах, изученных в работах (Kumar et al., 2022; Haroon, 2020), данная кислота либо отсутствовала (в большинстве случаев), либо находилась в незначительном количестве (0.36–2.48% суммарного содержания жирных кислот). У представителей рясковых α-линоленовую кислоту обнаруживали всегда, ее содержание было довольно значительным (11–25% суммарного содержания жирных кислот) (Appenroth et al., 2017). Выявленный факт возможности синтеза рдестом пронзеннолистным в значительном количестве α-линоленовой кислоты (а также других ненасыщенных жирных кислот) в определенных (не подверженных антропогенному воздействию) условиях указывает на возможность использовать это растение как природный возобновляемый ресурс для их получения с целью разнопланового хозяйственного использования (фармакология, пищевая промышленность и т.д.). В чистых местообитаниях в Ладожском озере (о. Мантинсаари, зал. Лехмолахти,) содержание ненасыщенных жирных кислот в НМ рдеста достигало 9.51 и 27.87 мкг/г сухой массы соответственно (табл. 4), в остальных биотопах с различной степенью антропогенного воздействия содержание ненасыщенных карбоновых кислот изменялось в пределах 0–0.24 мкг/г сухой массы.
В работе (Hassan et al., 2016) было показано, что в водных макрофитах (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Potamogeton pectinatus L., P. perfoliatus и Ceratophyllum demersum повышенное содержание ароматических углеводородов может быть индикатором антропогенного воздействия на водную экосистему. Факт наличия в образце Potamogeton perfoliatus из биотопа у зал. Импилахти самого большого относительного количества ароматических углеводородов (табл. 3) и самого большого значения относительного количества фенолов (рис. 3б) может быть использован как индикатор высокого антропогенного воздействия на акваторию, приводящего, в том числе, к высокому развитию цианобактерий. В районе зал. Импилахти была зарегистрирована самая высокая из всех исследуемых биотопов концентрация цианобактерий (табл. 1). На рис. 3б четко прослеживается тенденция по увеличению доли фенолов с увеличением концентрации цианобактерий в местообитании, что, по-видимому, можно интерпретировать как увеличение доли фенолов с тенденцией роста антропогенного пресса, маркируемого развитием цианобактерий. Исключение из этой тенденции – местообитание в Свирской губе, где численность цианобактерий была невысока. Возможно, повышению доли фенолов в составе НМ рдеста способствовали какие-то другие факторы водной среды. Фенолы являются наиболее широко распространенным классом вторичных метаболитов растений, и высшие растения способны продуцировать несколько тысяч различных фенольных соединений. Показано, что у макрофитов ветландов (Phragmites australis, Phalaris arundinacea L., Typha latifolia L., Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., Scirpus sylvaticus L., Carex nigra (L.) Reichard и Juncus effuses L.) содержание фенолов в значительной степени вариабельно и сильно зависит от конкретных условий местообитания (Dvořáková Březinová, Vymazal, 2018). В то же время, выявлено, что водные макрофиты способны активно синтезировать и выделять в окружающую их воду фенольные соединенияаллелохемики, которые оказывали аддитивное и синергетическое ингибирующее действие на рост цианобактерий (Microcystis aeruginosa Kütz.) (Gao et al., 2011).
Следует отметить, что увеличение доли фенолов в составе НМ у макрофитов в ответ на повышенное развитие цианобактерий может быть общей тенденцией. Так, у Ceratophyllum demersum в пойменном озере с изменяющимся трофическим состоянием было выявлено увеличение доли фенолов в 3 раза в НМ при “цианобактериальном” гиперэвтрофном состоянии водоема по сравнению с “макрофитным” мезотрофным состоянием (Kurashov et al., 2018).
Полученные данные по компонентному составу НМ P. perfoliatus в Ладожском озере, а также результаты оценки сходства изученных биотопов по показателям компонентного состава НМ рдеста позволяют выявить локации в литорали Ладожского озера, находящиеся под значительным антропогенным прессом (эвтрофирование и загрязнение). Это прежде всего местообитания в районе зал. Импилахти и устья р. Волхов. Факт неблагополучного состояния этих участков литорали Ладожского озера подтверждается токсикологическими, гидрохимическими показателями и показателями развития фитопланктона, полученными в 2019 г. (Крылова и др., 2022). Известно, что зал. Импилахти эвтрофируется и загрязняется в связи с хозяйственной деятельностью на прилежащей территории из-за поступления в него промышленных сточных вод, стоков с сельскохозяйственных угодий, жилых и рекреационных зон (Крылова и др., 2022). В 2014 г., когда собирали материал по макрофитам в литоральной зоне Ладожского озера, трофический уровень вод на участках литорали на выходе из зал. Импилахти соответствовал гиперэвтрофному по показателям бактериопланктона (Митрукова и др., 2020). Там отмечали максимальные по сравнению с другими биотопами литоральной зоны озера процент палочковидных клеток и общую численность бактерий (Митрукова и др., 2020). Косвенно на повышенное загрязнение органическим веществом указывают и общие лимнологические параметры – дефицит кислорода (концентрация 2 мг/л), процент насыщения кислородом (25.4%), низкий для Ладожского озера окислительно-восстановительный потенциал и высокая по сравнению с другими рассматриваемыми в нашей работе биотопами концентрация аммонийного азота (0.27 мг/л) (табл. 1).
Волховская губа всегда выделялась и выделяется поступлением в нее значительного количества взвеси и биогенных элементов с водными массами рек Волхов и Сяси (Литоральная…, 2011). Кроме того, в устьевой участок р. Сясь попадают стоки Сясьского целлюлозно-бумажного комбината, которые в летний период при определенных метеоусловиях под влиянием ветровых течений способны распространяться вдоль берега Волховской губы к р. Волхов. Свою роль в ухудшении экологического состояния прибрежной зоны Волховской губы вблизи устьев рек могут играть и различные загрязнители, задерживающиеся в донных отложениях, но до настоящего времени неопределяемые. Перечисленные факты указывают на многофакторность антропогенной нагрузки. При этом трансформация экосистемы под антропогенным прессом отражается на содержании НОС в метаболическом профиле рдеста пронзеннолистного, что может быть индикатором такой трансформации.
Таким образом, максимальное сходство образцов P. perfoliatus по всем примененным индексам сходства наблюдали между чистыми местообитаниями, а наибольшие различия – между чистыми биотопами и биотопами в зонах антропогенного воздействия. Это доказывает, что компонентный состав НОС НМ рдеста пронзеннолистного имеет характерные специфические черты на участках литорали озера с различным уровнем антропогенной нагрузки, и особенности низкомолекулярных метаболических профилей P. perfoliatus дают возможность детектировать подобные участки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты показали, что общее число НОС в составе НМ P. perfoliatus находится в прямой зависимости от антропогенной нагрузки, которая хорошо маркируется развитием цианобактерий. Чем больше интенсивность загрязнения или эвтрофирования вод, или чем выше численность цианобактерий, тем меньше общее число НОС. Большой процент относительного количества ароматических углеводородов, в частности фенолов, а также альдегидов и суммарное содержание альдегидов и кетонов в составе НМ указывает на неблагоприятные условия среды обитания гидробионтов. Эта особенность может служить индикатором антропогенной нарушенности водных местообитаний.
Чем сильнее загрязнение/эвтрофирование в биотопе, тем меньше в НМ P. perfoliatus концентрация и число карбоновых кислот. Самое большое число карбоновых кислот, их доля в суммарной концентрации НОС, общее содержание в НМ, в также число и содержание ненасыщенных жирных кислот обнаруживается в местах, не подверженных выраженному антропогенному прессу. Выявленные особенности изменения компонентного состава НМ водных макрофитов, в частности, P. perfoliatus, открывают возможность использовать его в качестве интегрального индикатора антропогенного воздействия на литоральные биотопы водных объектов и ухудшения их экологического состояния, поскольку стандартные быстроменяющиеся гидрохимические показатели не всегда могут отражать общую картину, связанную с антропогенной нагрузкой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Дополнительный материал (Приложение, табл. S1) публикуется только в электронном формате на сайтах https://link.springer.com и https://www.elibrary.ru Для авторизованных пользователей таблица доступна по адресу https://doi.org
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Работа выполнена в рамках государственного задания Института озероведения РАН, обособленного подразделения СПб ФИЦ РАН по теме 0154-2019-0002. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
1 Сокращения: АЛ + К – альдегиды + кетоны; НМ – низкомолекулярный метаболом; НОС – низкомолекулярные органические соединения, ОВП – окислительно-восстановительный потенциал; Ф – фенолы; Сmh – индекс Мориситы–Хорна; CA – карбоновые кислоты; J – коэффициент сходства Жаккара; LMWOCs – low molecular weight organic compounds; Ncyan – численность цианобактерий; NM – low-molecular-weight metabolome; pH – водородный показатель; Qs – коэффициент сходства Съеренсена–Чекановски; RI – индекс удерживания, retention index.
2 ГОСТ 31412-2012. 2012. Водоросли, травы морские и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей. М., 2012. 12 с.
3 ГОСТ 24027.2-80. 1999. Сырье лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла. – М.: ИПК Издательство стандартов.
About the authors
J. V. Krylova
Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences
Email: evgeny_kurashov@mail.ru
Russian Federation, Borok, Nekouzsky raion, Yaroslavl oblast
Е. А. Kurashov
St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: evgeny_kurashov@mail.ru
Russian Federation, Saint Petersburg
E. V. Protopopova
St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
Email: evgeny_kurashov@mail.ru
Russian Federation, Saint Petersburg
V. V. Khodonovich
St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; Saint-Petersburg Branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution “All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography” (“GosNIORCH” by L.S. Berg)
Email: evgeny_kurashov@mail.ru
Russian Federation, Saint Petersburg; Saint-Petersburg
E. Ya. Yavid
St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
Email: evgeny_kurashov@mail.ru
Russian Federation, Saint Petersburg
G. I. Kuchareva
St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
Email: evgeny_kurashov@mail.ru
Russian Federation, Saint Petersburg
References
- Андронникова И.Н., Распопов И.М., Курашов Е.А. 2011. Зоны экологического риска в прибрежных районах Ладожского озера, выявленные на основе гидробиологических и гидрохимических показателей // Литоральна зона Ладожского озера. СПб.: Нестор-История. C. 366.
- Вейсберг Е.И., Исакова Н.А. 2022. Реакция макрофитов на периодичеcкие изменения уровня воды в оз. Большое Миассово (Южный Урал, Россия) // Биология внутр. вод. № 3. С. 318. https://doi.org/10.31857/S0320965222020176
- Гуревич Ф.А. 1978. Роль фитонцидов во внутренних водоемах // Водн. ресурсы. № 2. С. 133.
- Гусева К.А. 1959. К методике учета фитопланктона // Тр. Ин-та биологии водохранилищ. № 5. С. 44.
- Крылова Ю.В., Курашов Е.А., Пономаренко А.М. и др. 2022. Оценка экологического состояния литоральной зоны Ладожского озера по результатам исследований 2019 года // Тр. Карельск. науч. центра Российской академии наук. № 2. С. 1. https://doi.org/10.17076/lim1474
- Крылова Ю.В., Курашов Е.А., Русанов А.Г. 2020. Сравнительный анализ компонентного состава низкомолекулярного метаболома горца земноводного (Persicaria amphibia (L.) Delarbre)) из разнотипных местообитаний в Ладожском озере // Тр. Карельск. науч. центра РАН. № 4. С. 95. https://doi.org/10.17076/lim1141
- Курашов Е.А., Крылова Ю.В., Батаева Ю.В. и др. 2019. Альгицид для подавления развития цианобактерий и зеленых водорослей на основе метаболитов – аллелохемиков водных растений // Патент на изобретение RU 2709308 C1, 17.12.2019. – Заявка № 2019104959 от 21.02.2019 (https://patents.s3.yandex.net/RU2709308C1_20191217.pdf: Дата обращения 28.02.2023).
- Курашов Е.А., Крылова Ю.В., Егорова А.А. и др. 2018a. Перспективы использования низкомолекулярного метаболома водных макрофитов для индикации экологического состояния водных экосистем // Вода: химия и экология. № 1–3. С. 68.
- Курашов Е.А., Митрукова Г.Г., Крылова Ю.В. 2018b. Межгодовая изменчивость состава низкомолекулярных метаболитов Ceratophyllum demersum (Ceratophyllaceae) в пойменном озере с изменяющимся трофическим состоянием // Сиб. экол. журн. № 2. С. 207. https://doi.org/10.15372/SEJ20180206
- Литоральная зона Ладожского озера. 2011. СПб.: Нестор-История.
- Митрукова Г.Г., Капустина Л.Л., Курашов Е.А. 2020. Экологическая оценка качества вод литоральной зоны Ладожского озера по результатам микробиологических исследований // Тр. Карельск. науч. центра РАН. № 9. С. 88. https://doi.org/10.17076/lim1277
- Распопов И.М. 1985. Высшая водная растительность больших озер Северо-Запада СССР. Л.: Наука.
- Садчиков А.П. 2003. Методы изучения пресноводного фитопланктона: методическое руководство. М.: Университет и школа.
- Судницына Д.Н. 2005. Экология водорослей Псковской области. Уч. пособие. Псков: ПГПУ.
- Ткачев А.В. 2008. Исследование летучих веществ растений. Новосибирск: Издательско-полиграфическое предприятие “Офсет”.
- Allelopathy. Current trends and future applications. 2013. Berlin: Springer.
- Appenroth K.-J., Sree K.S., Böhm V. et al. 2017. Nutritional value of duckweeds (Lemnaceae) as human food // Food Chem. V. 217. P. 266. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.08.116
- Asif A., Baig M.A., Siddiqui M.B. 2021. Role of jasmonates and salicylates in plant allelopathy // jasmonates and salicylates signaling in plants. Signaling and communication in plants. Cham: Springer. P. 115. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75805-9_6
- Aslam F., Khaliq A., Matloob A. et al. 2017. Allelopathy in agro-ecosystems: a critical review of wheat allelopathy-concepts and implications // Chemoecol. V. 27. P. 1. https://doi.org/10.1007/s00049-016-0225-x
- Caputo L., Amato G., de Bartolomeis P. et al. 2022. Impact of drying methods on the yield and chemistry of Origanum vulgare L. essential oil // Sci. Reports. V. 12. P. 3845. https://doi.org/10.1038/s41598-022-07841-w
- Czekanowski J. 1922. Coefficient of racial likeness and durchschnittliche Differenz // Anthropol. Anz. V. 9. P. 227.
- Dvořáková Březinová T., Vymazal J. 2018. Phenolic compounds in wetland macrophytes // Scientia Agriculturae Bohemica. V. 49(1). P. 1. https://doi.org/ 10.2478/sab-2018-0001
- Fink P. 2007. Ecological functions of volatile organic compounds in aquatic systems // Mar. Freshwater Behav. Physiol. V. 40. P. 155.
- Gao Y.-N., Liu B.-Y., Xu D. et al. 2011. Phenolic compounds exuded from two submerged freshwater macrophytes and their allelopathic effects on microcystis aeruginosa // Pol. J. Environ. Stud. V. 20(5). P. 1153.
- Gopal B., Goel U. 1993. Competition and allelopathy in aquatic plant communities // The Bot. Review. V. 59. № 3. P. 155.
- Haroon A.M. 2020. Proximate and total fatty acid composition of some aquatic macrophytes in the Nile River Rayahs, Egypt // Pakistan J. Biol. Sci. V. 23. P. 295. https://doi.org/10.3923/pjbs.2020.295.305
- Hassan F.M., Salman J.M., Dou Abul A.A. et al. 2016. Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) concentrations in some aquatic macrophytes in Hilla River, Iraq // J. Environ. Protection. V. 7(2). P. 198. https://doi.org/10.4236/jep.2016.72018
- Hassanpouraghdam M.B., Hassani A., Vojodi L. et al. 2010. Drying method affects essential oil content and composition of Basil (Ocimum basilicum L.) // J. Essential Oil Bearing Plants. V. 13(6). P. 759.
- Hegazy A.K., Amer W.M., Khedr A.A. 2001. Allelopathic effect of Nymphaea lotus L. on growth and yield of cultivated rice around Lake Manzala (Nile Delta) // Hydrobiologia. V. 464. P. 133. https://doi.org/10.1023/A:1013943318230
- Hu H., Hong Y. 2008. Algal-bloom control by allelopathy of aquatic macrophytes – a review // Frontiers Environ. Sci. Engineering in China. V. 2(4). P. 421.
- Jaccard P. 1901. Distribution de la flore alpine dans le Bassin des Dranses et dans quelques regions voisines // Bull. Soc. Vaudoise Sci. Natur. V. 37. Bd 140. P. 241.
- Kumar G., Sharma J., Goswami R.K. et al. 2022. Freshwater Macrophytes: a potential source of minerals and fatty acids for fish, poultry, and livestock // Front. Nutr. Apr. V. 11. e9:869425. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.869425
- Kurashov E.A., Mitrukova G.G., Krylova Yu.V. 2018. Interannual variability of low-molecular metabolite composition in Ceratophyllum demersum (Ceratophyllaceae) from a floodplain lake with a changeable trophic status // Contemp. Problems Ecol. V. 11(2). P. 179. https://doi.org/10.1134/S1995425518020063
- Kurashov E., Krylova J., Protopopova E. 2021. The Use of allelochemicals of aquatic macrophytes to suppress the development of cyanobacterial “Blooms” // Plankton Communities. London: IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.95609
- Kurashov E.A., Krylova J.V., Mitrukova G.G., Chernova A.M. 2014. Low-molecular-weight metabolites of aquatic macrophytes growing on the territory of Russia and their role in hydroecosystems // Contemp. Problems Ecol. V. 7(4). P. 433. https://doi.org/10.1134/S1995425514040064
- Morisita M. 1959. Measuring of interspecific association and similarity between communities // Memoires of the Faculty of Science. Kyushu University. Ser. E (Biol.). № 3. P. 65.
- Mushtaq W., Siddiqui M.B., Hakeem K.R. 2020. Allelopathy. Potential for green agriculture. Springer Briefs in Agriculture. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40807-7
- Nakai S., Yamada S., Hosomi M. 2005. Anti-cyanobacterial fatty acids released from Myriophyllum spicatum // Hydrobiologia. V. 543. P. 71.
- Śliwińska-Wilczewska S., Wiśniewska K.A., Budzałek G., Konarzewska Z. 2021. Phenomenon of Allelopathy in Cyanobacteria // Ecophysiology and Biochemistry of Cyanobacteria. Singapore: Springer. P. 225. https://www.doi.org/10.1007/978-981-16-4873-1_11
- Sorensen T.A. 1948. A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content, and its application to analyses of the vegetation on Danish commons // Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Biologiske Skrifter. V. 5. P. 1.
- Sun X., Jin H., Zhang L. et al. 2016. Screening and isolation of the algicidal compounds from marine green alga Ulva intestinalis // Chin. J. Ocean. Limnol. V. 34. Р. 781. https://doi.org/10.1007/s00343-016-4383-z
- Zhu X., Dao G., Tao Y. et al. 2021. A review on control of harmful algal blooms by plant-derived allelochemicals // J. Hazardous Mat. V. 401. P. 123403. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123403
- Zuo S., Zhou S., Ye L. et al. 2016. Antialgal effects of five individual allelochemicals and their mixtures in low level pollution conditions // Environ. Sci. Pollut. Res. V. 23. Р. 15703. https://doi.org/10.1007/s11356-016-6770-6
Supplementary files