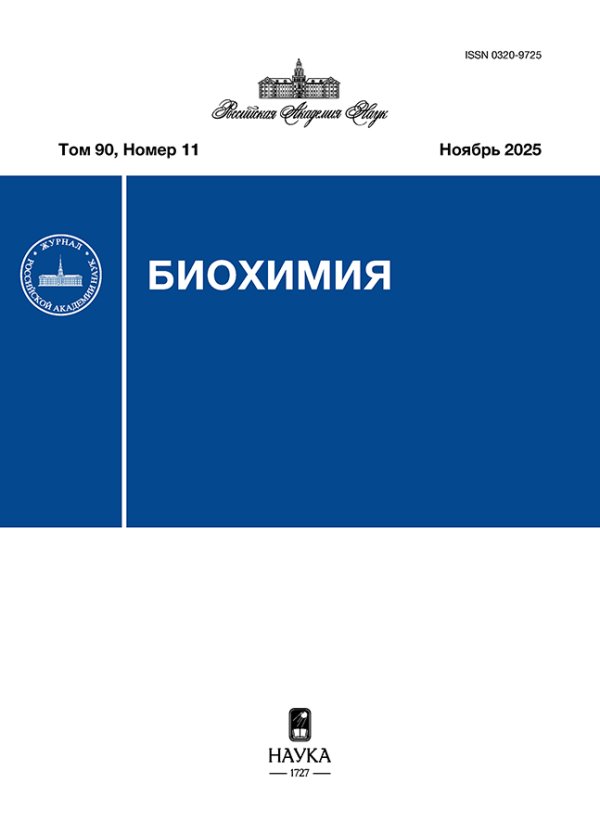Синтез и биологические свойства полифенол-содержащих катионных линейных и дендримерных пептидов
- Авторы: Шатилов А.А.1, Андреев С.М.1, Шатилова А.В.1, Турецкий Е.А.1,2, Курмашева Р.А.1,2, Бабихина М.О.1,3, Сапрыгина Л.В.1,3, Шершакова Н.Н.1, Болякина Д.К.1, Смирнов В.В.1,2, Шиловский И.П.1, Хаитов М.Р.1,4
-
Учреждения:
- ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
- Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
- РТУ МИРЭА
- РНИМУ им. Н.И. Пирогова
- Выпуск: Том 89, № 1 (2024)
- Страницы: 182-193
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-9725/article/view/260493
- DOI: https://doi.org/10.31857/10.31857/S0320972524010105
- EDN: https://elibrary.ru/YQNKCW
- ID: 260493
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Природные полифенолы представляют большой интерес с точки зрения их использования для фармакологического контроля окислительного стресса и многих заболеваний. Однако низкая биодоступность и быстрый метаболизм полифенолов в форме гликозидов или агликонов стимулирует поиски эффективных средств их доставки в системный оборот. Конъюгирование полифенолов с катионными амфифильными пептидами может создавать соединения с сильной антиоксидантной активностью и способностью проходить через биологические барьеры. Такие соединения могут быть востребованы как препараты для антиоксидантной терапии, в том числе для терапии вирусных, онкологических и нейродегенеративных заболеваний ввиду разнообразного спектра биологических активностей, присущих полифенолам и пептидам. В данной работе синтетическим путём были получены катионные линейные и дендримерные амфифильные катионные пептиды, и ряд пептидов был конъюгирован с галловой кислотой (ГК). ГК является нетоксичной природной фенольной кислотой и важным функциональным элементом многих флавоноидов с высокой антиоксидантной активностью. Показано, что полученные ГК-пептидные конъюгаты проявляли антиоксидантную (антирадикальную) активность, в 2–3 раза выше по сравнению с аскорбиновой кислотой. Другие тесты указывали, что присоединение ГК не влияет на токсичность и гемолитическую активность конъюгатов. ГК-модифицированные пептиды стимулировали трансмембранный перенос плазмиды pGL3, кодирующей репортерный ген люциферазы, однако присоединение ГК по N-концу пептида снижало его трансфекционную активность. Несколько из полученных соединений обладали антибактериальной активностью в модели ингибирования роста штамма E. coli Dh5α.
Ключевые слова
Полный текст
Принятые сокращения: АФК – активные формы кислорода; ГК – галловая кислота; ДФПГ – 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил; КП – катионные пептиды; ФСБ – фосфатно-солевой буфер.
Введение
Окислительный стресс, сопровождающий развитие многих патологий, включая вирусные, онкологические и нейродегенеративные заболевания, диабет, а также депрессии, является причиной острых и хронических воспалительных реакций, иногда с фатальными последствиями (COVID-19, гепатит С, сепсис) [1, 2]. Тяжесть заболевания часто обусловлена мощной каскадной иммунной реакцией организма. Так, цитокиновый шторм, связанный с окислительным стрессом, вызывает неконтролируемое воспаление, нарушения на клеточном и органном уровнях, включая появление мутаций [3, 4]. Механизм нарушений часто связан с окислительной атакой активными формами кислорода (АФК) и азота на ключевые компоненты клетки, липиды, белки, ДНК. Весьма опасным фактором является воздействие продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Повышение их уровня в клетке приводит к изменению внутри- и межклеточных взаимоотношений, изменению активности цитоплазматических ферментов, осмотического давления, нарушению структуры мембран и функции клеток, что в конечном итоге приводит к гибели клеток. При этом опасность представляют как первичные окислители, АФК, так и вторичные – биомолекулы, трансформированные под действием АФК в свободные радикалы, хотя они участвуют также и в нормальной регуляции клеточных процессов. При сильном окислительном стрессе содержание эндогенных антиоксидантов будет явно недостаточным для устранения окислительного повреждения. В то же время системного повышения концентрации антиоксиданта, например, за счёт употребления аскорбиновой кислоты, достичь очень трудно, поскольку избыточное её количество (> 200 мг) превращается в неактивные метаболиты, выводимые в форме уратов и оксалатов [5].
Очень привлекательными кандидатами фармакологического контроля окислительного стресса являются природные полифенолы: флавоноиды, кумарины и фенольные кислоты, обладающие мощной антиоксидантной активностью и низкой токсичностью [6, 7]. Полифенолы в реакциях c участием свободных радикалов обычно выступают в качестве донора либо электрона, либо водорода. Нейтрализация молекул АФК происходит за счёт отрыва электрона, при этом полифенол переходит в окисленную форму – фенольный радикал. Электронная плотность повышается в первую очередь вблизи гидроксильных групп, и чем больше гидроксилов и ненасыщенных связей в структуре флавоноида, тем выше его склонность к захвату электрона [8]. Блокада ПОЛ чаще всего связана с нейтрализацией радикалов HO• и O•2− и пероксидных радикалов [9]. Во многих работах также показано, что полифенолы обладают выраженными антиканцерогенными свойствами, являясь ингибиторами пролиферации опухолевых клеток различного происхождения, и ряд данных указывает на то, что имеется связь между ингибированием канцерогенеза и подавлением АФК [10, 11]. Считается, что есть и другие косвенные механизмы воздействия полифенолов на окислительно-восстановительные процессы в организме, например, путём ингибирования оксидаз и хелатирования ионов железа [12], воздействия на арилуглеводородный рецептор (AhR) и связанное с ним высвобождение фактора Nrf2 из комплекса с Keap1, последующей транскрипции антиоксидантных ферментов после его транслокации в ядро [13].
Однако фармакологическое применение полифенолов наталкивается на проблемы с биодоступностью. Например, исследования с употреблением высоких доз теафлавинов чая (700 мг) показали, что их концентрация в плазме достигала лишь уровня 0,5–1,0 мкг/мл, в то время как их концентрация в моче была 0,6–4,2 мкг/мл. Таким образом, в кровь попадало менее 0,001% принятой дозы [14]. В целом, биодоступность подавляющего числа флавоноидов (гликозилированные агликоны) является низкой из-за высокой их гидрофильности, затрудняющей транспорт в энтероциты [11]. Напротив, агликонная форма может быстрее абсорбироваться, но при этом она подвергается быстрой модификации под действием глюкуронозил-/сульфо-трансфераз и катехолметилтрансфераз. Таким образом, полифенолы интенсивно метаболизируются и выводятся из организма, микрофлора кишечника также принимает в этом участие [15].
Решению проблемы повышения биодоступности полифенолов может помочь применение специальных средств их доставки. В качестве таковых рассматривались липосомы, наночастицы, эмульсии, полимеры, циклодекстрины, инкапсулирование [16, 17]. По нашему мнению, перспективным направлением может стать применение комбинированных соединений в форме конъюгатов полифенолов с синтетическими катионными пептидами, обладающими высокой проникающей активностью. Относительно короткие амфипатические катионные пептиды (8–25 аминокислотных остатков) часто используются для доставки в клетки молекулы ДНК и РНК [18]. Значительную эффективность в этом отношении демонстрировали катионные дендримерные пептиды, в этом случае наличие в структуре неприродных ε-амидных связей заметно повышает их устойчивость к протеолизу, и они менее токсичны по сравнению с линейными пептидами. Такие пептиды были ранее использованы нами для доставки ДНК-плазмид, а также для РНК-интерференции и блокады вирусной инфекции [19–21]. Поиск информации по конъюгатам полифенолов показал, что имеется очень ограниченное число работ, связанных с пептидными производными. Описаны несколько соединений на основе коротких пептидов, предназначенных для омоложения кожи и ингибирования опухолевого роста [22–24]. Следует отметить, что направленное конъюгирование флавоноидов с пептидами в химическом плане – довольно сложная задача, оба компонента содержат много реактивных групп (амино, тиольные, карбоксильные, гидроксильные, фенольные), что затрудняет получение однозначного продукта. Использование селективных защитных групп и клик-реакций сильно усложняет синтез таких гибридов, имеются лишь единичные примеры (конъюгирование флавоноидов с халконами [25]). Очевидно, что наиболее удобными и привлекательными соединениями для конъюгирования с пептидами являются фенольные кислоты, отличающиеся высокой антиоксидантной активностью и терапевтическим потенциалом: галловая, феруловая, кофейная, кумаровая [26, 27]. Например, галловая кислота (ГК, Ga), помимо антиоксидантных и противомикробных свойств, проявляет противоопухолевую активность и применяется также как пищевая добавка [28–31].
Целью настоящего исследования являлся синтез линейных и дендримерных катионных пептидов (КП), их модификация ГК, анализ полученных соединений на антиоксидантную (антирадикальную) активность in vitro и их оценка в отношении цитотоксичности, гемолитической и клеточно-проникающей активности, анализируемой в тесте стимуляции трансфекции клеточной культуры.
Материалы и методы
Реагенты и растворители. Диметилформамид (ДМФА), ацетонитрил и метиленхлорид (МХ), 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (ДФПГ) получены от «Sigma-Aldrich» (США). ГК (98%, б/в) получена от «Диа-М» (Россия), N-метилпирролидон получен от «Panreac» (Испания). Fmoc-аминокислоты, Оксима (OximaPure), гидроксибензотриазол (HOBt), диизопропилкарбодиимид (DIC) и смола ChemMatrix были получены от «IRIS Biotech» (Германия) и «AAPPTEC» (США). Используемые антиоксиданты/скавенджеры – этандитиол, фенол и тиоанизол – получены от «Merck» (Германия). Деионизованную воду получали на аппарате MicroPure («Thermo Fisher Scientific», США).
Спектры. Электронные спектры поглощения регистрировали на двухлучевом спектрофотометре Cary 100 UV-Vis («Agilent Technologies», США) в диапазоне от 190 до 800 нм, используя кварцевую кювету с толщиной 1 см. Масс-спектры регистрировали на приборе Microflex™ LT MALDI-TOF («Bruker Daltonics», США), матрица – α-циано-4-гидроксицинаммовая кислота.
Синтез пептидов. Синтез пептидов проводили твердофазным методом, используя автоматический синтезатор пептидов PS3 Peptide Synthesizer («Gyros Protein Technologies Inc.», США) по протоколу Fmoc-химии, используя смесь N-гидроксибензотриазола с диизопропилкарбодиимидом как конденсирующий агент (HOBt/DIC). В синтезе использовали стартовые Fmoc-аминоацил-полимеры, смолу гелевого типа Rink Amide СhemMatrix («IRIS BioTech», Канада). Боковые карбоксильные и гидроксильные группы аминокислот несли защиту в форме трет-бутильной группы (t-Bu), ε-аминогруппа лизина – в форме Boc, SH-группа цистеина – Trt, гуанидиновая функция аргинина – Pbf, карбоксильные и гидроксильные группы аминокислот имели защиту в форме трет-бутиловых эфиров. Стандартный цикл включал: промывку (ДМФА), удаление Fmoc-защиты (20%-ный 4-метил-пиперидин в ДМФА), предварительное активирование Fmoc-аминокислоты (DIC/HOBt) и реакцию конденсации в среде ДМФА/N-метилпирролидон при двукратном избытке карбоксильного компонента (~0,5–1 ч). Контроль за полнотой реакции осуществляли методом Кайзера (нингидриновый тест), и при необходимости реакцию конденсации повторяли (0,5 ч). Конечные пептиды отщепляли от полимера трифторуксусной кислотой в присутствии скавенджеров. Сырой продукт осаждали сухим метил-трет-бутиловым эфиром, экстрагировали водной уксусной кислотой, и экстракт лиофилизировали, используя сублиматор VirTis AdVantage 2.0 EL («SP Scientific», США).
Очистка пептида и подтверждение его структуры. Пептиды очищали ВЭЖХ (препаративный хроматограф LC-20 Shimadzu) на колонке с обращённой фазой (С18), используя ацетонитрил – 0,1%-ная водная трифторуксусная кислота в качестве подвижной фазы (градиентная элюция, от 5% ацетонитрила до 70% 23 мин). Фракции вещества, выходящие с колонки, детектировали с помощью встроенного спектрофотометрического детектора при длине волны 220 и 280 нм. Жидкую фракцию с подходящей молекулярной массой содержащегося продукта (гомогенный пик), идентифицированную по данным масс-спектрометрии, подвергали упариванию под вакуумом и оставшийся водный раствор высушивали лиофильно. Полученный продукт (пептид) анализировали на гомогенность методом зонного капиллярного электрофореза на приборе Капель-105М («Люмекс», Россия) с фотометрической детекцией при 226 нм. Для анализа использовали кварцевый незаполненный капилляр, в качестве фонового электролита использовали раствор 0,1 М фосфорной кислоты и 0,05 М Tris в деионизованной воде. Молекулярную массу анализировали, используя масс-спектрометр Microflex™ LT MALDI-TOF («Bruker Daltonics»).
Анализ антирадикальной активности. Применение ДФПГ-теста для оценки антирадикальной активности ранее было описано в литературе [32]. В данной работе для оценки активности исследуемых образцов использовали раствор ДФПГ в метаноле различных концентраций (200, 150, 75, 50, 25, 10 и 5 мкг/мл) и чистый метанол в качестве отрицательного контроля. Растворы пептидов и аскорбиновой кислоты (положительный контроль) с концентрацией 2,8 мкмоль/мл готовили в деионизованной воде. Их переносили в дубликатах по 2,5 мкл в 96-луночный планшет, после чего в каждую лунку вносили растворы ДФПГ в объёме 200 мкл. Оптическую плотность окрашенного раствора измеряли на приборе Thermo Fisher Multiscan FC при 520 нм. Активностьобразцов рассчитывали относительно активности аскорбиновой кислоты в мольном отношении в %.
Оценка гемолитической активности. Цельную кровь донора отбирали в вакуумную пробирку с ЭДТА (Sarstedt S-Monovette EDTA K3E) в объёме 5 мл, центрифугировали при 500 g 5 мин, отделяли эритроциты от плазмы, смешивали их с 10 мл фосфатно-солевого буфера (ФСБ), pH 7,4, с последующим центрифугированием. Процедуру отмывки эритроцитов повторяли 4 раза, после чего супернатант декантировали, получая взвесь эритроцитов. Исследуемые образцы пептидов готовили в растворе ФСБ в концентрациях 2,8, 0,28 и 0,028 ммоль/л и вносили по 200 мкл в 96-луночный планшет, после чего добавляли отмытую суспензию эритроцитов в объёме 2 мкл (1%-ная суспензия). Анализируемые образцы тестировали в дублях. Планшеты с образцами инкубировали в термостате при 37 °С 30 мин и затем центрифугировали при 500 g в течение 5 мин. Измерение оптической плотности супернатанта проводили на спектрофотометре Multiskan GO при длинах волн 405/630 нм. Процент лизиса эритроцитов рассчитывали относительно положительного контроля, которым являлась деионизованная вода (1):
% лизиса = (Е−С)/(М−С) × 100, (1)
где Е – оптическая плотность тестируемого образца пептида, С – оптическая плотность отрицательного контроля (в ФСБ), М – оптическая плотность положительного контроля.
Трансфекционная активность. Оценку способности полученных соединений в форме комплексов с нуклеиновой кислотой (плазмид) осуществлять трансмембранный перенос проводили in vitro на клеточной линии HEK293T (получена из коллекции клеточных культур Института вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России) с использованием плазмиды pGL3, кодирующей репортерный ген люциферазы, с использованием описанной ранее методики [19]. С этой целью в 48-луночный планшет засевали 80 тыс. клеток на лунку в 300 мкл среды DMEM («ПанЭко», Россия). Клетки инкубировали 24 ч при 37 °С в атмосфере 5% CO2, после чего в лунки вносили трансфекционную смесь: 40 мкл бессывороточной среды Opti-MEM («Thermo Fisher Scientific»), 0,25 мкг pGL3 и 20 или 10 мкг исследуемого пептида или 0,3 мкл положительного контроля, которым являлся Lipofectamine™ 3000 («Thermo Fisher Scientific»). Перед внесением трансфекционную смесь инкубировали в течение 15 мин. В качестве отрицательного контроля использовали 0,25 мкг плазмиды без добавления трансфецирующего агента. Клетки инкубировали в течение 24 ч, после чего вносили 150 мкл лизирующего буфера Glo («Promega», CША). Далее к лизату клеток добавляли 50 мкл субстрата (люциферина). Интенсивность люминесценции определяли на люминометре GloMax 20/20 («Promega»).
Трансфецирование клеточной культуры HEK293T in vitro с использованием флуоресцентного биосенсора HyPer. Для оценки антиоксидантной активности in vitro использовали описанный ранее в литературе флуоресцентный биосенсор HyPer [33]. Клетки почки эмбриона человека (HEK293T) засевали в 48-луночный планшет в количестве 80 тыс. клеток на лунку в объёме 300 мкл среды DMEM. Через 24 ч клетки трансфецировали плазмидой pHyPer-cyto («Евроген», Россия). Состав трансфекционной смеси был следующим: 0,2 мкг плазмиды, 0,2 мкл реактива p3000, 0,3 мкл реактива Lipofectamine™ 3000 («Thermo Fisher Scientific»), объём доводили до 10 мкл средой Opti-MEM. Растворы пептидов вносили в концентрации 1 мг/мл и в объёме 10 мкл через 24 ч после трансфекции. В контрольные лунки вносили по 10 мкл ФСБ. Спустя 4 ч инкубации клеточную среду отбирали, клетки инкубировали 5 мин в 50 мкл раствора трипсина-ЭДТА и переносили клеточную суспензию в планшет для флуориметрии. Объём суспензии доводили до 100 мкл ФСБ. Далее в опытные лунки вносили по 10 мкл раствора пероксида водорода (50 мМ), в контрольные образцы – по 10 мкл ФСБ. Определение оптической плотности проводили на приборе Thermo Fisher Scientific Fluoroscan («Thermo Fisher Scientific») при длине волны поглощения 485 нм и длине волны испускания 538 нм.
Анализ цитотоксичности пептидов. Цитотоксичность исследуемых соединений определяли на четырёх линиях клеток (А549, HeLa, Wi-38, melIs, получены из коллекции клеточных культур Института вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России). 2 × 104 клеток в полной питательной среде DMEM засевали в 96-луночный планшет и инкубировали сутки при 37 °С в СО2-инкубаторе до достижения 75%-ной конфлюентности. Далее вносили исследуемые образцы в концентрациях 0,7; 2,1; 6,2; 18,5; 55,6; 167 и 500 мкг/мл и инкубировали 24 ч при 37 °С в СО2-инкубаторе. Затем в каждую лунку добавляли по 25 мкл МТТ в ФСБ с концентрацией 4 мг/мл и помещали в СО2-инкубатор. Через 4 ч добавляли 50 мкл SDS (20%-ный SDS в воде с 0,02 N H2SO4) и инкубировали сутки. Разницу оптической плотности (ОП) раствора при 570 и 650 нм определяли, используя планшетный ридер (BIO RAD iMark™ Microplate Absorbance Reader, программа «Земфира»). Количество живых клеток рассчитывали по отношению оптической плотности среды в лунке с пептидом (ОП пепт) к оптической плотности среды без пептида (ОП контроль) (2):
количество живых клеток, % =
= (ОП пепт/ОП контроль) × 100%. (2)
Каждое значение получали путём усреднения трёх параллельных измерений. Концентрацию полумаксимального ингибирования (IC50) определяли по графику зависимости полученных значений количества живых клеток от концентрации соединения.
Статистический анализ. На предварительном этапе статистического анализа нормальность распределения интенсивности флуоресценции зонда HyPer оценивали по критерию Шапиро–Уилка. Для оценки различий использовали t-критерий Стьюдента, критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы (р) принимали равным 0,05. Данные флуоресценции и люминесценции представлены в виде среднего арифметического и среднеквадратичного отклонения (М ± SEM).
Результаты и обсуждение
Проведённые нами ранее исследования по конструированию КП с хорошей проникающей активностью и низкой токсичностью показали, что дендримерные структуры имеют заметное преимущество [19]. При этом в их активность значительный вклад дают позитивно заряженные амино-концевые участки ветвей пептида, содержащие аминокислоты лизин и аргинин, взаимодействующие с отрицательно заряженными молекулами мембраны клеток. Как изменится их активность после N-концевой модификации ГК, было неизвестно. Линейные пептиды были использованы, чтобы оценить в целом, как будет меняться их антиоксидантная активность после этой модификации. Выбор ГК в качестве антиоксиданта был обусловлен её высокой радикал-нейтрализующей активностью [32] и довольно простой химической процедурой её присоединения к амино-соединениям. Синтез ГК-содержащих пептидов проводили твердофазным методом с использованием Fmoc-протокола, где в качестве конденсирующего агента применяли DIC в присутствии Оксима (катализатор). ГК использовали без защиты её фенольных гидроксилов, её присоединяли после завершения синтеза пептидной цепи и удаления N-концевой Fmoc-группы. Поскольку эти фенольные группы довольно реакционноспособны, они могут реагировать с собственной карбоксильной группой в присутствии карбодиимида/DIC. Попытки использовать 3-кратный мольный избыток ГК (стандартный протокол пептидного синтеза) по отношению к пептиду приводили к неудовлетворительному выходу целевого ГК-пептида, его очистка путём ВЭЖХ была затруднена. Дальнейшие эксперименты показали, что приемлемым вариантом являлось применение 8–16-кратных мольных избытков ГК по отношению к пептиду в присутствии эквивалентных количеств DIC и Оксима. Избыточное количество ГК и побочных продуктов отделяли фильтрацией при промывке смолы растворителями на стадии отщепления пептида от смолы. Последнюю операцию проводили в среде трифторуксусной кислоты в присутствии скавенджеров: фенола, воды, этандитиола или диметилсульфида. Очистку пептидов проводили путём ВЭЖХ на колонке с обращённой фазой С18. В результате было синтезировано 11 КП, включая линейные и дендримерные структуры, из них 7 пептидов содержали ГК (таблица). Структуру полученных соединений на основе идентичности масс подтверждали масс-спектрами (рис. 1).
Рис. 1. Масс-спектры (MALDI-TOF) синтезированных пептидов: а – AB-9, б – AB-10, в – AB-11, г – AB-12, д – AB-13, е – AB-14, ж – AB-15, з – ST-10, и – AB-32, к – AB-33, л – AST-1
Наличие фенольного компонента в пептидах было также подтверждено УФ-спектрами по наличию полосы с максимумом при 270 нм, одинаковой для всех ГК-модифицированных пептидов (рис. 2).
Рис. 2. Спектры поглощения в УФ- и видимой области: слева – AB-33, справа – AB-32.
Далее была проведена оценка биологических свойств полученных соединений, важных в физиологическом плане: гемолитическая, цитотоксическая, антиоксидантная и трансфекционная активности.
Для анализа степени гемолиза были использованы эритроциты человека. В качестве положительного контроля использовали дистиллированную воду, что обеспечивало близкий к 100% лизис клеток. Оказалось, что среди пептидов заметной гемолитической активностью обладали только немодифицированный дендримерный пептид АВ-14 и ГК-содержащий пептид АВ-15. Степень лизиса в их присутствии составляла около 16 и 18% при максимальной концентрации (1 мг/мл), для остальных же пептидов данный показатель был близок к 0% (рис. 3). Можно предположить, что возможная причина литической активности АВ-14 и АВ-15, по-видимому, обусловлена тем, что их длинные ветви с последовательностями WKKIRVRLS и Ga-KKIRARLK соответственно содержат гидрофобные и гидрофильные позитивно заряженные аминокислоты, формирующие амфифильные структуры, способные вызывать нарушение липидной мембраны клетки [18]. На N-конце оба пептида содержат гидрофобные остатки, триптофан и ГК. Кроме того, оказалось, что оба пептида обладают высокой антибактериальной активностью против штамма Escherichia coli Dh5α [34].
Рис. 3. Гемолитическая активность пептидов, % от гемолиза эритроцитов в дистиллированной воде: 1 – AB-10, 2 – AB-11, 3 – AB-12, 4 – AB-13, 5 – AB-14, 6 – AB-15, 7 – ST-10, 8 – AST-1
Токсичность полученных соединений оценивали in vitro, используя МТТ-анализ. Анализ проводили на линии клеток HeLa (эпителиоидная карцинома шейки матки человека), A549 (аденокарцинома лёгкого человека), melIs (меланома человека), Wi-38 (диплоидная линия фибробластов человека). В качестве контрольного препарата с цитостатическим действием был выбран Эпирубицин. Результаты тестирования (таблица) показали, что токсический эффект пептидов менялся в зависимости от типа клеток, присоединение ГК не приводило к повышению токсичности соединения. Однако два пептида, AB-14 и AB-15, показали токсичность для опухолевых линий А549 и melIs, которая приближалась к значениям Эпирубицина (выделено жирным шрифтом), однако в отношении нормальных клеток (культура Wi-38) указанные пептиды не проявляли такой значительной токсичности, как Эпирубицин. В целом, следует отметить, что все короткие ГК-содержащие пептиды отличались низкой токсичностью.
Таблица 1. Структура, антирадикальная и цитотоксическая активности синтетических линейных и дендримерных пептидов
Код | Последовательность аминокислот* | Молекулярная масса, г/моль (заряд +) | Антирадикальная активность, мольный % | IC50, мкмоль/л | |||
А549 | HeLa | Wi-38 | melIs | ||||
AB-9 | Ga-YYKK | 752 (2) | 217 | 666 | 2214 | 665 | 955 |
AB-10 | Ga-YYLK | 737 (1) | 187 | 1136 | 1145 | 678 | 981 |
AB-11 | (Ga-KKIRRLK)2KYAC | 2633 (10) | 332 | 100 | 100 | 151 | 167 |
AB-12 | Ga-KKIRARLKYAC | 1501 (5) | 302 | 206 | 231 | 268 | 293 |
AB-13 | R8K4K2KACAC | 2512 (16) | 62 | 69 | 129 | 115 | 98 |
AB-14 | (WKKIRVRLS)2KAC | 2652 (10) | 25 | 18 | 64 | 93 | 19 |
AB-15 | (Ga-KKIRARLK)2KYAC | 2773 (10) | 330 | 20 | 68 | 123 | 59 |
AST-1 | Ga-KK | 444 (2) | 356 | 935 | 1002 | 1126 | 1173 |
ST-10 | (KKLRLKTAFK)2KAC | 2749 (12) | 20 | 91 | 17 | 33 | 35 |
AB-32 | AKKYRRFRYKYKGKYFYAC | 2539 (9) | 41 | 141 | 115 | 132 | 122 |
AB-33 | Ga-AKKYRRFRYKYKGKYFYAC | 2692 (8) | 161 | 190 | 262 | 192 | 160 |
Галловая кислота | 170 | 197 | 2941 | 982 | 1482 | 653 | |
Аскорбиновая кислота | 176 | 100 | |||||
Эпирубицин | 92 | 298 | 344 | 13 | |||
* Примечание. У всех пептидов C-концевая аминокислота находится в форме амида, свободные аминогруппы протонированы, находятся в форме соли с трифторуксусной кислотой, чьё мольное содержание равно числу позитивного заряда пептида при нейтральном рН. Антирадикальная активность рассчитана как % от активности аскорбиновой кислоты в молярном эквиваленте, среднее из трёх измерений.
На следующем этапе работы мы изучали антиоксидантную активность полученных соединений путём постановки 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил-теста (ДФПГ-тест). Полученные результаты подтвердили, что присоединение ГК к КП резко увеличивает их антиоксидантную активность, в 2–3 раза превышающую таковую аскорбиновой кислоты (таблица). Этот эффект наиболее хорошо виден при сравнении значений антирадикальной активности для пептидов AB-32 и AB-33, структура которых отличается только наличием или отсутствием остатка ГК. Антирадикальная активность относительно аскорбиновой кислоты для них составила 41 и 161% соответственно. Второй способ оценки антиоксидантной активности пептидов уже на клеточном уровне основан на использовании генетически кодируемого биосенсора HyPer. Известна высокая скавенджирующая активность ГК против пероксида водорода [35]. В отличие от обычно используемых производных дихлорфлуоресцеина (DCF), HyPer обладает высокой специфичностью к пероксиду, не продуцирует АФК под действием света и нечувствителен к супероксиду, окисленному глутатиону, оксиду азота и пероксинитриту [36]. Полученные результаты отображены на рис. 4, где показаны уровни флуоресценции внутриклеточного сенсора HyPer в присутствии пептидов, измеренные перед добавлением и после добавления пероксида водорода. Видно, что пептиды влияют на уровень флуоресценции сенсора до добавления пероксида, снижая его по сравнению с контролем (ФСБ). Все исследованные пептиды, за исключением AB-13 и AST-1, обладали способностью статистически значимо снижать концентрацию пероксида водорода в клетках (p < 0,05). Наиболее значимое снижение наблюдалось для пептидов AB-11 и AB-14. Это можно объяснить тем, что АВ-11 имел в составе ГК, а АВ-14 содержал триптофан, который способен взаимодействовать с пероксидом. При этом AB-11 также показывал высокую активность в ДФПГ-тесте. Активность же AB-14 может быть связана с более высокой способностью проникать через мембрану клетки. К сожалению, при статистической обработке полученных данных величина SE (стандартной ошибки) не позволила оценить антиоксидантную активность других пептидов.
Рис. 4. Уровень флуоресценции (538 нм) внутриклеточного сенсора HyPer в присутствии пептидов, измеренный перед добавлением и после добавления пероксида водорода. 1 – Положительный контроль, 2 – AB-10, 3 – AB-11, 4 – AB-12, 5 – AB-13, 6 – AB-14, 7 – AB-15, 8 – AST-1, 9 – ST-10. Звёздочками помечены пептиды, интенсивность флуоресценции которых после внесения пероксида водорода статистически значимо (p < 0,05) отличалась от положительного контроля
Эксперименты по трансфекции имели целью прояснить вопрос проникновения этих пептидов в цитоплазму в составе комплекса с плазмидой, содержащей репортерный ген люциферазы. Уровень проникновения комплекса в клетки примерно пропорционален уровню свечения лизата клетки, при этом липофектамин 3000 служит сильным позитивным контролем. Результаты приведены на рис. 5, где показана относительная активность пептидов (log-шкала) как носителей для доставки плазмиды в клетки HEK293. Их возрастающую активность можно расположить в ряд: AB-13 ~ ST-10 ~ ~ AB-32 > AB-15 > AB-14 > AB-11 ~ AB-12 ~ AB-33 > > AB-10 ~ AST-1. Из этого ряда лишь пептид АВ-15 содержит ГК, более активные пептиды имеют свободную N-концевую аминогруппу. Интересно, что присоединение ГК к пептиду АВ-32 снижало трансфекционную активность продукта (пептид АВ-33) почти на три порядка.
Рис. 5. Сравнительная активность пептидов в стимуляции трансфекции плазмиды pGL3, кодирующей репортерный ген люциферазы, выраженная как средние значения ± SE. 1 – Lipofectamine 3000, 2 – AB-10, 3 – AB-11, 4 – AB-12, 5 – AB-13, 6 – AB-14, 7 – AB-15, 8 – AB-32, 9 – AB-33, 10 – AST-1, 11 – ST-10, 12 – ФСБ (отрицательный контроль)
Очевидно, что присоединение ГК к N-концу КП нежелательно, если иметь в виду его потенциальное использование для внутриклеточного транспорта; блокирование N-конца ведёт к существенной потере заряда, повышению гидрофобности за счёт появления фенольного остатка. В условиях физиологического рН фенольные гидроксилы несут слабый отрицательный заряд, в результате чего может иметь место эффект электростатического отталкивания между молекулами пептида и отрицательно заряженными фосфатами клеточной мембраны.
Заключение
Полученные результаты демонстрируют, что КП после присоединения ГК приобретают новые свойства, проявляют антиоксидантную активность, даже превосходя активность самой ГК (в мольном отношении). Конъюгирование не приводит к повышению их токсичности для нормальных клеток и не повышает их гемолитическую активность, однако наблюдается некоторая тенденция к повышению избирательной токсичности для опухолевых клеток. Будущие исследования предполагают изучение ГК-содержащих пептидов в отношении антивирусной, антибактериальной и противоопухолевой активности. Поэтому одним из перспективных применений таких соединений может стать их использование в качестве антиоксидантных агентов в терапии сепсиса, тяжёлого патологического состояния, обусловленного микробной инфекцией и бурным развитием воспаления, где окислительный стресс составляет основу практически всех цитотоксических реакций [37, 38]. В качестве примера можно привести публикацию, где продукт конденсации лейцина с ГК показывал хорошую активность в модели нейтрализации ЛПС-индуцированного эндотоксического шока [39]. Использование синтетических пептидов с подобной модификацией позволяет значительно более гибко подходить к дизайну подобных соединений. Поскольку информации относительно свойств ГК-конъюгатов ещё очень мало, необходимы дальнейшие работы по расширению спектра пептидных производных ГК (причём с использованием и других фенольных кислот) и изучению механизмов их действия. Кроме того, учитывая полученные результаты, дизайн таких конъюгатов должен включать возможность селективного выбора места присоединения к пептиду фенольного компонента. Возможный вариант – тиол-малеимидная конденсация, где фенольный компонент, содержащий малеимидную группу, присоединяется к пептиду, имеющему остаток цистеина в нужной позиции.
Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального медико-биологического агентства России (программа «Дендример 21»).
Соблюдение этических норм. Настоящая статья не содержит описания каких-либо исследований с участием людей или животных в качестве объектов.
Об авторах
А. А. Шатилов
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва
С. М. Андреев
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва
А. В. Шатилова
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва
Е. А. Турецкий
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России; Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва; 119991 Москва
Р. А. Курмашева
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России; Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва; 119991 Москва
М. О. Бабихина
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России; РТУ МИРЭА
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва; 119454 Москва
Л. В. Сапрыгина
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России; РТУ МИРЭА
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва; 119454 Москва
Н. Н. Шершакова
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва
Д. К. Болякина
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва
В. В. Смирнов
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России; Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва; 119991 Москва
И. П. Шиловский
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва
М. Р. Хаитов
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России; РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Автор, ответственный за переписку.
Email: sm.andreev@nrcii.ru
Россия, 115522 Москва; 117997 Москва
Список литературы
- Alam, M. S., and Czajkowsky, D. M. (2021) SARS-CoV-2 infection and oxidative stress: Pathophysiological insight into thrombosis and therapeutic opportunities, Cytokine Growth Factor Rev., 63, 44-57, doi: 10.1016/j.cytogfr.2021.11.001.
- Lozano-Sepulveda, S., Bryan-Marrugo, O. L., Cordovo-Fletes, C., Gutierrez-Ruiz, M. C., and Rivas-Estilla, A. M. (2015) Oxidative stress modulation in hepatitis C virus infected cells, World J. Hepatol., 7, 2880-2889, doi: 10.4254/ wjh.v7.i29.2880.
- Soomro, S. (2019) Oxidative stress and inflammation, Open J. Immun., 9, 1-20, doi: 10.4236/oji.2019.91001.
- Pizzino, G., Irrera, N., Cucinotta, M., Pallio, G., Mannino, F., Arcoraci, V., Squadrito, F., Altavilla, D., and Bitto, A. (2017) Oxidative stress: harms and benefits for human health, Oxid. Med. Cell Longev., 2017, 8416763, doi: 10.1155/2017/8416763.
- Nauser, T., and Gebicki, J. M. (2017) Reaction rates of glutathione and ascorbate with alkyl radicals are too slow for protection against protein peroxidation in vivo, Arch. Biochem. Biophys., 633, 118-123, doi: 10.1016/j.abb.2017.09.011.
- Тараховский Ю. С., Ким Ю. А., Абдрасилов Б. С., Музафаров Е. Н. (2013) Флавоноиды: биохимия, биофизика, медицина, Пущино, Synchrobook.
- Andreev, S. M., Shershakova, N. N., Kozhikhova, K. V., Shatilov, A. A., Timofeeva, A. V., Turetskiy, E. A., Kudlai, D. A., and Khaitov, M. R. (2020) Promising compounds from natural sources for the COVID-19 therapy, Russ. J. Allergy, 17, 18-25, doi: 10.36691/RJA132.
- Вейко А. Г. (2020) Молекулярная структура, квантово-химические параметры, механизм цитопротективного действия и вклад функциональных групп в антиоксидантный потенциал флавоноидов, Вестник ВГМУ, 19, 27-39; doi: 10.22263/2312-4156.2020.5.27.
- Treml, J., and Šmejkal, K. (2016) Flavonoids as potent scavengers of hydroxyl radicals, Compr. Rev. Food Sci. Food Safety, 15, 720-738, doi: 10.1111/1541-4337.12204.
- Briguglio, G., Costa, C., Pollicino, M., Giambo, F., Catania, S., and Fenga, C. (2020) Polyphenols in cancer prevention: new insights (Review), Int. J. Func. Nutr., 1, 9, doi: 10.3892/ijfn.2020.9.
- Зверев Я. Ф. (2019) Противоопухолевая активность флавоноидов, Бюлл. Сибирской медицины, 18, 181-194, doi: 10.20538/1682-0363-2019-2-181–194.
- Perron, N. R., and Brumaghim, J. L. (2009) A Review of the antioxidant mechanisms of polyphenol, Cell. Biochem. Biophys., 53, 75-100, doi: 10.1007/s12013-009-9043-x.
- Das, J., Ramani, R., and Suraju, M. O. (2016) Polyphenol compounds and PKC signaling, Biochim. Biophys. Acta, 1860, 2107-2121, doi: 10.1016/j.bbagen.2016.06.022.
- Mulder, T. P. J., van Platerink, C. J., Schuyl, P. J. W., and van Amlsvoort, J. M. M. (2001) Analysis of theaflavins in biological fluids using liquid chromatography–electrospray mass spectrometry, J. Chrom. B, Biomed. Sci. Appl., 760, 271-279, doi: 10.1016/S0378-4347(01)00285-7.
- Mullen, W., Archeveque, M. A., Edwards, C. A., Matsumoto, H., and Crozier, A. (2008) Bioavailability and metabolism of orange juice flavanones in humans: impact of a full-fat yogurt, J. Agric. Food Chem., 56, 11157-11164, doi: 10.1021/jf801974v.
- Paolino, D., Cosco, D., Cilurzo, F., and Fresta, M. (2007) Innovative Drug Delivery systems for the administration of natural compounds, Curr. Bioact. Comp., 3, 262-277, doi: 10.2174/157340707783220301.
- Aatif, M. (2023) Current understanding of polyphenols to enhance bioavailability for better therapies, Biomedicines, 11, 2078, doi: 10.3390/biomedicines11072078.
- Xie, J., Bi, Y., Zhang, H., Dong, S., Teng, L., Lee, R. J., and Yang, Z. (2020) Cell-penetrating peptides in diagnosis and treatment of human diseases: from preclinical research to clinical application, Front. Pharmacol., 11, 697, doi: 10.3389/fphar.2020.00697.
- Kozhikhova, K. V., Andreev, S. M., Shilovskiy, I. P., Timofeeva, A. V., Gaisina, A. R., Shatilov, A. A., Turetskiy, E. A., Andreev, I. M., Smirnov, V. V., Dvornikov, A. S., and Khaitov, M. R. (2018) A novel peptide dendrimer LTP efficiently facilitates transfection of mammalian cells, Org. Biomol. Chem., 2018, 8181-8190, doi: 10.1039/c8ob02039f.
- Khaitov, M., Nikonova, A., Shilovskiy, I., Kozhikhova, K., Kofiadi, I., Vishnyakova, L., Nikolskii, A., Gattinger, P., Kovchina, V., Barvinskaia, E., Yumashev, K., Smirnov, V., Maerle, A., Kozlov, I., Shatilov, A., Timofeeva, A., Andreev, S., Koloskova, O., Kuznetsova, N., Vasina, D., Nikiforova, M., Rybalkin, S., Sergeev, I., Trofimov, D., Martynov, A., Berzin, I., Gushchin, V., Kovalchuk, A., Borisevich, S., Valenta, R., Khaitov, R., and Skvortsova, V. (2021) Silencing of SARS-CoV-2 with modified siRNA-peptide dendrimer formulation, Allergy, 76, 2840-2854, doi: 10.1111/all.14850.
- Шиловский И. П., Андреев С. М., Кожихова К. В., Никольский А. А., Хаитов М. Р. (2019) Перспективы использования пептидов против респираторно-синцитиального вируса, Мол. Биология, 53, 541-560, doi: 10.1134/S002689841904013X.
- Piccoli, J. P., and Cilli, E. M. (2014) Synthesis and activity of conjugates Gallic acid-GnRH-III, BMC Proceed., 8, 41, doi: 10.1186/1753-6561-8-S4-P41.
- Lee, H., Kim, K., Oh, C., Park, C.-H., Aliya, S., Kim, H.-S., Bajpai, V. K., and Huh, Y. S. (2021) Antioxidant and anti-aging potential of a peptide formulation (Gal2–Pep) conjugated with gallic acid, RSC Adv., 11, 29407-29415, doi: 10.1039/d1ra03421a.
- Sanches, P. R. S., Carneiro, B. M., Batista, M. N., Braga, A. C. S., Lorenzón, E. N., Rahal, P., and Cilli, E. M. (2015) A conjugate of the lytic peptide Hecate and gallic acid: structure, activity against cervical cancer, and toxicity, Amino Acids, 47, 1433-1443, doi: 10.1007/s00726-015-1980-7.14-16.
- Pereira, D., Pinto, M., Correa-da-Silva, V., and Cidade, H. (2022) Recent advances in bioactive flavonoid hybrids linked by 1,2,3-triazole ring obtained by click chemistry, Molecules, 27, 230, doi: 10.3390/molecules27010230.
- Ghamry, H. I., Belal, A., El-Ashrey, M. K., Tawfik, H. O., Alsantali, R. I., Obaidullah, A. J., El-Mansi, A. A., and Abdelrahman, D. (2023) Evaluating the ability of some natural phenolic acids to target the main protease and AAK1 in SARS CoV-2, Sci. Rep., 13, 7357, doi: 10.1038/s41598-023-34189-6.
- Sehrawat, R., Rathee, R., Akkol, E. K., Khatkar, S., Lather, A., Redhu, N., and Khatkar, A. (2022) Phenolic acids – versatile natural moiety with numerous biological applications, Curr. Topics Med. Chem., 22, 1472-1484, doi: 10.2174/1568026622666220623114450.
- Choi, H. J., Song, J. H., Bhatt, L. R., and Baek, S. H. (2010) Anti-human rhinovirus activity of gallic acid possessing antioxidant capacity, Phytother. Res., 24, 1292-1296, doi: 10.1002/ptr.3101.
- Kratz, J. M., Andrighetti-Fröhner, C. R., Kolling, D. J., Leal, P. C., Cirne-Santos, C. C., Yunes, R. A., Nunes, R. J., Trybala, E., Bergström, T., Frugulhetti, I. C., Barardi, C. R., and Simões, C. M. (2008) Anti-HSV-1 and anti-HIV-1 activity of gallic acid and pentylgallate, Mem. Inst. Oswaldo Cruz, 103, 437-442, doi: 10.1590/s0074-02762008000500005.
- Yang, K., Zhang, L., Liao, P., Xiao, Z., Zhang, F., Sindaye, D., Xin, Z., Tan, C., Deng, J., Yin, Y., and Deng, B. (2020) Impact of gallic acid on gut health: focus on the gut microbiome, immune response, and mechanisms of action, Front. Immunol., 11, 580208, doi: 10.3389/fimmu.2020.580208.11-13.
- Al Zahrani, N. A., El-Shishtawy, R. M., and Asiri, A. M. (2020) Recent developments of gallic acid derivatives and their hybrids in medicinal chemistry: a review, Eur. J. Med. Chem., 204, 112609, doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112609.
- Sanchez-Moreno, C., Larrauri, J. A., and Saura-Calixto, F. (1998) A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenols, J. Sci. Food Agric., 76, 270-276, doi: 10.1002/(sici)1097-0010(199802)76:2<270::aid-jsfa945>3.0.co;2-9.17.
- Belousov, V. V., Fradkov, A. F., Lukyanov, K. A., Staroverov, D. B., Shakhbazov, K. S., Terskikh, A. V., and Lukyanov, S. (2006) Genetically encoded fluorescent indicator for intracellular hydrogen peroxide, Nat. Methods, 3, 281-286, doi: 10.1038/nmeth866.
- Галкина А. А., Болякина Д. К., Шатилова А. В., Шатилов А. А., Бабихина М. О., Голомидова А. К., Андреев С. М., Шершакова Н. Н., Хаитов М. Р. (2023) Разработка и оценка эффективности ранозаживляющих соединений на основе катионных пептидов и фуллерена, Медицина экстремальных ситуаций, 3, 56-64, doi: 10.47183/mes.2023.036.
- Özyürek, M., Bektasoglu, B., Güçlü, K., Güngör, N., and Apak, R. (2010) A novel hydrogen peroxide scavenging assay of phenolics and flavonoids using cupric reducing antioxidant capacity (CUPRAC) methodology, J. Food Comp. Analysis, 23, 689-698, doi: 10.1016/j.jfca.2010.02.013.
- Mishina, N. M., Markvicheva, K. N., Fradkov, A. F., Zagaynova, E. V., Schultz, C., Lukyanov, S., and Belousov, V. V. (2013) Imaging H2O2 microdomains in receptor tyrosine kinases signaling, Methods Enzymol., 526, 175-187, doi: 10.1016/B978-0-12-405883-5.00011-9.
- Никитин Е. А., Клейменов К. В., Батиенко Д. Д., Акуленко Д. А., Селиверстов П. В., Добрица В. П., Радченко В. Г. (2019) Новые подходы к воздействию на патогенетические звенья сепсиса, Медицинский совет, 21, 240-246, doi: 10.21518/2079-701X-2019-21-240-246.
- Aisa-Alvarez, A., Soto, M. E., Guarner-Lans, V., Camarena-Alejo, G., Franco-Granillo, J., Martínez-Rodríguez, E. A., Gamboa, Á. R., Manzano, P. L., and Pérez-Torres, I. (2020) Usefulness of antioxidants as adjuvant therapy for septic shock: a randomized clinical trial, Medicina, 56, 619, doi: 10.3390/medicina56110619.20.
- Cheng, Y., Li, X., Tse, H.-F., and Rong, J. (2018) Gallic acid-L-leucine conjugate protects mice against LPS-induced inflammation and sepsis via correcting proinflammatory lipid mediator profiles and oxidative stress, Oxid. Med. Cell. Longev., 2018, 1081287, doi: 10.1155/2018/1081287.
Дополнительные файлы