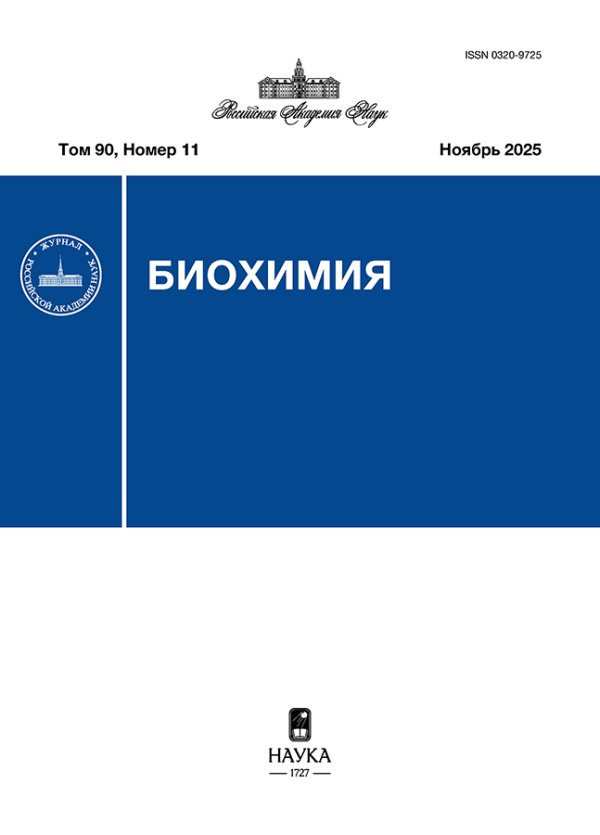Molecular changes in immunological characteristics of bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells in lymphoid neoplasia
- Authors: Petinati N.А.1, Sadovskaya A.V.1,2, Sats N.V.1, Kapranov N.M.1, Davydova Y.O.1, Fastova Е.A.1, Magomedova А.U.1, Vasilyeva A.N.1, Aleshina O.A.1, Arapidi G.P.3,4,5, Shender V.O.3,4, Smirnov I.P.3, Pobeguts O.V.3, Lagarkova M.A.3, Drize N.I.1, Parovichnikova E.N.1
-
Affiliations:
- National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
- Lomonosov Moscow State University
- Federal State Budgetary Institution Lopukhin Federal Research and Clinical Center of Physical-Chemical Medicine of Federal Medical Biological Agency
- Institute of Bioorganic Chemistry named after Academicians M. M. Shemyakin and Yu. A. Ovchinnikov, Russian Academy of Sciences
- Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
- Issue: Vol 89, No 5 (2024)
- Pages: 866-886
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-9725/article/view/270180
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320972524050097
- EDN: https://elibrary.ru/YOBGXM
- ID: 270180
Cite item
Full Text
Abstract
The immune system and bone marrow stromal cells play an important role in maintaining normal hematopoiesis. Lymphoid neoplasia disturbs not only the development of immune cells, but other immune response mechanisms as well. Multipotent mesenchymal stromal cells (MSCs) of the bone marrow are involved in regulation of immune response through both intercellular interactions and secretion of various cytokines. In hematological malignancies, the stromal microenvironment of the bone marrow, including MSCs, is altered. The aim of the study was to analyze the effects of lymphoid neoplasia from early precursor cells that are in direct contact with the bone marrow stroma (acute lymphoblastic leukemia /ALL/) and later extramedullary cells (diffuse large B-cell lymphoma /DLBCL/) on the immunological function of MSCs. Growth parameters, immunophenotype, expression pattern of genes of interest, and secretion pattern of bone marrow MSCs from patients with ALL and DLBCL at the onset of the disease and in remission were studied. MSCs from healthy donors of the corresponding ages were used as controls. It has been shown that the concentration of MSCs in the bone marrow of patients with ALL is reduced at the onset of the disease and is restored upon reaching remission; in patients with DLBCL this parameter does not change. The proliferative capacity of MSCs did not change in patients with ALL; however, the cells of the patients both at the onset and in remission of DLBCL proliferated significantly faster than donors’. In patients’ MSCs, immunophenotype and expression of the genes important for differentiation, immunological status maintenance, and cytokine expression differed significantly from those of healthy donors and depended on the nosology of the disease. The secretomes of MSCs varied greatly; a number of proteins associated with the regulation of immune response, differentiation and maintenance of hematopoietic stem cells were depleted in the secretomes of patients’ cells. Lymphoid neoplasia leads to dramatic changes in functional immunological status of MSCs.
Keywords
Full Text
Принятые сокращения: ДВККЛ – диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома; ОЛЛ – острый лимфобластный лейкоз; МСК – мультипотентные мезенхимные стромальные клетки; ОУЭ – относительный уровень экспрессии; СКК – стволовые кроветворные клетки; СУФ – средний уровень флуоресценции; APO – аполипопротеины; FDR – алгоритм оценки локальной частоты ложных обнаружений; TGF-β – трансформирующий фактор роста-β.
Введение
Костный мозг отвечает за поддержание состава клеток крови, в том числе иммунных, в течение всей жизни. Помимо своей ключевой кроветворной функции, костный мозг действует как важный лимфоидный орган, в котором находится множество зрелых популяций лимфоцитов, включая В-клетки, Т-клетки, естественные Т-киллеры и клетки врожденного иммунитета [1]. В костном мозге лимфоидные клетки взаимодействуют со стромальным микроокружением и участвуют в регуляции кроветворения и иммунного ответа. Стволовые кроветворные клетки (СКК) находятся в специализированных нишах, которые регулируют их поддержание для пожизненного производства клеток крови. Также ниши обеспечивают хоминг и выживание СКК, регулируют их состояние покоя, самообновление, дифференцировку и пролиферацию. В формировании и функционировании таких ниш участвуют клетки многих типов [2]. Один из основных компонентов ниши – мезенхимные стволовые клетки, дифференцирующиеся в другие многочисленные стромальные клетки, составляющие нишу, удерживающие СКК и отвечающие за иммунологические реакции костного мозга [3].
В-Клеточные лимфопролиферативные заболевания, в число которых входят множественная миелома, лимфома Ходжкина и хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ), а также предшествующие состояния, такие как, например, моноклональный В-клеточный лимфоцитоз – это патологии, сопровождающиеся неконтролируемым размножением В-лимфоцитов [4]. Лимфопролиферативные заболевания могут возникать либо в лимфатических тканях (как в случае лимфомы), либо в костном мозге (как в случаях ХЛЛ и множественной миеломы). Течение заболевания и тактика лечения широко варьируют в зависимости от типа неоплазии и других индивидуальных факторов, однако даже экстрамедуллярные опухоли оказывают влияние на стромальное микроокружение костного мозга [5]. Кроме того, на строму костного мозга могут сильно влиять хронические вирусные инфекции. Например, ретикулярные клетки, секретирующие хемокин CXCL12 (CAR-клетки), погибают у мышей с хроническим лимфоцитарным хориоменингитом из-за продукции интерферонов IFN-α и IFN-γ вирус-специфическими CD8+ T-клетками [6]. Хронические вирусные инфекции связаны с угнетением кроветворения, функциональной недостаточностью костного мозга и истощением пула СКК [7, 8]. Показано, что хроническая инфекция вирусом лимфоцитарного хориоменингита приводит к гибели большинства мезенхимных CAR-клеток и провоспалительному транскрипционному ремоделированию оставшихся клеток этой ключевой для ниши популяции. Это вызывает долговременные функциональные дефекты и снижение конкурентоспособности СКК. Иммунопатология костного мозга может вызываться вирус-специфическими активированными CD8+ Т-клетками, которые накапливаются в костном мозге через интерферон-зависимые механизмы. Комбинированное ингибирование путей IFN I и II типа антителами полностью предотвращает дегенерацию CAR-клеток и защищает СКК от хронической дисфункции. Следовательно, вирусные инфекции и последующие иммунные реакции оказывают длительное влияние на гомеостаз костного мозга, постоянно снижая конкурентоспособность СКК и нарушая секрецию основных стромально-активных веществ, поддерживающих кроветворение [9].
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – неоплазия, возникающая из предшественников В-клеток (В-ОЛЛ) или Т-клеток (Т-ОЛЛ). Заболевание характеризуется неконтролируемой пролиферацией лимфоидных предшественников в костном мозге и образованием большого количества незрелых лимфоцитов, нарушая нормальные гемопоэтические функции. B-ОЛЛ считается генетическим заболеванием, однако в настоящее время все больше данных свидетельствует о том, что микроокружение костного мозга может вносить существенный вклад в поддержание, прогрессирование, ответ на лечение, и, возможно, развитие заболевания независимо от наличия специфических генетических аномалий в кроветворных клетках [10]. Многие данные свидетельствуют о том, что клетки B-ОЛЛ могут модифицировать микроокружение костного мозга, создавая условия, способствующие выживанию злокачественных клеток при химиотерапии, что приводит к рецидиву заболевания. Лейкозные клетки взаимодействуют с компонентами микроокружения костного мозга, в том числе с мультипотентными мезенхимными стромальными клетками (МСК) [11]. Исследования взаимовлияний между микроокружением костного мозга и клетками ОЛЛ привели к открытию потенциальных терапевтических мишеней. Такими мишенями могут стать цитокины/хемокины и их рецепторы, молекулы адгезии, связанные с гипоксией белки и пути передачи сигнала [12]. Сложные взаимодействия между лейкозными клетками и компонентами микроокружения костного мозга приводят к участию МСК в подавлении противоопухолевого ответа, так как эти клетки секретируют цитокины, такие как трансформирующий фактор роста-β (TGF-β) и фактор роста гепатоцитов (HGF), которые опосредуют супрессию Т-клеток [13].
Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома (ДВККЛ) – это гетерогенная группа заболеваний, различающаяся по гистологическим, иммуногистохимическим и молекулярным характеристикам [14]. Только у 10–25% больных ДВККЛ гистологическими или молекулярными методами выявляется поражение костного мозга [15]. Считается, что у оставшихся 75–90% пациентов с ДВККЛ костный мозг не вовлечен в опухолевый процесс. Тем не менее стромальные клетки-предшественницы костного мозга у больных ДВККЛ без вовлечения костного мозга изменены [16]. Такие изменения нельзя объяснить контактным взаимодействием с опухолевыми клетками, как это происходит при лейкозах [17, 18]. Многие опухоли секретируют цитокины и хемокины [19, 20], наличие опухоли в организме может быть рассмотрено как воспалительный процесс [21, 22]. Воспаление связано с активным высвобождением множества факторов, которые могут активировать клетки стромального микроокружения костного мозга, в частности МСК [23]. МСК, активированные IL-1β, TNF и IFN-γ, секретируют ингибиторы и активаторы воспалительного процесса [24].
Целью исследования было проанализировать молекулярные и физиологические изменения, происходящие под действием лимфоидной неоплазии, в иммунологической функции МСК. Изучали опухоли из ранних клеток-предшественниц, напрямую контактирующих со стромой костного мозга (ОЛЛ), и более зрелых, расположенных исключительно экстрамедуллярно (ДВККЛ).
Материалы и методы
Работа выполнена на МСК, выделенных из костного мозга пациентов с ОЛЛ и ДВККЛ, в качестве контроля были использованы МСК из костного мозга здоровых доноров. Чтобы учесть разницу в возрасте, для пациентов с ОЛЛ и ДBККЛ были подобраны две разные группы доноров соответствующего возраста. В связи с этим исследованные показатели были нормированы на значение медианы соответствующей группы доноров.
Данные о количестве образцов, пациентах и донорах представлены в табл. 1.
Таблица 1. Характеристики пациентов и доноров
Диагноз | Группа | Всего | Пол | Число | Возраст, годы | Медиана возраста, лет |
ОЛЛ | дебют | 31 | мужчины | 15 | 19–72 | 29 |
женщины | 16 | 18–55 | 31 | |||
ремиссия | 14 | мужчины | 5 | 19–55 | 24 | |
женщины | 9 | 18–55 | 30 | |||
ДBККЛ | дебют | 40 | мужчины | 14 | 30–78 | 48 |
женщины | 26 | 34–79 | 60 | |||
ремиссия | 40 | мужчины | 14 | 30–78 | 48 | |
женщины | 26 | 34–79 | 60 | |||
Доноры | ОЛЛ | 56 | мужчины | 30 | 18–48 | 27 |
женщины | 26 | |||||
ДBККЛ | 30 | мужчины | 10 | 30–78 | 54 | |
женщины | 20 |
Культивирование МСК. Костный мозг получали во время диагностических пункций у пациентов и эксфузий у доноров гемопоэтических стволовых клеток после подписания ими информированного согласия. Для предотвращения свертывания 2–7 мл костного мозга помещали в стерильные пробирки, содержащие 1 мл гепарина (50 ед./мл). Костный мозг разводили в 2 раза средой α-МЕМ («ICN», Канада), содержащей 0,2% метилцеллулозы (1500 сП; «Sigma-Aldrich», США) и оставляли на 40 мин при комнатной температуре. Надосадочную жидкость собирали и осаждали центрифугированием при 450 g в течение 10 мин. Количество ядерных клеток определяли при подсчете с генциан-виолетом (1%-ный раствор в 3%-ной уксусной кислоте) в камере Горяева. Клетки (3 × 106) помещали во флакон с площадью дна 25 см2 («Corning-Costar», США) в 5 мл полной питательной среды α-MEM, содержащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки («Hyclone», США), 2 мМ L-глутамина («ICN»), 100 ед./мл пенициллина («Синтез», Россия) и 5 мкг/мл стрептомицина («БиоФармГарант», Россия). МСК культивировали в инкубаторе при 37 °С в атмосфере 5% СО2. Среду культивирования меняли 2 раза в неделю. После достижения конфлюентности клетки пассировали. Для этого флакон с клетками дважды промывали 5 мл раствора Версена и 1 раз – 0,25 мл 0,25%-ного раствора трипсина («ПанЭко», Россия), заливали 0,25 мл раствора трипсина и оставляли при комнатной температуре до открепления клеток от пластика. Добавляли 1 мл среды с эмбриональной телячьей сывороткой, взвешивали клетки и подсчитывали их количество в растворе 0,2%-ного трипанового синего («Sigma-Aldrich») для определения их жизнеспособности (трипановый синий окрашивает только мертвые клетки). При пассировании во флакон с площадью дна 25 см2 высаживали 105 клеток в 5 мл среды. Культуры вели на протяжении 4 пассажей.
Временем до P0 считали дни от посадки до достижения конфлюентности, время до P3 определяли, как время от посадки до третьего пассажа.
Расчет кумулятивной клеточной продукции. Кумулятивную клеточную продукцию за 3 пассажа вычисляли по формуле:
(1)
где N0, N1, N2 и N3 – количество клеток, снятых с двух флаконов для культивирования на 0, 1, 2 и 3 пассажах соответственно.
Определение среднего уровня флуоресценции поверхностных маркеров МСК. Поверхностный фенотип МСК определяли на втором пассаже методом проточной цитометрии. После снятия МСК со дна флакона их дважды отмывали раствором CellWash («BD Biosciences», США) и после этого 2 × 104 клеток инкубировали 20 мин в темноте с моноклональными антителами. Панели антител были следующими: 1) анти-CD90, меченные PE (5E10; «BD Pharmingen», США), анти-HLA-ABC, меченные FITC (FN50; «BioLegend», США) и анти-HLA-DR, меченные APC (L243; «BioLegend»); 2) анти-CD105, меченные FITC (43A3; «BioLegend»), анти-CD54, меченные APC (HA58; «BioLegend»), анти-CD146, меченные PE (P1H12; «BD Pharmingen»); 3) анти-CD73, меченные PE (AD2; «BD Pharmingen»). Анализ проводили с использованием проточного цитометра CytoFLEX («Beckman Coulter», США), данные анализировали с помощью программы Kaluza Analysis 2.1 («Beckman Coulter»). Популяцию МСК определяли по параметрам прямого и бокового светорассеяния. Оценивали средний уровень флуоресценции (СУФ) по каналам APC, FITC и PE.
Определение относительного уровня экспрессии генов. Выделение РНК. Для выделения РНК клетки первого пассажа (от 105 до 4,5 × 105 клеток) центрифугировали при 300 g и сливали супернатант. Промывали 1 мл фосфатного буфера («MPBio», Франция), центрифугировали при 300 g, сливали супернатант. Заливали осадок 400 мкл TriZol («Ambion by Life Technologies», США) и замораживали при –70 °С. После размораживания в пробы добавляли 120 мкл хлороформа, встряхивали, инкубировали 2 мин при комнатной температуре и центрифугировали 15 мин при 13 500 g и 4 °С в центрифуге Centrifuge 5424 R («Eppendorf», Германия). Полученную верхнюю фазу переносили в новые пробирки, добавляли 400 мкл изопропанола, инкубировали 10 мин при комнатной температуре и центрифугировали 10 мин при 13 500 g и 4 °С. Сливали супернатант, промывали осадок 1 мл 75%-ного этилового спирта, встряхивали на вортексе и центрифугировали 5 мин при 13 500 g и 4 °С. Супернатант сливали и отбирали капли, осадок оставляли просохнуть 5 мин при комнатной температуре. Далее, заливали осадок 100 мкл воды, обработанной ДЭПК, и оставляли на 30 мин на льду для растворения. После встряхивания на вортексе отбирали 1 мкл для измерения количества выделенной РНК. Измерение проводили на приборе NanoDrop One («Thermo Fisher Scientific», США) при длине волны 260 нм, степень чистоты РНК определяли по соотношению 260/280 нм (оно должно быть в пределах 1,8–2,0). К оставшимся после измерения 99 мкл раствора РНК добавляли 10 мкл 3 М ацетата натрия и 250 мкл 96%-ного этилового спирта. Хранили при –20 °С.
Синтез кДНК. РНК центрифугировали в смеси этилового спирта и ацетата натрия 10 мин при 13 500 g и 4 °С. После этого удаляли супернатант и осадок промывали 1 мл 75%-ного этилового спирта, встряхивали на вортексе и центрифугировали 5 мин при 13 500 g и 4 °С. Отбирали супернатант, осадок сушили 5 мин при комнатной температуре. Добавляли обработанную ДЭПК воду из расчета 1 мкл на мкг РНК, оставляли на льду на 30 мин для растворения. Для обратной транскрипции смешивали 2 мкл раствора РНК (2 мкг), по 1,25 мкл праймеров (Т13 и случайных гексамеров, 40 пмоль/мкл) и 5,5 мкл обработанной ДЭПК воды, инкубировали в амплификаторе Терцик («ДНК-Технология», Россия) 10 мин при 70 °С и 10 мин при 4 °С. Добавляли 15 мкл смеси для обратной транскрипции, инкубировали в амплификаторе Терцик при 42 °С в течение 60 мин. Добавляли 75 мкл воды milliQ. Полученную кДНК хранили при –20 °С.
ПЦР в реальном времени. ПЦР-РВ в модификации Taq-man проводили на приборе AbiPrism Real Time PCR System 7500 («Thermo Fisher Scientific») в 96-луночном планшете («Thermo Fisher Scientific»), объем реакции – 25 мкл. Каждый образец анализировали в трех независимых повторах, использовали положительный контроль (референсная смесь кДНК) для оценки качества реакции и соотнесения результатов разных ПЦР и отрицательный контроль (вместо кДНК добавляли воду). Последовательности праймеров и зондов, использованных в работе, представлены в табл. 2.
Таблица 2. Последовательности праймеров и зондов
Ген | Назначение олигонуклеотида | Последовательность олигонуклеотида 5′ → 3′ |
BACT | праймер прямой | CAACCGCGAGAAGATGACC |
праймер обратный | CAGAGGCGTACAGGGATAGC | |
зонд | ROX-AGACCTTCAACACCCCAGCCATGTACG-BHQ2 | |
GAPDH | праймер прямой | GGTGAAGGTCGGAGTCAACG |
праймер обратный | TGGGTGGAATCATATTGGAACA | |
зонд | ROX-CTCTGGTAAAGTGGATATTGTTGCCATCA-BHQ2 | |
VEGFA | праймер прямой | AGGCGAGGCAGCTTGAGTTA |
праймер обратный | ACCCTGAGGGAGGCTCCTT | |
зонд | FAM-CCTCGGCTTGTCACATCTGCAAGTACGT-RTQ1 | |
FGF2 | праймер прямой | GAAGAGCGACCCTCACATCAAG |
праймер обратный | TCCGTAACACATTTAGAAGCCAGTA | |
зонд | FAM-TCATAGCCAGGTAACGGTTAGCACACACTCCT-RTQ1 | |
IL6 | праймер прямой | ACCTGAACCTTCCAAAGATG |
праймер обратный | CTCCAAAAGACCAGTGATGA | |
зонд | FAM-ATTCAATGAGGAGACTTGCCTGGTG-RTQ1 | |
IL8 | праймер прямой | ACCATCTCACTGTGTGTAAAC |
праймер обратный | GTTTGGAGTATGTCTTTATGC | |
зонд | FAM-CAGTTTTGCCAAGGAGTGCTAAAG-RTQ1 | |
PDGFRB | праймер прямой | CTCCCTTATCATCCTCATCA |
праймер обратный | TCCACGTAGATGTACTCATG | |
зонд | FAM-TCACAGACTCAATCACCTTCCATC-RTQ1 | |
SPP1 | праймер прямой | ATAGTGTGGTTTATGGACTGAG |
праймер обратный | ATTCAACTCCTCGCTTTCC | |
зонд | FAM-CCAGTACCCTGATGCTACAGACGAG-RTQ1 | |
BGLAP | праймер прямой | GCAGCGAGGTAGTGAAGAG |
праймер обратный | GAAAGCCGATGTGGTCAG | |
зонд | FAM-CTCCCAGCCATTGATACAGGTAGC-RTQ1 | |
PPARG | праймер прямой | TACTGTCGGTTTCAGAAATGC |
праймер обратный | CAACAGCTTCTCCTTCTCG | |
зонд | FAM-CCATCAGGTTTGGGCGGATGCC-RTQ1 | |
FGFR1 | праймер прямой | CAGAATTGGAGGCTACAAGG |
праймер обратный | TGATGCTGCCGTACTCATTC | |
зонд | FAM-CATCATAATGGACTCTGTGGTGC-RTQ1 | |
FGFR2 | праймер прямой | CTCATTATGGAAAGTGTGGTC |
праймер обратный | TGGGCCGGTGAGGCGATC | |
зонд | FAM-CAGGTGGTACGTGTGATTGATGGA-RTQ1 | |
SOX9 | праймер прямой | AGCAAGACGCTGGGCAAG |
праймер обратный | GTTCTTCACCGACTTCCTC | |
зонд | FAM-CTGGAGACTTCTGAACGAGAGC-RTQ1 | |
SDF1 | праймер прямой | CTACAGATGCCCATGCCGAT |
праймер обратный | TAGCTTCGGGTCAATGCACA | |
зонд | FAM-CAGTTTGGAGTGTTGAGAATTTTGAG-RTQ1 | |
TGFB1 | праймер прямой | TGCGTCTGCTGAGGCTCAA |
праймер обратный | CGGTGACATCAAAAGATAACC | |
зонд | FAM-AGGAATTGTTGCTGTATTTCTGGTAC-RTQ1 | |
ICAM1 | праймер прямой | GCAATGTGCAAGAAGATAGC |
праймер обратный | CTCCACCTGGCAGCGTAG | |
зонд | ROX-CACGGTGAGGAAGGTTTTAGCTGTT-RTQ2 |
ПЦР начинали с 10 мин при 95 °С для активации полимеразы, проводили 40 циклов ПЦР для генов BACT и GAPDH, 45 циклов – для остальных генов. Параметры цикла: 15 с – 95 °С; 40 с – 60 °С.
Расчет относительного уровня экспрессии генов. Относительный уровень экспрессии (ОУЭ) генов рассчитывали с помощью модифицированного метода ΔΔCt [25]. Для расчетов использовали среднее арифметическое Ct трех независимых повторов. Ct – это количество циклов, потребовавшееся для достижения порогового значения флуоресценции зонда в ПЦР.
Для каждого гена считали ΔCt по формуле:
(2)
Сначала рассчитывали ОУЭ генов «домашнего хозяйства» (ДХ) – BACT и GAPDH – по формуле:
(3)
Далее рассчитывали фактор нормализации (ФН) образца по формуле:
(4)
Для расчета ОУЭ гена интереса применяли формулу:
(5)
Анализ секретома. Получение среды, кондиционированной МСК. МСК на 2–3 пассаже высевали из расчета 4 × 103 клеток на см2 во флаконы Т175 («Corning-Costar»). После достижения конфлюентности (3–4 дня) флаконы промывали 5 раз фосфатным буфером без Ca2+/Mg2+ («Invitrogen», США), а затем культивировали в течение 24 ч в среде RPMI 1640 без сыворотки и фенолового красного («HyClone»). Кондиционированную среду центрифугировали при 400 g в течение 10 мин и замораживали при –70 °С.
Для анализа LC-MS/MS к каждому образцу добавляли коктейль ингибиторов протеаз (Halt Protease Inhibitor Cocktail; «Thermo Fisher Scientific»), а затем центрифугировали при 1500 g в течение 10 мин для удаления дебриса. Супернатанты немедленно замораживали и лиофилизировали для уменьшения объема. Лиофилизаты ресуспендировали в течение 30 мин в буфере, содержащем 6 М Gd-HCl, 10 мМ Tris-HCl (рН 8,0) и 2 мМ ДТТ. Для осаждения нерастворимой фракции растворы центрифугировали при 16 000 g в течение 10 мин при 4 °C. Образцы концентрировали с помощью центрифужного фильтра (Corning Spin-X UF6; «Sigma-Aldrich», США) для замены буфера. К концентрированным образцам добавляли буфер (8 М мочевины, 2 М тиомочевины, 10 мМ Tris-HCl (pH 8,0)) в соотношении 1/3 и инкубировали при комнатной температуре в течение 30 мин. Дисульфидные связи восстанавливали 5 мМ ДТТ при комнатной температуре в течение 40 мин, а затем алкилировали 10 мМ йодацетамидом в темноте при комнатной температуре в течение 20 мин. Алкилированные образцы разбавляли добавлением 50 мМ раствора NH4HCO3 в соотношении 1/4, затем добавляли трипсин (0,01 мкг на 1 мкг белка) и инкубировали образцы при 37 °С в течение 14 ч. Реакцию останавливали добавлением муравьиной кислоты до конечной концентрации 5%. Пептиды обессоливали с помощью Discovery DSC-18 (пробирки 1 мл, 50 мг) («Sigma-Aldrich»), сушили в вакууме и хранили при –80 °C до анализа. Перед LC-MS/MS образцы были повторно растворены в 5%-ном ацетонитриле, содержащем 0,1% трифторуксусной кислоты, и обработаны ультразвуком.
Анализ проводили на масс-спектрометре Orbitrap Q Exactive HF-X, оснащенном источником нано-ESI и нанопроточным хроматографом высокого давления (UPLC Ultimate 3000) с обращенно-фазовой колонкой C-18 (100 мкм × 300 мм) («Thermo Fisher Scientific»).
Биоинформатическая обработка данных масс-спектрометрии. Необработанные данные с масс-спектрометра были преобразованы в файлы mgf с помощью MSConvert («ProteoWizard Software Foundation», США) с параметрами «--mgf--filter pickPicking true» [1, 2]. Для идентификации белков был проведен поиск с помощью MASCOT (версия 2.5.1; «Matrix Science Ltd.», Великобритания) и X!Tandem (ALANINE, 2017.02.01, 2017.02.01, The Global Proteome Machine Organization) в базе данных белков человека UniProt с конкатенированным набором данных обратной ловушки. Допустимые массы предшественника и фрагмента были установлены 20 ppm и 0,04 Да соответственно. Параметры поиска в базе данных включали следующее: триптическое расщепление с одним [26] возможным пропуском, статическая модификация для карбамидометила (C) и динамические модификации для окисления (M). Для X!Tandem были выбраны параметры, которые позволили быстро проверить ацетилирование N-концевого остатка белка, потерю аммиака с N-концевого глутамина и воды с N-концевой глутаминовой кислоты. Файлы с результатами обрабатывались с помощью программы Scaffold 5 (версия 5.1.0). Использовался алгоритм оценки локальной частоты ложных обнаружений (FDR) со стандартной группировкой белков. Для оценки попаданий пептидов и белков (для обоих) была выбрана FDR = 0,05. Аннотированные в базе Swiss-Prot образцы были отмечены как предпочтительные.
Статистический анализ. Данные представлены в виде индивидуальных значений с отмеченной медианой. Для каждой выборки экспериментальных данных проводили проверку на нормальность с помощью критерия Шапиро–Уилка (при p < 0,05 распределение принималось отличным от нормального). Достоверность различий в данных анализировали с помощью теста Манна–Уитни для ненормальных распределений. Статистически значимыми считали различия при p < 0,05. Статистический анализ осуществляли с помощью GraphPad Prism 8.03.
Результаты исследования
Под воздействием лимфоидных неоплазий характеристики МСК изменяются. При ОЛЛ и ДBККЛ кроветворные предшественники, инициирующие развитие опухоли, различаются по степени дифференцированности: при ОЛЛ опухолевую трансформацию претерпевают ранние костномозговые предшественники, а при ДBККЛ – более дифференцированные B-клетки вне костного мозга. Стоит отметить, что в работе были изучены МСК только пациентов с ДBККЛ без поражения костного мозга.
Ростовые характеристики МСК. Время, необходимое для достижения нулевого пассажа МСК пациентов с ОЛЛ до начала лечения, было увеличено (p < 0,0001), что косвенно может отражать снижение количества стромальных клеток-предшественниц в костном мозге. По достижению ремиссии этот показатель нормализовался. МСК пациентов с ДBККЛ не отличались от клеток здоровых доноров до начала лечения заболевания, а в ремиссии – достигали P0 быстрее донорских (р = 0,0107). Как следствие, время до P0 было больше у клеток больных ОЛЛ, чем у МСК больных ДBККЛ в дебюте заболевания (рис. 1, а). В ремиссии заболеваний время до P0 достоверно не отличалось.
Рис. 1. Время до нулевого пассажа (а) и суммарная клеточная продукция за 3 пассажа (б) МСК больных ОЛЛ и ДВККЛ до начала лечения и в ремиссии заболевания по сравнению с донорами соответствующего возраста. Данные представлены как диаграмма рассеяния, отмечена медиана. Горизонтальной зеленой линией обозначена медиана значений для клеток здоровых доноров
Суммарная клеточная продукция МСК за 3 пассажа у больных ОЛЛ не отличалась от показателей здоровых доноров. При достижении ремиссии суммарная клеточная продукция больных ОЛЛ достоверно увеличивалась по сравнению с донорами (р = 0,0419). Суммарная клеточная продукция МСК пациентов с ДBККЛ была повышена относительно МСК доноров как в дебюте (р = 0,0119), так и в ремиссии заболевания (р = 0,0011), а в дебюте также была значимо выше, чем при дебюте ОЛЛ (рис. 1, б).
Таким образом, нами показано, что при ОЛЛ происходит угнетение роста МСК до лечения и возвращение к норме в ремиссии, в то время как при ДВККЛ, напротив, МСК растут активнее, чем клетки здоровых доноров. МСК больных отличались от донорских клеток и по другим параметрам.
Анализ экспрессии поверхностных маркеров МСК. МСК из костного мозга больных гематологическими заболеваниями и здоровых доноров различаются не только по ростовым характеристикам, но и по уровню экспрессии поверхностных маркеров.
Средний уровень флуоресценции поверхностных маркеров определяли на клетках 6 пациентов с ОЛЛ до начала лечения и 3 – в ремиссии ОЛЛ, 9 пациентов в дебюте и ремиссии ДBККЛ и 10 доноров (для каждой из групп больных). Согласно критериям, утвержденным Международным обществом клеточной терапии (ISCT), МСК экспрессируют на мембране CD90, CD105 и CD73 [27]. На всех изучаемых клетках эти маркеры присутствовали, однако их СУФ различались (рис. 2, а–в). При ОЛЛ до начала лечения на МСК был достоверно повышен СУФ CD73 по сравнению с донорами (рис. 2, в). При ДBККЛ этот показатель не отличался от доноров ни до начала лечения, ни в ремиссии заболевания, однако в ремиссии становился достоверно выше, чем до начала лечения. Также МСК больных с ДBККЛ в ремиссии имели повышенный СУФ CD105 (рис. 2, б). До начала лечения при ОЛЛ была существенно повышена экспрессия HLA-ABC, по сравнению с донорами, при ремиссии СУФ этой молекулы снижался, тогда как при ДВККЛ до начала лечения СУФ HLA-ABC не отличался от донорских, но достоверно повышался при достижении ремиссии (рис. 2, г). Этот же эффект наблюдался для молекул гистосовместимости II класса (HLA-DR) при ДВККЛ (рис. 2, д). Представленность молекул CD146 имела тенденцию к повышению на поверхности МСК больных ОЛЛ до начала лечения и в ремиссии, по сравнению с донорами, а у больных ДВККЛ до начала лечения – не отличалась от доноров, но достоверно повышалась при достижении ремиссии (рис. 2, е). Достоверных различий в экспрессии CD54 между исследованными группами обнаружено не было, кроме повышения в ремиссии ДВККЛ по сравнению с донорами (рис. 2, ж).
Рис. 2. Средний уровень флуоресценции (СУФ) поверхностных маркеров CD90 (а), CD105 (б), CD73 (в), HLA-ABC (г), HLA-DR (д), CD146 (е) и CD54 (ж) на МСК больных ОЛЛ, ДВККЛ и здоровых доноров соответствующего возраста. По оси ординат отложен СУФ относительно медианы соответствующей группы доноров. Данные представлены как диаграмма рассеяния, отмечена медиана
Таким образом, были обнаружены достоверные изменения в экспрессии поверхностных маркеров МСК.
Изменения в экспрессии генов факторов, важных для иммунорегулирующей функции МСК. Были изучены паттерны генной экспрессии МСК. Для анализа были выбраны гены факторов, непосредственно участвующих в регуляции иммунного ответа: IL6, IL8, TGFB1; факторов хоминга и адгезии: SDF1, ICAM1; факторов роста и их рецепторов: FGF2, FGFR1, FGFR2, PDGFRB, VEGFA. Была исследована экспрессия генов-маркеров дифференцировки МСК: PPARG, SOX9, BGLAP, SPP1, так как их дифференцированные потомки – остеобласты, адипоциты и другие – также регулируют иммунный ответ.
У больных ОЛЛ экспрессия гена IL6 в МСК была достоверно повышена по отношению к донорам в дебюте заболевания (p < 0,0001) и не нормализовалась после достижения ремиссии (p < 0,0001), а при ДBККЛ – возрастала после химиотерапии по сравнению с дебютом (рис. 3, а) и здоровыми донорами (p = 0,0018). При этом до начала лечения экспрессия гена IL6 была выше при ОЛЛ, чем при ДBККЛ.
Рис. 3. Уровни экспрессии генов IL6 (а), IL8 (б), TGFB1 (в), FGF2 (г), FGFR1 (д), FGFR2 (е), PPARG (ж), SOX9 (з), SPP1 (и), BGLAP (к), VEGFA (л), SDF1 (м), PDGFRB (н), ICAM1 (о) в МСК больных ОЛЛ и ДВККЛ до начала лечения и при ремиссии заболевания, нормированные на медиану значения ОУЭ в клетках соответствующих здоровых доноров. По оси ординат отложена экспрессия относительно медианы соответствующей группы доноров. Данные представлены как диаграмма рассеяния, отмечена медиана. Горизонтальная красная линия – медиана ОУЭ доноров
Также до начала лечения при ДBККЛ наблюдалось повышение уровня экспрессии IL8 относительно здоровых доноров (р = 0,0220), а после лечения ОУЭ этого гена возрастал еще больше (рис. 3, б). ОУЭ TGFB1 был понижен в МСК больных ОЛЛ в дебюте, по сравнению с клетками доноров (р = 0,004), и еще сильнее снижался в ремиссии (р = 0,0002). У больных ДBККЛ также наблюдалось снижение ОУЭ этого гена после лечения по сравнению с дебютом заболевания (рис. 3, в). В МСК пациентов с ДBККЛ в дебюте и ремиссии был повышен ОУЭ FGF2, по сравнению с донорами (р = 0,0121, р = 0,0206 соответственно), в дебюте заболевания он был достоверно выше, чем в МСК больных ОЛЛ (рис. 3, г). Рецепторы к FGF2 различаются по своей экспрессии у пациентов с ОЛЛ и ДВККЛ (рис. 3, д и е). Так, в дебюте ДВККЛ МСК имели пониженный ОУЭ FGFR1 (р = 0,0166) и повышенный ОУЭ FGFR2 (р = 0,0017). В МСК больных ОЛЛ и ДВККЛ ОУЭ FGFR1 не был достоверно снижен ни в дебюте, ни при ремиссии заболевания, а ОУЭ FGFR2 был достоверно повышен в МСК больных ДВККЛ, по сравнению с донорами, и значимо снижался при достижении ремиссии; у больных с ОЛЛ такие изменения не наблюдались.
ОУЭ маркеров дифференцировки МСК различались между изученными нозологиями. ОУЭ маркера жировой дифференцировки PPARG был повышен в МСК пациентов с ОЛЛ в дебюте заболевания, по сравнению с донорами (p < 0,0001), и оставался повышенным в ремиссии (p < 0,0001). В обеих точках экспрессия гена PPARG была выше при ОЛЛ, чем при ДBККЛ (рис. 3, ж). ОУЭ SOX9, маркера хрящевой дифференцировки, у больных ОЛЛ был ниже, чем у доноров (р = 0,0049) в дебюте заболевания, и ниже, чем у больных ДBККЛ в дебюте и ремиссии (рис. 3, з).
При ДBККЛ была нарушена и экспрессия некоторых ростовых факторов и их рецепторов. При ДBККЛ в ремиссии была снижена экспрессия PDGFRB по отношению к донорам (р = 0,0006) и дебюту заболевания (рис. 3, н). ОУЭ SDF1 (рис. 3, м) был повышен при ДВККЛ по сравнению с донорами как до начала лечения, так и по достижению ремиссии (p < 0,0001 и р = 0,0028 соответственно). При ОЛЛ экспрессия VEGFA была снижена до начала лечения, по сравнению с донорами (р = 0,0036), но восстанавливалась до нормы по достижению ремиссии (рис. 3, л). Экспрессия ICAM1 возрастала в ремиссии ОЛЛ по сравнению с дебютом заболевания (рис. 3, о).
Таким образом, в клетках больных ОЛЛ и ДВККЛ изменен ОУЭ ростовых факторов, факторов адгезии и интерлейкинов. Изменения генов-маркеров дифференцировки МСК также демонстрируют склонность к адипогенной дифференцировке при ОЛЛ.
Изменения в секретоме МСК пациентов с лимфоидными неоплазиями способствует снижению противоопухолевого иммунитета. Был исследован секретом МСК у 2 пациентов с ОЛЛ, у 6 пациентов с ДBККЛ и у 21 донора. Достоверных изменений, совпадающих с изменениями экспрессии генов, выявлено не было, что может быть связано с маленькой выборкой или с посттранскрипционными изменениями. Однако были выявлены изменения в секреции белков, уровень экспрессии генов которых не был исследован, в том числе функционально связанных с белками, ОУЭ генов которых были изменены. Больные с ОЛЛ и ДВККЛ сильно различались по возрасту, поэтому при анализе секретома были использованы две соответствующие группы доноров. Количество проанализированных белков секретома представлено на рис. 4.
Рис. 4. Диаграмма распределения изученных секретируемых белков МСК ОЛЛ и ДВККЛ до начала лечения и в ремиссии заболевания. Обозначено количество белков, не секретируемых разными группами МСК, но секретируемых другими группами
МСК больных и соответствующих доноров секретировали 938 общих белков. Среди белков, не выявленных в МСК пациентов, могут быть те факторы, недостаточность которых влияет на функции стромального микроокружения костного мозга. В секретоме МСК больных ОЛЛ не были обнаружены 1444 белка и 433 белка не секретировались МСК больных ДВККЛ. Из них секреция 31 белка была обнаружена в МСК больных ОЛЛ. К ним относятся белки, важные для регуляции иммунного ответа – PDGFA, POSTN, LGALS1 и KIT. 800 белков секретировались как МСК доноров, так и МСК больных ДВККЛ, при этом МСК доноров не секретировали 793 из изученных белков.
При ОЛЛ до начала лечения, по сравнению с донорами, была повышена секреция 70 белков, наиболее интересными из которых представляются CXCL12, POSTIN, HLA-DRB, LGALS1. Помимо этих важных для иммунного ответа белков, была повышена секреция белков, регулирующих клеточную миграцию и относящихся к организации цитоскелета (рис. 5, а). Одновременно была снижена секреция 15 белков, в том числе VCAM1, CSF1, CTGF, ADAMTS1. Белки с пониженной секрецией участвуют в везикулярном транспорте и организации внеклеточного матрикса (рис. 5, б).
Рис. 5. Анализ обогащения белков сигнальных путей по базе данных GO. Представлены наиболее важные сигнальные пути, компоненты которых по-разному представлены в секретомах МСК пациентов с ОЛЛ и доноров. Учтены только достоверные изменения (р < 0,05). Гистограммы представляют собой значения –log10 FDR (шанса ложного обнаружения, false discovery rate). а – Повышены в секретоме МСК больных ОЛЛ до начала лечения по сравнению с МСК доноров. б – Понижены в секретоме МСК больных ОЛЛ до начала лечения по сравнению с МСК доноров. в – Повышены в секретоме МСК больных ОЛЛ до начала лечения по сравнению с МСК при ремиссии заболевания. г – Понижены в секретоме МСК больных ОЛЛ до начала лечения по сравнению с МСК при ремиссии заболевания
По достижении ремиссии в МСК больных ОЛЛ изменяется секреция белков, связанных с иммунным ответом (рис. 5, в и г). Повышается, по сравнению с началом заболевания, секреция белков, участвующих в функционировании хемокинов и цитокинов, везикулярном транспорте, дифференцировке МСК и др. При этом другие белки, участвующие в тех же сигнальных путях, могут понижаться.
В ремиссии ОЛЛ повышена относительно доноров секреция 62 белков, включая PTMA, DCD, LIMCH1 и POSTIN, и понижена секреция 80 белков, в их числе VCAM1, LTBP1, C3, ANXA1, IGFBP-1, -3 и -6; LGALS1, ENO1.
Полученные данные указывают на значительные нарушения функциональных свойств МСК при ОЛЛ как до начала лечения, так и по достижении ремиссии.
В МСК больных ДВККЛ до начала лечения, по сравнению с донорами, была повышена секреция 77 белков, среди них B2M, CD59, HLA-C, PDGFRA, CSF1, SOD1, CAPG, а снижена – 44 белков, среди которых APO (аполипопротеины), ACAN, S100A9, LTBP4. Белки, секреция которых была повышена, участвуют в сигнальных путях цитокинов иммунной системы, в том числе TNF, интерферонов и интерлейкинов, врожденного и адаптивного иммунитета (рис. 6, а). Белки с пониженной секрецией также участвуют в некоторых из этих путей (рис. 6, б). Понижена секреция белков, относящихся к дифференцировке МСК и системе комплемента.
Рис. 6. Анализ обогащения белков сигнальных путей по базе данных GO. Представлены наиболее важные сигнальные пути, компоненты которых по-разному представлены в секретомах МСК пациентов с ДBККЛ и доноров. Учтены только достоверные изменения (р < 0,05). Гистограммы представляют собой значения –log10 FDR (шанса ложного обнаружения, false discovery rate). а – Повышены в секретоме МСК больных ДBККЛ до начала лечения по сравнению с МСК доноров. б – Понижены в секретоме МСК больных ДBККЛ до начала лечения по сравнению с МСК доноров. в – Повышены в секретоме МСК больных ДBККЛ до начала лечения по сравнению с МСК при ремиссии заболевания. г – Понижены в секретоме МСК больных ДBККЛ до начала лечения по сравнению с МСК при ремиссии заболевания
При достижении ремиссии повышается секреция 15 белков. За исключением B2M, эти белки отличаются от тех, секреция которых повышена до начала лечения. К важным сигнальным путям, измененным по достижении ремиссии, относятся белки, участвующие в везикулярном транспорте, иммунном ответе и дифференцировке (рис. 6, в). Обращает на себя внимание секреция белков, связанных с презентацией антигенов главным комплексом гистосовместимости II класса. В стандартных культуральных условиях не активированные МСК практически не экспрессируют антигены главного комплекса гистосовместимости II класса, тогда как при ДВККЛ это происходит. В то же время снижается секреция 73 белков, включающих APO, ACAN, S100A9, LTBP4, PDGFA, CFHR1, C4BPA, CRP. Очевидно, что в ремиссии остаются сниженными белки APO, ACAN, S100A9, LTBP4, к которым присоединяются такие важные для иммунного ответа белки, как PDGFA, и различные субъединицы белков комплемента – CFHR1, C4BPA, CRP. Множество белков, сниженных в секретоме МСК, задействованы в иммунной системе – системе комплемента, активации тромбоцитов и нейтрофилов (рис. 6, г).
Таким образом, изменения, наблюдаемые в секретомах МСК больных ОЛЛ и ДВККЛ, указывают на системное воспаление, затрагивающее костный мозг при обеих нозологиях. В ремиссии секреция связанных с воспалением белков спадает, однако нормализации секретома МСК не происходит. Ни один из белков, секреция которых была изменена по сравнению с донорами в дебюте и ремиссии заболеваний, не совпадал между ОЛЛ и ДВККЛ. Это же относится и к белкам, различающимся между дебютом и ремиссией при ОЛЛ и ДВККЛ.
Обсуждение результатов
В иммунный процесс вовлечены не только клетки, относящиеся непосредственно к иммунной системе, но и множество других клеток организма, в том числе МСК. In vitro показано, что МСК способны модулировать иммунный ответ как за счет прямого межклеточного взаимодействия, так и за счет секреции различных факторов. Кроме того, МСК, являясь предшественниками стромального микроокружения костного мозга, регулируют образование всех клеток крови, и в том числе клеток иммунной системы. Лимфоидные опухоли приводят к клеточному дисбалансу иммунной системы не только за счет нарушения лимфопоэза, но и за счет изменения свойств других, связанных с иммунной системой, клеток.
Рассматриваемые в данной работе лимфопролиферативные заболевания – ДBККЛ и ОЛЛ – различаются по степени зрелости клеток и локализации. При ОЛЛ слабодифференцированные лимфоидные предшественники находятся в костном мозге, а при ДBККЛ опухоль из более зрелых B-клеток может не затрагивать костный мозг, как происходило у пациентов, МСК которых мы изучали в работе. Тем не менее известно, что свойства МСК значительно меняются не только при ОЛЛ [28], когда они находятся в непосредственной близости к злокачественным клеткам и взаимодействуют с ними, но и при ДBККЛ, при отсутствии прямого контакта [5].
Поскольку в культуру вносится всегда одно и то же количество ядросодержащих клеток костного мозга, время достижения конфлюентности после посадки зависит от количества прикрепившихся к пластику клеток, способных пролиферировать, и таким образом может косвенно отражать количество мезенхимных предшественников в костном мозге. Увеличение времени до P0 только у МСК больных в дебюте ОЛЛ, скорее всего, связано с тем, что только в этом случае МСК непосредственно контактируют с опухолевыми клетками и могут повреждаться ими. Эти данные соотносятся с результатами других исследований, свидетельствующими о повреждении стромального микроокружения при острых лейкозах [29–31]. При ДBККЛ, напротив, можно предположить активацию стромального микроокружения, так как наблюдается повышение продукции клеток этих пациентов как в дебюте, так и в ремиссии. Более того, в ремиссии также сокращается время достижения P0, т.е. значительно увеличивается концентрация стромальных предшественников.
Существует мнение, что лейкоз ассоциирован с хроническим воспалением [32, 33]. Изучение поверхностного фенотипа МСК больных ОЛЛ показало, что на них повышен СУФ белков главного комплекса гистосовместимости I класса (HLA-ABC) и экто-5′-нуклеотидазы (CD73) в дебюте заболевания. Кроме того, в секретоме МСК больных ОЛЛ в дебюте заболевания повышено содержание HLA-DRB. МСК больных в дебюте ДВККЛ не отличаются от клеток здоровых доноров по этим параметрам, однако по достижению ремиссии на них достоверно повышается поверхностная экспрессия HLA обоих классов (HLA-ABC и HLA-DR), CD73, CD54 и CD146. В секретоме МСК больных ДВККЛ повышено содержание белков HLA-C и B2M в дебюте заболевания, что частично сохраняется в ремиссии. Эти изменения предполагают, что клетки, на которых обычно слабо экспрессированы молекулы HLA, находились в провоспалительной среде в организме и остались активированными при переносе в культуру. CD73 оказывает иммуносупрессивное действие за счет генерации аденозина. Повышение поверхностной экспрессии этого маркера указывает на то, что МСК оказывают противовоспалительное действие. Известно, что повышенная экспрессия CD73 встречается во многих типах опухолевых клеток и клетках опухолевого микроокружения [34–36]. По-видимому, этот механизм ускользания от иммунного контроля реализуется МСК больных ОЛЛ и ДВККЛ. CD54 (или ICAM-1) – это молекула адгезии, экспрессия которой повышается при активации клеток [37, 38]. CD146 – молекула адгезии, считается маркером МСК, имеющих высокий пролиферативный потенциал и способность к дифференцировке [39]. Исходя из этого, можно ожидать более быстрого роста или большей клеточной продукции у МСК с повышенной экспрессией этого маркера, что и наблюдается у клеток больных ДВККЛ после лечения. В работе изучали МСК больных ДВККЛ без инвазии опухолевых клеток в костный мозг. При этом в МСК больных ДВККЛ активация не наблюдалась в дебюте заболевания, а происходила в ремиссии, что, вероятно, связано с перенесенным лечением. Химиотерапия активирует и сильно повреждает иммунную систему пациентов [40].
В ремиссии ДВККЛ на МСК также обнаруживается повышенное содержание CD105, или эндоглина. Эндоглин совместно с TGF-β участвует в удержании СКК в состоянии покоя [41]. Уровень экспрессии гена TGFB1 в МСК был снижен в дебюте ОЛЛ, что могло способствовать пролиферации опухолевых клеток. После химиотерапии ОУЭ TGFB1 снижается как при ОЛЛ, так и при ДBККЛ. Возможно, это необходимо для восстановления кроветворения и иммунитета, которые неизбежно повреждаются в ходе лечения.
Среди факторов, влияющих на иммунный ответ, в дебюте ОЛЛ наблюдалось повышение уровня экспрессии гена провоспалительного цитокина IL6, не нормализующееся по достижении ремиссии. Вероятно, МСК вносят вклад в повышение уровня этого фактора, наблюдаемое в крови пациентов [42]. Мы не выявили достоверного повышения уровня IL-6 в секретоме МСК, что может быть связано с недостаточной выборкой и ограничениями метода, поскольку другие группы наблюдали повышенную секрецию IL-6 МСК больных ОЛЛ, используя метод ELISA [43]. У больных ДBККЛ в дебюте заболевания отмечается повышенная экспрессия IL8, а после лечения – повышенная экспрессия IL6 и IL8. Увеличение в ремиссии экспрессии провоспалительных интерлейкинов может отражать массивные перестройки в иммунных процессах, связанные как с проводимой химиотерапией, так и с возникающими на ее фоне инфекционными осложнениями, что совпадает с наблюдениями других авторов [9].
SDF-1 (CXCL-12) важен для взаимодействия с СКК. Его экспрессия в МСК пациентов не отличалась от здоровых доноров ни при ОЛЛ, ни при ДВККЛ. В предыдущих исследованиях отмечалось, что экспрессия SDF1 не изменяется при ОМЛ [44, 45], но уровень белка на поверхности МСК больных повышен [46]. Было показано, что при ОЛЛ, напротив, содержание SDF-1 в костном мозге падает [43, 47]. В изученных в данной работе МСК наблюдалась тенденция к повышению экспрессии этого фактора. В секретоме МСК больных ОЛЛ выявлено повышение этого фактора по сравнению с донорами. Можно предположить, что регуляция SDF-1 при острых лейкозах происходит не на уровне транскрипции.
И при ОЛЛ, и при ДBККЛ изменяется экспрессия цитокинов, участвующих в формировании и регенерации стромы. В дебюте ОЛЛ в МСК снижается экспрессия VEGFA, несмотря на то что в крови пациентов обнаруживается повышение концентрации VEGF-A [48, 49]. Возможно, МСК снижают экспрессию этого ростового фактора из-за петли обратной связи, а за его секрецию ответственны злокачественные клетки [48]. В МСК ДBККЛ нарушена экспрессия многих факторов роста и их рецепторов. Не исключено, что эти изменения способствовали бы распространению опухоли на костный мозг, если бы пациенты оставались без лечения.
При ОЛЛ также наблюдалось изменение относительного уровня экспрессии генов-маркеров предрасположенности МСК к различным линиям дифференцировки. Так, повышенная экспрессия PPARG предполагает, что МСК больных ОЛЛ более предрасположены к жировой дифференцировке, чем МСК здоровых доноров. Это подтверждается также снижением экспрессии SOX9 – маркера хрящевой дифференцировки, который, согласно некоторым исследованиям, способен ингибировать дифференцировку МСК в адипоциты [50]. Согласно литературным данным, МСК больных ОЛЛ проявляют повышенную склонность к жировой дифференцировке [28, 43]. Снижение экспрессии SOX9 также было отмечено [43]. Стоит подчеркнуть, что изменения в экспрессии этих генов сохранялись и после достижения пациентами ремиссии. Возможно, более серьезные изменения МСК при ОЛЛ вызваны контактом с опухолевыми клетками.
При ДВККЛ изменения экспрессии факторов, характеризующих дифференцировочный потенциал МСК, обнаружено не было.
Исследование сигнальных путей показало опосредованную связь между изменениями в экспрессии генов IL8, IL6, TGFB1, VEGFA, PDGFRB, PPARG и в секретоме.
Анализ секретома МСК больных ОЛЛ до и после лечения выявил снижение секреции белков, участвующих в регуляции иммунного ответа и везикулярном транспорте, по сравнению с донорами. Секреция везикул важна для регуляторной и трофической функций МСК [51]. Нарушение везикулярного транспорта говорит о повреждении МСК. МСК по-другому взаимодействуют и с внеклеточным матриксом, который участвует в регуляции стволовых кроветворных клеток и B-лимфопоэзе [52]. К наиболее интересным белкам, секреция которых снижена в МСК до начала лечения, относятся: ADAMTS1 – металлопротеаза, ингибирующая ангиогенез и связанная с VCAM1 (чья секреция также снижена) [53]; CTGF – фактор роста соединительной ткани, играющий важную роль при некоторых формах рака, фиброзных заболеваниях и во многих биологических процессах, включая клеточную адгезию, миграцию, пролиферацию, ангиогенез [54]; CSF1 – фактор роста макрофагов, воздействующий на макрофаги и моноциты и стимулирующий повышение фагоцитарной и хемотаксической активности, а также цитотоксичности в отношении опухолевых клеток [55]. Факторы, повышено секретируемые МСК пациентов с ОЛЛ до лечения, по сравнению с донорскими, регулируют миграцию клеток и связанную с ней перестройку актинового цитоскелета. Они могут привлекать в костный мозг как иммунные клетки, так и циркулирующие опухолевые клетки.
Наличие опухоли в организме, как правило, связано с хроническим воспалением [21, 22]. Наши наблюдения согласуются с этой гипотезой. По достижению ремиссии МСК снижают секрецию факторов, участвующих в ответе на провоспалительные цитокины, такие как IL-1, TNF, и других факторов, сопровождающие иммунный ответ (рис. 5, в). Некоторые из этих факторов были понижены до начала лечения и повышались при достижении ремиссии (рис. 5, г). Отмечаются сигнальные пути, имеющие компоненты, секреция которых изменяется разнонаправленно по достижению ремиссии.
В ремиссии понижено секретируются: субъединица комплемента С3; белки, связывающие инсулиноподобный фактор роста – IGFBP1, IGFBP3, регулирующий рост клеток, и IGFBP6, регулирующий рост и иммунный ответ дендритных клеток [56]; LGALS1 или галектин-1 – белок, ингибирующий клеточную пролиферацию и участвующий в иммуносупрессии CD8+ T-клеток [57]; ENO1 – гликолитический фермент, имеющий функции опухолевого супрессора и важный для хеморезистентности при лимфомах [58]; ANXA1, аннексин A1, ингибирует клетки врожденного иммунитета и способствует активации Т-клеток. Активация Т-клеток приводит к высвобождению аннексина А1 и экспрессии его рецептора. Этот путь, по-видимому, точно регулирует силу передачи сигналов Т-клеточного рецептора (TCR). Повышенная экспрессия аннексина А1 при патологических состояниях может усиливать передачу сигналов TCR через сигнальный путь митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK), тем самым вызывая гиперактивацию Т-клеток [59]. Понятно, что при снижении секреции перечисленных белков опухоль легче уходит от иммунного надзора, частично обеспечивающегося МСК. Можно заключить, что в МСК больных ОЛЛ происходит комплекс изменений, способствующих ускользанию опухолевых клеток от иммунного надзора.
МСК больных ДВККЛ, вошедших в исследование, иммунологически активированы, несмотря на то что костный мозг не был непосредственно вовлечен в опухолевый процесс. На это указывает повышение секреции белков сигнальных путей, обеспечивающих иммунный ответ, в том числе презентацию антигенов главным комплексом гистосовместимости и реакцию на провоспалительные цитокины. После лечения снижается секреция белков, относящихся к воспалительным процессам.
При дебюте и ремиссии в секретоме МСК ДВККЛ, по сравнению с донорами, снижено количество APO, ACAN, S100A9 и LTBP4.
При достижении ремиссии снижается еще и секреция PDGFA, CFHR1, C4BPA, CRP.
ACAN, или аггрекан, имеет решающее значение в морфогенезе хрящевого скелета во время развития и экспрессируется хондроцитами [60]. Отсутствие экспрессии этого белка может быть связано с нарушениями хрящевой и костной дифференцировок у МСК пациентов с ДВККЛ. Кроме того, аггрекан может участвовать в презентации антигенов, как это показано для хондроцитов при воспалении [61].
Белок S100A9 – это кальций-связывающий белок A9, также известный как белок 14, связанный с фактором, ингибирующим миграцию (MRP14). Известно, что внутриклеточный S100A9 снижает способность нейтрофилов отвечать на бактериальные патогены [62].
Снижение белка LTBP4 – ключевого регулятора трансформирующего фактора роста бета, связано с функциями TGF-β. TGF-β биологически латентен после секреции. LTBP4 контролирует активацию TGF-β, поддерживая его в латентном состоянии во внеклеточном пространстве. Таким образом, LTBP4 – важный регулятор передачи сигналов TGF-β и опосредованно связан с развитием, иммунитетом, восстановлением после травм и заболеваниями, играя центральную роль в регуляции воспаления, фиброза и прогрессирования рака [63]. CFHR1, C4BPA, CRP – элементы системы комплемента, в норме секретируемые в том числе МСК и перицитами и защищающие организм от инфекций [64].
Снижение представленности всех этих белков в секретоме МСК подтверждает ухудшение их физиологических функций, связанных с кроветворением и иммунитетом, при ДВККЛ.
Повышение секреции B2M, CD59, HLA-C, PDGFRA, CSF1, SOD1, CAPG в дебюте ДВККЛ в секретоме МСК указывает на активацию МСК в костном мозге больных ДВККЛ без вовлечения опухоли. В ремиссии уровень этих белков, за исключением B2M, нормализуется, т.е. происходящие изменения частично обратимы.
Сравнение секретомов МСК больных ОЛЛ и ДВККЛ подтвердило наличие существенных функциональных изменений, по сравнению с донорами, и отличие нозологий друг от друга. МСК больных ДВККЛ не секретируют множество белков, секретируемых МСК доноров и больных ОЛЛ, в их секретоме не обнаружены такие белки, участвующие в регуляции иммунного ответа, как PDGFA, POSTN, LGALS1 (снижен в секретоме МСК при ОЛЛ) и KIT. POSTN – это секретируемый белок внеклеточного матрикса, который участвует в развитии и регенерации тканей, связывается с интегринами, поддерживая адгезию и миграцию, и играет роль в поддержании раковых стволовых клеток и метастазировании [65]. Ростовые факторы, поддерживающие стромальные клетки и стволовые кроветворные клетки, также отсутствуют в секретоме МСК больных ДВККЛ, что подтверждает нарушения в МСК костного мозга без участия непосредственного контакта с опухолевыми В-клетками.
Анализ функционального статуса МСК выявил как различия, так и сходства между дефектами, возникающими в МСК при трансформации ранних кроветворных предшественников в костном мозге (ОЛЛ) и более зрелых вне костного мозга (ДВККЛ). Основные различия могут быть связаны с участием лимфоцитов костного мозга в дифференцировке МСК [66]. При ОЛЛ изменяется предрасположенность МСК к костной и жировой дифференцировке, отмечаемая на уровне генной экспрессии и секреции белков. При ДВККЛ часть отличий от ОЛЛ имеет возрастной характер. Можно отметить разнонаправленные изменения в сигнальных путях ростовых факторов IGF и PDGF, выявленные только при ДВККЛ.
Таким образом, независимо от локализации опухоли, происходят значительные изменения в функциональном статусе МСК костного мозга, способствующие снижению противоопухолевого иммунитета при лимфоидных неоплазиях. Кроме того, при обеих патологиях МСК приобретают черты стареющих клеток, связанные с хроническим воспалением. «Старение» МСК может быть причиной неполного восстановления кроветворения у этих пациентов в течение длительного периода после достижения ремиссии.
Выявление конкретных признаков изменения стромы костного мозга указывает на возможность оценки риска рецидива [46]. Более подробное изучение метаболизма МСК пациентов позволит выявить препараты, модулирующие активные формы кислорода, связанные с воспалением и старением клеток.
Заключение
Лимфоидные неопластические образования оказывают патологическое действие на функционирование МСК костного мозга. Изменяется концентрация этих клеток в костном мозге, их способность к пролиферации, иммунофенотип, паттерн экспрессии генов, важных для дифференцировки, поддержания иммунологического статуса и экспрессии цитокинов. Функции МСК разнообразны и образуют комплекс реакций на состояние и запросы организма. Изменения в иммунологическом статусе МСК зависят от нозологии и, несмотря на принципиальные различия, в целом, способствуют оптимизации ниши для нужд опухоли и ускользанию опухолевых клеток от иммунологического надзора. Полученные данные демонстрируют важность МСК не только для поддержания нормального кроветворения на уровне СКК, но и для иммунитета, а также указывают на возможность терапевтического воздействия не только на собственно опухолевые клетки, но и на стромальное микроокружение костного мозга. Результаты работы дают основания для поиска конкретных мишеней среди сигнальных путей, активирующихся в МСК при воспалении. Лимфоидные опухоли – это не только трансформация клеток кроветворного происхождения разной степени зрелости, но и сопутствующие изменения в стромальном микроокружении.
Вклад авторов. Е.Н. Паровичникова – руководство работой с пациентами; Н.А. Петинати, Н.И. Дризе – концепция и руководство работой; Е.А. Фастова, А.У. Магомедова, А.Н. Васильева, О.А. Алешина – работа с пациентами; Н.А. Петинати, А.В. Садовская, Н.В. Сац, Н.М. Капранов, Ю.О. Давыдова – проведение экспериментов с МСК; М.А. Лагарькова – руководство анализом секретома МСК; Г.П. Арапиди, В. Шендер, И.П. Смирнов, О.В. Побегуц – исследование и анализ секретома МСК; Н.А. Петинати, А.В. Садовская, Н.И. Дризе – обсуждение результатов исследования; Н.А. Петинати, А.В. Садовская, Н.И. Дризе – написание текста статьи; М.А. Лагарькова – редактирование текста статьи.
Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 17-001-00170; образцы пациентов с ДВККЛ и доноров) и Российского научного фонда (грант № 22-15-00018; https://rscf.ru/project/22-15-00018/; образцы пациентов с ОЛЛ и доноров).
Благодарности. В работе использовали оборудование (планшет-ридер Infinite 200 («Tecan», Австрия)) центра коллективного пользования Пущинского научного центра. Благодарим Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины ФГБУ ФНКЦ ФХМ им. Ю.М. Лопухина ФМБА России за LC-MS/MS анализ.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Соблюдение этических норм. Все процедуры, выполненные в процессе исследований, соответствуют этическим стандартам национального комитета (на проведение исследования было получено разрешение этического комитета по исследовательской этике (ФГБУ НМИЦ Гематологии МЗ РФ, протокол № 171 от 27.04.2023)), Хельсинкской декларации 1964 года и ее последующим изменениям или сопоставимым нормам этики. От каждого из включенных в исследование участников было получено информированное добровольное согласие.
About the authors
N. А. Petinati
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 125167, Moscow
A. V. Sadovskaya
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation; Lomonosov Moscow State University
Email: loel@mail.ru
Department of Immunology, Faculty of Biology
Russian Federation, 125167, Moscow; 119991, MoscowN. V. Sats
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 125167, Moscow
N. M. Kapranov
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 125167, Moscow
Yu. O. Davydova
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 125167, Moscow
Е. A. Fastova
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 125167, Moscow
А. U. Magomedova
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 125167, Moscow
A. N. Vasilyeva
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 125167, Moscow
O. A. Aleshina
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 125167, Moscow
G. P. Arapidi
Federal State Budgetary Institution Lopukhin Federal Research and Clinical Center of Physical-Chemical Medicine of Federal Medical Biological Agency; Institute of Bioorganic Chemistry named after Academicians M. M. Shemyakin and Yu. A. Ovchinnikov, Russian Academy of Sciences; Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 119435, Moscow; 117997, Moscow; 141700, Dolgoprudny, Moscow Region
V. O. Shender
Federal State Budgetary Institution Lopukhin Federal Research and Clinical Center of Physical-Chemical Medicine of Federal Medical Biological Agency; Institute of Bioorganic Chemistry named after Academicians M. M. Shemyakin and Yu. A. Ovchinnikov, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 119435, Moscow; 117997, Moscow
I. P. Smirnov
Federal State Budgetary Institution Lopukhin Federal Research and Clinical Center of Physical-Chemical Medicine of Federal Medical Biological Agency
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 119435, Moscow
O. V. Pobeguts
Federal State Budgetary Institution Lopukhin Federal Research and Clinical Center of Physical-Chemical Medicine of Federal Medical Biological Agency
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 119435, Moscow
M. A. Lagarkova
Federal State Budgetary Institution Lopukhin Federal Research and Clinical Center of Physical-Chemical Medicine of Federal Medical Biological Agency
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 119435, Moscow
N. I. Drize
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 125167, Moscow
E. N. Parovichnikova
National Medical Research Center for Hematology, Ministry of Health of the Russian Federation
Email: loel@mail.ru
Russian Federation, 125167, Moscow
References
- Schürch, C.M., Caraccio, C., and Nolte, M. A. (2021) Diversity, localization, and (patho)physiology of mature lymphocyte populations in the bone marrow, Blood, 137, 3015-3026, https://doi.org/10.1182/blood.2020007592.
- Kaushansky, K., and Zhan, H. (2018) The regulation of normal and neoplastic hematopoiesis is dependent on microenvironmental cells, Adv. Biol. Regul., 69, 11-15, https://doi.org/10.1016/J.JBIOR.2018.06.003.
- Beerman, I., Luis, T.C., Singbrant, S., Lo Celso, C., and Méndez-Ferrer, S. (2017) The evolving view of the hematopoietic stem cell niche, Exp. Hematol., 50, 22-26, https://doi.org/10.1016/j.exphem.2017.01.008.
- Luca, D. C. (2021) Update on lymphoblastic leukemia/lymphoma, Clin. Lab. Med., 41, 405-416, https://doi.org/10.1016/ J.CLL.2021.04.003.
- Petinati, N. A., Bigildeev, A. E., Karpenko, D. S., Sats, N. V., Kapranov, N. M., Davydova, Y.O., Fastova, E. A., Magomedova, A. U., Kravchenko, S. K., Arapidi, G. P., Rusanova, M. I., Lagarkova, M. M., Drize, N. I., and Savchenko, V. G. (2021) Humoral effect of a B-cell tumor on the bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells, Biochemistry (Moscow), 86, 207-216, https://doi.org/10.1134/S0006297921020097.
- Zhou, X., Ramachandran, S., Mann, M., and Popkin, D. L. (2012) Role of lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) in understanding viral immunology: past, present and future, Viruses, 4, 2650-2669, https://doi.org/10.3390/v4112650.
- Schürch, C. M., Riether, C., and Ochsenbein, A. F. (2014) Cytotoxic CD8+ T cells stimulate hematopoietic progenitors by promoting cytokine release from bone marrow mesenchymal stromal cells, Cell Stem Cell, 14, 460-472, https://doi.org/10.1016/j.stem.2014.01.002.
- Demerdash, Y., Kain, B., Essers, M. A. G., and King, K. Y. (2021) Yin and Yang: the dual effects of interferons on hematopoiesism, Exp. Hematol., 96, 1-12, https://doi.org/10.1016/j.exphem.2021.02.002.
- Isringhausen, S., Mun, Y., Kovtonyuk, L., Kräutler, N. J., Suessbier, U., Gomariz, A., Spaltro, G., Helbling, P. M., Chyn Wong, H., Nagasawa, T., Manz, M. G., Oxenius, A., and Nombela-Arrieta, C. (2021) Chronic viral infections persistently alter marrow stroma and impair hematopoietic stem cell fitness, J. Exp. Med., 218, e20192070, https://doi.org/10.1084/jem.20192070.
- Fallati, A., Di Marzo, N., D’amico, G., and Dander, E. (2022) Mesenchymal stromal cells (MSCs): an ally of B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) cells in disease maintenance and progression within the bone marrow hematopoietic niche, Cancers, 14, 3303, https://doi.org/10.3390/CANCERS14143303.
- Kihira, K., Chelakkot, V. S., Kainuma, H., Okumura, Y., Tsuboya, N., Okamura, S., Kurihara, K., Iwamoto, S., Komada, Y., and Hori, H. (2020) Close interaction with bone marrow mesenchymal stromal cells induces the development of cancer stem cell-like immunophenotype in B cell precursor acute lymphoblastic leukemia cells, Int. J. Hematol., 112, 795-806, https://doi.org/10.1007/s12185-020-02981-z.
- Chiarini, F., Lonetti, A., Evangelisti, C., Buontempo, F., Orsini, E., Evangelisti, C., Cappellini, A., Neri, L. M., McCubrey, J. A., and Martelli, A. M. (2016) Advances in understanding the acute lymphoblastic leukemia bone marrow microenvironment: from biology to therapeutic targeting, Biochim. Biophys. Acta, 1863, 449-463, https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2015.08.015.
- Zhi-Gang, Z., Wei-Ming, L., Zhi-Chao, C., Yong, Y., and Ping, Z. (2008) Immunosuppressive properties of mesenchymal stem cells derived from bone marrow of patient with hematological malignant diseasesm, Leuk. Lymphoma, 49, 2187-2195, https://doi.org/10.1080/10428190802455875.
- Beltran, B. E., Quiñones, P., Morales, D., Malaga, J. M., Chavez, J. C., Sotomayor, E. M., and Castillo, J. J. (2018) Response and survival benefit with chemoimmunotherapy in Epstein-Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma, Hematol. Oncol., 36, 93-97, https://doi.org/10.1002/hon.2449.
- Swerdlow, S. H. (2017) In WHO Classification of Tumours (Swerdlow, S. H., Campo, E., Harris, N. L., Jaffe, E. S., Pileri, S. A., Stein, H., and Thiele, J., eds) Lyon, International Agency for Research on Cancer, Lyon, pp. 199-215.
- Fastova, E. A., Magomedova, A. U., Petinati, N. A., Sats, N. V., Kapranov, N. M., Davydova, Y. O., Drize, N. I., Kravchenko, S. K., and Savchenko, V. G. (2019) Bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells in patients with diffuse large B-Cell lymphoma, Bull. Exp. Biol. Med., 167, 150-153, https://doi.org/10.1007/s10517-019-04480-6.
- Chen, Q., Yuan, Y., and Chen, T. (2014) Morphology, differentiation and adhesion molecule expression changes of bone marrow mesenchymal stem cells from acute myeloid leukemia patients, Mol. Med. Rep., 9, 293-298, https://doi.org/10.3892/mmr.2013.1789.
- Shipounova, I. N., Petrova, T. V, Svinareva, D. A., Momotuk, K. S., Mikhailova, E. A., and Drize, N. I. (2009) Alterations in hematopoietic microenvironment in patients with aplastic anemia, Clin. Transl. Sci., 2, 67-74, https://doi.org/ 10.1111/j.1752-8062.2008.00074.x.
- Kotyza, J. (2017) Chemokines in tumor proximal fluids, Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc. Czech. Repub., 161, 41-49, https://doi.org/10.5507/bp.2016.062.
- Vilgelm, A. E., and Richmond, A. (2019) Chemokines modulate immune surveillance in tumorigenesis, metastasis, and response to immunotherapy, Front. Immunol., 10, 333, https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00333.
- Mantovani, A., Allavena, P., Sica, A., and Balkwill, F. (2008) Cancer-related inflammation, Nature, 454, 436-444, https://doi.org/10.1038/nature07205.
- Okrój, M., and Potempa, J. (2019) Complement activation as a helping hand for inflammophilic pathogens and cancer, Front. Immunol., 9, 3125, https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.03125.
- Lund, F.E. (2008) Cytokine-producing B lymphocytes-key regulators of immunity, Curr. Opin. Immunol., 20, 332-338, https://doi.org/10.1016/j.coi.2008.03.003.
- Munir, H., Ward, L. S. C., and McGettrick, H. M. (2018) Mesenchymal stem cells as endogenous regulators of inflammation, Adv. Exp. Med. Biol., 1060, 73-98, https://doi.org/10.1007/978-3-319-78127-3_5.
- Schmittgen, T. D., and Livak, K. J. (2008) Analyzing real-time PCR data by the comparative CT method, Nat. Protocols, 3, 1101-1108, https://doi.org/10.1038/nprot.2008.73.
- Praveen Kumar, Kandoi, S., Misra, R., and Verma, R. S. (2019) The mesenchymal stem cell secretome: a new paradigm towards cell-free therapeutic mode in regenerative medicine, Cytokine Growth Factor Rev., 46, 1-9, https://doi.org/10.1016/j.cytogfr.2019.04.002.
- Dominici, M., Le Blanc, K., Mueller, I., Slaper-Cortenbach, I., Marini, F., Krause, D., Deans, R., Keating, A., Prockop, D., and Horwitz, E. (2006) Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The international society for cellular therapy position statement, Cytotherapy, 8, 315-317, https://doi.org/10.1080/ 14653240600855905.
- Vanegas, N.-D. P., Ruiz-Aparicio, P. F., Uribe, G. I., Linares-Ballesteros, A., and Vernot, J.-P. (2021) Leukemia-Induced cellular senescence and stemness alterations in mesenchymal stem cells are reversible upon withdrawal of B-cell acute lymphoblastic leukemia cells, Int. J. Mol. Sci., 22, https://doi.org/10.3390/ijms22158166.
- Schroeder, T., Geyh, S., Germing, U., and Haas, R. (2016) Mesenchymal stromal cells in myeloid malignancies, Blood Res., 51, 225-232, https://doi.org/10.5045/br.2016.51.4.225.
- Passaro, D., Di Tullio, A., Abarrategi, A., Rouault-Pierre, K., Foster, K., Ariza-McNaughton, L., Montaner, B., Chakravarty, P., Bhaw, L., Diana, G., Lassailly, F., Gribben, J., and Bonnet, D. (2017) Increased vascular permeability in the bone marrow microenvironment contributes to disease progression and drug response in acute myeloid leukemia, Cancer Cell, 32, 324-341.e6, https://doi.org/10.1016/J.CCELL.2017.08.001.
- Shipounova, I. N., Petinati, N. A., Bigildeev, A. E., Drize, N. J., Sorokina, T. V, Kuzmina, L. A., Parovichnikova, E. N., and Savchenko, V. G. (2017) Alterations of the bone marrow stromal microenvironment in adult patients with acute myeloid and lymphoblastic leukemias before and after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, Leuk. Lymphoma, 58, 408-417, https://doi.org/10.1080/10428194.2016.1187277.
- Ludin, A., Gur-Cohen, S., Golan, K., Kaufmann, K. B., Itkin, T., Medaglia, C., Lu, X.-J., Ledergor, G., Kollet, O., and Lapidot, T. (2014) Reactive oxygen species regulate hematopoietic stem cell self-renewal, migration and development, as well as their bone marrow microenvironment, Antioxid. Redox Signal., 21, 1605-1619, https:// doi.org/10.1089/ars.2014.5941.
- Récher, C. (2021) Clinical implications of inflammation in acute myeloid leukemia, Front. Oncol., 11, 623952, https://doi.org/10.3389/fonc.2021.623952.
- Beavis, P. A., Stagg, J., Darcy, P. K., and Smyth, M. J. (2012) CD73: a potent suppressor of antitumor immune responses, Trends Immunol., 33, 231-237, https://doi.org/10.1016/j.it.2012.02.009.
- Jin, D., Fan, J., Wang, L., Thompson, L.F., Liu, A., Daniel, B. J., Shin, T., Curiel, T. J., and Zhang, B. (2010) CD73 on tumor cells impairs antitumor T-cell responses: a novel mechanism of tumor-induced immune suppression, Cancer Res., 70, 2245-2255, https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-09-3109.
- Petruk, N., Tuominen, S., Åkerfelt, M., Mattsson, J., Sandholm, J., Nees, M., Yegutkin, G. G., Jukkola, A., Tuomela, J., and Selander, K. S. (2021) CD73 facilitates EMT progression and promotes lung metastases in triple–negative breast cancer, Sci. Rep., 11, https://doi.org/10.1038/S41598-021-85379-Z.
- Bui, T. M., Wiesolek, H. L., and Sumagin, R. (2020) ICAM-1: a master regulator of cellular responses in inflammation, injury resolution, and tumorigenesis, J. Leukoc. Biol., 108, 787-799, https://doi.org/10.1002/JLB.2MR0220-549R.
- Ren, G., Zhao, X., Zhang, L., Zhang, J., L’Huillier, A., Ling, W., Roberts, A. I., Le, A. D., Shi, S., Shao, C., and Shi, Y. (2010) Inflammatory cytokine-induced intercellular adhesion molecule-1 and vascular cell adhesion molecule-1 in mesenchymal stem cells are critical for immunosuppression, J. Immunol., 184, 2321-2328, https://doi.org/10.4049/jimmunol.0902023.
- Russell, K.C., Phinney, D. G., Lacey, M. R., Barrilleaux, B. L., Meyertholen, K. E., and O’Connor, K. C. (2010) In vitro high-capacity assay to quantify the clonal heterogeneity in trilineage potential of mesenchymal stem cells reveals a complex hierarchy of lineage commitment, Stem Cells, 28, 788-798, https://doi.org/10.1002/stem.312.
- Schirrmacher, V. (2019) From chemotherapy to biological therapy: a review of novel concepts to reduce the side effects of systemic cancer treatment, Int. J. Oncol., 54, 407-419, https://doi.org/10.3892/ijo.2018.4661.
- Borges, L., Oliveira, V. K. P., Baik, J., Bendall, S. C., and Perlingeiro, R. C. R. (2019) Serial transplantation reveals a critical role for endoglin in hematopoietic stem cell quiescence, Blood, 133, 688-696, https://doi.org/10.1182/blood-2018-09-874677.
- Portale, F., Cricrì, G., Bresolin, S., Lupi, M., Gaspari, S., Silvestri, D., Russo, B., Marino, N., Ubezio, P., Pagni, F., Vergani, P., Te Kronnie, G., Valsecchi, M. G., Locatelli, F., Rizzari, C., Biondi, A., Dander, E., and D’Amico, G. (2019) ActivinA: a new leukemia-promoting factor conferring migratory advantage to B-cell precursor-acute lymphoblastic leukemic cells, Haematologica, 104, 533-545, https://doi.org/10.3324/haematol. 2018.188664.
- Balandrán, J.C., Purizaca, J., Enciso, J., Dozal, D., Sandoval, A., Jiménez-Hernández, E., Alemán-Lazarini, L., Perez-Koldenkova, V., Quintela-Núñez del Prado, H., Rios de los Ríos, J., Mayani, H., Ortiz-Navarrete, V., Guzman, M. L., and Pelayo, R. (2017) Pro-inflammatory-related loss of CXCL12 niche promotes acute lymphoblastic leukemic progression at the expense of normal lymphopoiesis, Front. Immunol., 7, 666, https://doi.org/10.3389/ fimmu.2016.00666.
- Desbourdes, L., Javary, J., Charbonnier, T., Ishac, N., Bourgeais, J., Iltis, A., Chomel, J.-C., Turhan, A., Guilloton, F., Tarte, K., Demattei, M.-V., Ducrocq, E., Rouleux-Bonnin, F., Gyan, E., Hérault, O., and Domenech, J. (2017) Alteration analysis of bone marrow mesenchymal stromal cells from de novo acute myeloid leukemia patients at diagnosis, Stem. Cells Dev., 26, 709-722, https://doi.org/10.1089/scd.2016.0295.
- Chandran, P., Le, Y., Li, Y., Sabloff, M., Mehic, J., Rosu-Myles, M., and Allan, D. S. (2015) Mesenchymal stromal cells from patients with acute myeloid leukemia have altered capacity to expand differentiated hematopoietic progenitors, Leuk. Res., 39, 486-493, https://doi.org/10.1016/j.leukres.2015.01.013.
- Kim, J.-A., Shim, J.-S., Lee, G.-Y., Yim, H. W., Kim, T.-M., Kim, M., Leem, S.-H., Lee, J.-W., Min, C.-K., and Oh, I.-H. (2015) Microenvironmental remodeling as a parameter and prognostic factor of heterogeneous leukemogenesis in acute myelogenous leukemia, Cancer Res., 75, 2222-2231, https://doi.org/10.1158/0008-5472. CAN-14-3379.
- Van den Berk, L. C. J., van der Veer, A., Willemse, M. E., Theeuwes, M. J. G. A., Luijendijk, M. W., Tong, W. H., van der Sluis, I. M., Pieters, R., and den Boer, M. L. (2013) Disturbed CXCR4/CXCL12 axis in pediatric precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia, Blood, 122, 2643-2643, https://doi.org/10.1182/blood.V122.21. 2643.2643.
- El-Obeid, A., Sunnuqrut, N., Hussain, A., Al-Hussein, K., Gutiérrez, M. I., and Bhatia, K. (2004) Immature B cell malignancies synthesize VEGF, VEGFR-1 (Flt-1) and VEGFR-2 (KDR), Leuk. Res., 28, 133-137, https://doi.org/10.1016/S0145-2126(03)00188-7.
- Mizia-Malarz, A., and Sobol-Milejska, G. (2017) Assessment of angiogenesis in children with acute lymphoblastic leukemia based on serum vascular endothelial growth factor assay, Indian J. Med. Paediatr. Oncol., 38, 321-325, https://doi.org/10.4103/IJMPO.IJMPO_109_17.
- Azadniv, M., Myers, J. R., McMurray, H. R., Guo, N., Rock, P., Coppage, M. L., Ashton, J., Becker, M. W., Calvi, L. M., and Liesveld, J. L. (2020) Bone marrow mesenchymal stromal cells from acute myelogenous leukemia patients demonstrate adipogenic differentiation propensity with Implications for leukemia cell support, Leukemia, 34, 391-403, https://doi.org/10.1038/s41375-019-0568-8.
- Ren, K. (2019) Exosomes in perspective: a potential surrogate for stem cell therapy, Odontology, 107, 271-284, https://doi.org/10.1007/s10266-018-0395-9.
- Morales-Hernández, A., and McKinney-Freeman, S. (2021) GABA gets blood on its hands, Blood, 137, 723-724, https://doi.org/10.1182/blood.2020008772.
- Luque, A., Carpizo, D. R., and Iruela-Arispe, M. L. (2003) ADAMTS1/METH1 inhibits endothelial cell proliferation by direct binding and sequestration of VEGF165, J. Biol. Chem., 278, 23656-23665, https://doi.org/10.1074/ JBC.M212964200.
- Hall-Glenn, F., and Lyons, K. M. (2011) Roles for CCN2 in normal physiological processes, Cell. Mol. Life Sci., 68, 3209-3217, https://doi.org/10.1007/s00018-011-0782-7.
- Nemunaitis, J. (1993) Macrophage function activating cytokines: potential clinical application, Crit. Rev. Oncol. Hematol., 14, 153-171, https://doi.org/10.1016/1040-8428(93)90022-V.
- Liso, A., Venuto, S., Coda, A. R. D., Giallongo, C., Palumbo, G. A., and Tibullo, D. (2022) IGFBP-6: at the crossroads of immunity, tissue repair and fibrosis, Int. J. Mol. Sci., 23, https://doi.org/10.3390/ijms23084358.
- Gandhi, M. K., Moll, G., Smith, C., Dua, U., Lambley, E., Ramuz, O., Gill, D., Marlton, P., Seymour, J. F., and Khanna, R. (2007) Galectin-1 mediated suppression of Epstein-Barr virus specific T-cell immunity in classic hodgkin lymphoma, Blood, 110, 1326-1329, https://doi.org/10.1182/blood-2007-01-066100.
- Zhu, X., Miao, X., Wu, Y., Li, C., Guo, Y., Liu, Y., Chen, Y., Lu, X., Wang, Y., and He, S. (2015) ENO1 promotes tumor proliferation and cell adhesion mediated drug resistance (CAM-DR) in non-Hodgkin’s lymphomas, Exp. Cell Res., 335, 216-223, https://doi.org/10.1016/J.YEXCR.2015.05.020.
- Perretti, M., and D’Acquisto, F. (2009) Annexin A1 and glucocorticoids as effectors of the resolution of inflammation, Nat. Rev. Immunol., 9, 62-70, https://doi.org/10.1038/nri2470.
- Kiani, C., Chen, L., Wu, Y. J., Yee, A. J., and Yang, B. B. (2002) Structure and function of aggrecan, Cell Res., 12, 19-32, https://doi.org/10.1038/sj.cr.7290106.
- Sengprasert, P., Leearamwat, N., Ngarmukos, S., Yuktananda, P., Tanavalee, A., and Reantragoon, R. (2022) Upregulation of antigen presentation function and inflammation in chondrocytes by induction of proteoglycan aggrecan peptides (P16-31 and P263-280), Clin. Exp. Rheumatol., 40, 596-607, https://doi.org/10.55563/clinexprheumatol/ hjzqfs.
- Monteith, A. J., Miller, J. M., Maxwell, C. N., Chazin, W. J., and Skaar, E. P. (2021) Neutrophil extracellular traps enhance macrophage killing of bacterial pathogens, Sci. Adv., 7, eabj2101, https://doi.org/10.1126/sciadv. abj2101.
- Su, C.-T., and Urban, Z. (2021) LTBP4 in health and disease, Genes, 12, 795, https://doi.org/10.3390/genes12060795.
- Xavier, S., Sahu, R. K., Landes, S. G., Yu, J., Taylor, R. P., Ayyadevara, S., Megyesi, J., Stallcup, W. B., Duffield, J. S., Reis, E. S., Lambris, J. D., and Portilla, D. (2017) Pericytes and immune cells contribute to complement activation in tubulointerstitial fibrosis, Am. J. Physiol. Renal. Physiol., 312, F516-F532, https://doi.org/10.1152/ajprenal. 00604.2016.
- Morra, L., and Moch, H. (2011) Periostin Expression and epithelial-mesenchymal transition in cancer: a review and an update, Virchows Arch., 459, 465-475, https://doi.org/10.1007/s00428-011-1151-5.
- Ding, L., and Morrison, S. J. (2013) Haematopoietic stem cells and early lymphoid progenitors occupy distinct bone marrow niches, Nature, 495, 231-235, https://doi.org/10.1038/nature11885.
Supplementary files