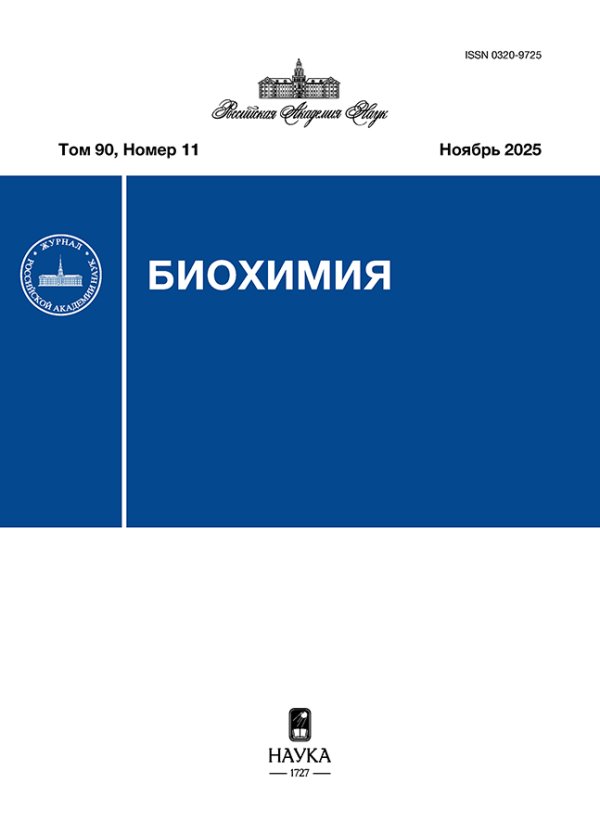Оценка антифибротических свойств вертепорфина в составе коллагенового носителя in vitro и in vivo
- Авторы: Роговая О.С.1, Аболин Д.С.1, Черкашина О.Л.1, Смыслов А.Д.1, Воротеляк Е.А.1, Калабушева Е.П.1
-
Учреждения:
- Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
- Выпуск: Том 89, № 5 (2024)
- Страницы: 929-944
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-9725/article/view/270336
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320972524050148
- EDN: https://elibrary.ru/YNQEOQ
- ID: 270336
Цитировать
Полный текст
Аннотация
При обширных повреждениях кожи возникает необходимость в специализированной терапии, стимулирующей процессы регенерации, но предотвращающей формирование рубцовой ткани. Мы исследовали in vivo и in vitro возможность комбинирования коллагенового геля в качестве агента, закрывающего раневое ложе и привлекающего фибробласты в область повреждения, и вертепорфина (ВП) как антифибротического препарата. In vitro на фибробластах, изолированных из рубцовой ткани человека, проводили оценку влияния ВП на жизнеспособность и экспрессию маркеров миофибробластов. In vivo коллагеновый гель и ВП отдельно и совместно вносили в рану и характеризовали признаки рубцевания при регенерации кожи: отклонения в толщине слоев кожи, интенсивность синтеза коллагена и морфометрические характеристики сформированных волокон внеклеточного матрикса. Результаты показали, что ВП корректирует фибротический фенотип путем подавления экспрессии сократительного белка Sm22α и не вызывает клеточную гибель. Однако при внесении ВП в рану в составе коллагенового геля он теряет способность направлять ранозаживление по бесшрамному типу, что может быть связано с несовместимостью механизмов, за счет которых коллаген и ВП влияют на регенерацию.
Ключевые слова
Полный текст
Принятые сокращения: ВП – вертепорфин; BrdU – 5-бромо-2′-дезоксиуридин; BSA – бычий сывороточный альбумин; DPBS – фосфатный солевой буфер; PFA – параформальдегид.
Введение
Заживление раны представляет собой сложный процесс, который в общих чертах подразделяется на последовательные, но отчасти перекрывающиеся четыре фазы: гемостаз, воспаление, пролиферация (клеточная инфильтрация, ангиогенез и реэпителизация) и созревание/ремоделирование [1]. На стадии воспаления активация иммунных клеток стимулирует секрецию цитокинов, которые, в свою очередь, активируют миграцию в область повреждения фибробластов, эпителиальных и эндотелиальных клеток. В ложе раны фибробласты приобретают активированный фенотип и преобразуются в миофибробласты, экспрессирующие Sm22α, – клетки, отвечающие за контракцию раны и производство основных компонентов внеклеточного матрикса, таких как фибронектин с экстра-доменом A, CD26, коллаген I и III, необходимых для заполнения дефекта соединительной ткани и формирования рубца [2–4]. Финальной фазой раневого заживления является фаза ремоделирования, которая у человека может длиться годами. На этом этапе в норме архитектура восстановленной ткани приближается к архитектуре нормальной кожи [1].
При обширных повреждениях используют специализированные агенты для стимуляции процессов регенерации. В медицинскую практику успешно входят тканевые эквиваленты, создаваемые на основе коллагенового геля [5]. Биоразлагаемость коллагена и его низкая иммуногенность делают его оптимальной основой не только для создания тканеинженерных конструкций, содержащих живые клетки, но и для самостоятельного применения в качестве раневого покрытия [6–8]. Коллаген как ключевой элемент внеклеточного матрикса влияет на все этапы раневого заживления [9–11]. Коллагеновые гидрогели частично воспроизводят свойства внеклеточного матрикса, имеют пористую структуру и сеть протофибрилл, облегчают миграцию и колонизацию клеток, способствуя ремоделированию новообразованной ткани, и способствуют заживлению ран [12]. В некоторых случаях в состав коллагеновых заменителей кожи вносят биологически-активные молекулы: факторы роста, цитокины или их аналоги, стимулирующие процесс интеграции эквивалента в поврежденный орган, процесс регенерации окружающих тканей и модулирующие иммунный ответ.
Одним из частых осложнений регенерации кожи, особенно при крупных повреждениях, требующих специализированной терапии, таких как ожоги, является формирование гипертрофических рубцов [13]. Помимо явных косметических недостатков, рубец нарушает механические взаимодействия в коже, делая ее более хрупкой и легкой на разрыв. Рубец не содержит волосяных фолликулов и сопряженных с ними сальных желез, что приводит к высыханию эпидермиса. Одним из новейших перспективных терапевтических препаратов, рассматриваемых в контексте противорубцовой терапии, является вертепорфин (ВП) [14–17].
Однократное введение ВП на ранних этапах регенерации лабораторным мышам инициировало процесс регенерации по бесшрамному типу [18]. ВП также обладает бактерицидной активностью, что благотворно сказывается на ранозаживлении [16]. Доставка в область повреждения ВП для стимуляции процессов ранозаживления была успешной при использовании носителей из фиброина [15], поливинила [17] и полилактата [14]. Мы исследовали возможность использования коллагенового геля в качестве носителя ВП для внесения его в рану, как одного из возможных средств предотвращения формирования рубцов после полного ранозаживления.
Противорубцовые свойства ВП связывают с его способностью ингибировать взаимодействие транскрипционного кофактора YAP1 и его мишеней, белков семейства TEAD. Активация сигнального каскада YAP1 происходит при ранозаживлении как в эпидермисе, так и в дерме [19]. В эпидермисе он стимулирует миграцию и пролиферацию кератиноцитов в раневом ложе. Активный ядерный YAP1 ассоциирован с пролиферацией фибробластов и повышением их контрактирующей способности, что важно при закрытии раны. На стадии ремоделирования активность этого сигнального каскада снижается. Увеличение времени активности сигнального каскада YAP1 у мыши приводит к формированию обычных или гипертрофических рубцов, в то же время его ингибирование в фибробластах на ранних этапах ранозаживления стимулирует восстановление полноценной кожи со всеми дериватами [20].
Влияние ВП на процессы рубцевания рассматривали in vitro и in vivo. В условиях культивирования мы использовали фибробласты человека, изолированные из гипертрофического кожного рубца, как аналог миофибробластов раневого ложа. Оценили влияние ВП на жизнеспособность, экспрессию сократительных маркеров и контрактирующие способности фибробластов. In vivo на лабораторных мышах исследовали эффективность внесения ВП в составе коллагенового геля для стимуляции регенерации кожи. В качестве анализируемых характеристик мы сравнили скорость закрытия раны, структуру внеклеточного матрикса и общую морфологию регенерирующей кожи.
Материалы и методы
Выделение и культивирование фибробластов дермы. Использованные в работе клеточные линии были изолированы из биоптатов кожи человека, полученных в результате реконструктивных операций в ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» с информированного согласия доноров. Работу с биоптатами кожи проводили в соответствии с протоколом, одобренным Комиссией по биоэтике института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР) (№ 51 от 09.09.2021). Биоптаты промывали раствором Хэнкса с добавлением 0,4 мг/мл гентамицина для дезинфицирования, затем механически удаляли подкожный жир и ретикулярный слой дермы таким образом, чтобы верхний слой кожи с эпидермисом был толщиной не более 2 мм. Дерму с эпидермисом нарезали полосками шириной 2–3 мм и инкубировали в 2%-ном растворе диспазы («Gibco», США) в течение 1 ч при температуре 37 °С; далее, эпидермис удаляли, дерму измельчали ножницами до гомогенной консистенции и инкубировали в 0,1%-ном растворе коллагеназы I типа («Gibco») в течение 24 ч при 37 °С. Полученную массу центрифугировали при 140 g в течение 10 мин, осадок ресуспендировали в DPBS (фосфатный солевой буфер; «ПанЭко»,Россия); процедуру повторяли 3 раза.
Для выделения фибробластов рубца биоптат очищали от прилегающих нормальных тканей, оставляя только участки с выраженной рубцовой деформацией, затем инкубировали в течение 1 ч в 2%-ном растворе диспазы при температуре 37 °С. После удаления эпидермиса дерму измельчали до гомогенной консистенции и инкубировали в 0,1%-ном растворе либеразы («Roche», США) в течение 24 ч при температуре 37 °С. Полученную массу центрифугировали при 140 g в течение 10 мин, осадок ресуспендировали в DPBS; процедуру повторяли 3 раза.
Изолированные фибробласты культивировали в среде Amniomax-II («Gibco») в атмосфере 5% СО2 при температуре 37 °С. Смену культуральной среды проводили каждые 2–3 дня. При достижении конфлуэнтности клетки пассировали 0,05%-ным раствором трипсин-ЭДТА («Capricorn», Германия) и далее культивировали в среде DMEM («ПанЭко») с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки («Capricorn»), 1% Glutamax («Cibco»), 1% пенницилина/стрептомицина («Gibco»). В работе использовали клетки 2–3 пассажей.
В работе были использованы образцы, полученные от трех доноров здоровой кожи в возрасте 42–55 лет, и образцы, полученные от трех доноров с рубцовой тканью в возрасте 33–45 лет. Клеточные линии были депонированы в Коллекции клеточных культур для биотехнологических и биомедицинских исследований (общебиологического и биомедицинского направления) ИБР РАН.
Выявление апоптоза. Для определения профиля гибели клеток фибробласты на 1, 3 и 5 сутки после обработки ВП диссоциировали, центрифугировали при 140 g в течение 5 мин, однократно промывали DPBS, после чего инкубировали в течение 15 мин в растворе аннексина V и пропидий йодида с использованием набора для обнаружения апоптоза PI-AV («BD Pharmingen™», США), согласно инструкции производителя. Для введения в анализ коэффициента компенсации использовали пробы, отдельно окрашенные аннексином V и пропидий йодидом. Проточную цитометрию проводили с использованием проточного цитометра Attune® NxT («Life Technologies», США).
Культивирование фибробластов в коллагеновом геле. Для приготовления геля на льду смешивали: 0,34 М р-р NaOH («Химмед», Россия) – 6,5%; 7,5% р-р Na2CO3 («ПанЭко») – 3,42%; 10× среда M199 («Gibco») – 9,77%; Glutamax («Gibco») – 0,39%; Hepes («ПанЭко») – 1,95% и раствор коллагена I типа – 77,97%. Раствор коллагена получали из сухожилий хвостов белых лабораторных крыс породы «стандарт» путем механического отсоединения отдельных волокон и растворения их в 0,1%-ной уксусной кислоте, конечная концентрация коллагена в растворе – 2 мкг/мл. По 400 мкл геля, содержащего клеточную суспензию в концентрации 150 × 103 клеток на мл, вносили в лунки 24-луночного планшета («Corning», США) и инкубировали при температуре 37 °С для полимеризации. Сверху геля вносили 500 мкл культуральной среды. Гель отделяли от стенок культуральной посуды, что позволяло клеткам неограниченно его сжимать.
Через сутки после формирования геля в экспериментальные лунки вносили ВП («Sigma-Aldrich»), растворенный в питательной среде в концентрации 0,1 мкг/мл, и инкубировали гель с клетками в присутствии ВП в течение 24 ч, после чего гель однократно промывали раствором Хэнкса и заливали гель обычной культуральной средой.
Количественный ПЦР-анализ. РНК выделяли с применением реактива RNAzol («Sigma-Aldrich», Германия), согласно инструкции производителя. Для удаления геномной ДНК и проведения реакции обратной транскрипции использовали набор QuantiTect Reverse Transcription Kit («Qiagen», США). На реакцию обратной транскрипции использовали 1 мкг РНК. Количественный ПЦР-анализ в реальном времени проводили с использованием набора 5× qPCRmix-HS SYBR+LowROX («Евроген», Россия) и амплификатора LightCycler96 («Roche», США). Протокол реакции: 10 мин при 95 °C, 1 цикл; далее 45 циклов, включающих 20 с при 95 °C, 20 с при 60 °C, 30 с при 72 °C. Все эксперименты были проведены в трех биологических и технических повторах. Количество продукта в каждом образце рассчитывали по методу 2–ΔΔCq и нормализовали на экспрессию GAPDH и HPRT. Данные на графиках представлены в виде среднего с разбросом в виде стандартного отклонения. Последовательности использованных в работе праймеров указаны в табл. 1.
Таблица 1. Использованные в работе праймеры
Название гена | Прямой праймер | Обратный праймер |
GAPDH | CCATGTTCGTCATGGGTGTG | GGTGCTAAGCAGTTGGTGGTG |
HPRT | ACCAGGTTATGACCTTGATT | AAGTTGGCCTAGTTTATGTT |
YAP | AGAGAATCAGTCAGAGTGCTCCA | TTCAGCCGCAGCCTCTCC |
TAZ | GGCAATGATTAAACTGGCAACA | AGTGAGCCCTTTCTAACCTGG |
CTGF | TGTGCACCGCCAAAGATG | CAGACGAACGTCCATGCTG |
CYR61 | AAGGAGGCCGTCCTGGTC | GGGCTGCATTCCTCTGTGT |
EDA-FN | CCCTAAAGGACTGGCATTCA | CATCCTCAGGGCTCGAGTAG |
CD26 | AGAAGGAGTATTCAATAAGTGGGAC | TACTCTGCTCTGTGGTGGTCT |
COL1 | AGAAAGGGGTCTCCATGGTG | AGGACCTCGGCTTCCAATAG |
COL3 | CCAGGAGCTAACGGTCTCAG | TGATCCAGGGTTTCCATCTC |
Включение метки BrdU и определение стадий клеточного цикла. Фибробласты (500 × 103 клеток) высеивали в культуральные флаконы («Corning») с площадью 25 см2. Через 1 день вносили ВП в концентрации 0,1 мкг/мл. Концентрация ВП была определена ранее (неопубликованные данные) с учетом литературных данных [18]. Через 24 ч ВП удаляли, вносили свежую культуральную среду. Далее, на 1, 3 и 5 сутки культивирования вносили метку BrdU (5-бромо-2′-дезоксиуридин; «Sigma-Aldrich») в конечной концентрации 30 мкМ и инкубировали еще 2 ч. Клетки диссоциировали, промывали DPBS и фиксировали 70%-ным раствором этанола в течение 1 ч при +4 °C. Затем центрифугировали 2 мин при 1000 g, к осадку добавляли 0,5 мл 2 М HCl («Химреактив», Россия), содержащей 0,5% Triton X-100 («MP Biomedicals», США), и инкубировали 30 мин при комнатной температуре. Далее, клетки осаждали, удаляли супернатант и ресуспендировали осадок в 0,5 мл 0,1 М тетрабората натрия («Химмед»). Инкубировали 2 мин, затем промывали однократно 150 мкл DPBS/1% BSA (бычий сывороточный альбумин; «PAA», Австрия). Далее, инкубировали с 50 мкл раствора первичных антител против BrdU, приготовленного на основе DPBS с добавлением 0,5% Tween 20 («MP Biomedicals») и 1% BSA, в течение 1 ч при комнатной температуре. Клетки промывали DPBS однократно и инкубировали в растворе вторичных антител в течение 30 мин при комнатной температуре (данные о производителях и разведении антител приведены в табл. 2). Далее, клетки осаждали и ресуспендировали осадок в 0,5 мл DPBS, содержащем 10 мкг/мл РНКазы А («Fermentas», Канада) и 20 мкг/мл раствора пропидий йодида («Sigma-Aldrich»), и инкубировали в течение 30 мин в темноте. Окрашивание проводили с надлежащими контролями вторичных антител и неокрашенными клетками. Проточную цитометрию проводили с использованием проточного цитометра Attune® NxT.
Таблица 2. Использованные в работе антитела
Антитела | Производитель, кат. номер | Разведение | Флюорофор |
Первичные IgG крысы к BrdU | Abcam, ab6326 | 1/100 | – |
Первичные IgG козы к Sm22α | Abcam, ab10135 | 1/100 | – |
Первичные IgG кролика к YAP1 | Abcam, ab52771 | 1/100 | – |
Первичные IgG кролика к YAP1 | Cell Signaling Technology, D8H1X | 1/100 | – |
Первичные IgG кролика к коллагену I + III | Имтек, RAP c13 | 1/20 | – |
Первичные IgG козы к P-кадгерину | R&D Systems, AF761 | 1/20 | – |
Первичные IgG крысы к E-кадгерину | Abcam, ab11512 | 1/20 | – |
Вторичные IgG осла против IgG кролика | Invitrogen, 32790 | 1/1000 | Alexa 488 |
Вторичные IgG осла против IgG козы | Life Technologies, A11056 | 1/1000 | Alexa 546 |
Вторичные IgG козы против IgG крысы | Life Technologies, A11081 | 1/1000 | Alexa 546 |
Иммунофлуоресцентное окрашивание коллагеновых гелей. Препараты фиксировали 4%-ным раствором параформальдегида (PFA) («Sigma-Aldrich») в течение 40 мин, далее однократно промывали DPBS и пермеабилизовали в растворе DPBS, содержащем 1% Tween 20, 1% Triton X-100, 5% BSA, в течение 1 ч при комнатной температуре. Далее, вносили раствор первичных антител в соответствующих концентрациях (табл. 2) и инкубировали в течение 12 ч при температуре +4 °C. Далее, образцы промывали пермеабилизирующим раствором в течение 2 ч, после чего вносили соответствующие вторичные антитела, конъюгированные с флюорофорами (табл. 2), и инкубировали в течение 12 ч при температуре +4 °C. Ядра окрашивали DAPI («Biotium», США) в концентрации 1 мкг/мл. Фотосъемку и исследования препаратов проводили на флуоресцентном микроскопе Olympus IX 73 («Olympus», Япония).
Хирургические операции. В работе использовали 24 самца мышей линии C57Bl6 в возрасте 8 недель. Все манипуляции с животными проводили под общей анестезией в соответствии с Международными руководящими принципами биомедицинских исследований с участием животных [21]; строго соблюдались этические принципы Европейской конвенции по защите позвоночных, используемых в экспериментальных и других конкретных целях [22]. Животных содержали со свободным доступом к пище и воде.
Мыши были разделены на следующие группы: «Контроль» (n = 6), «ВП» (n = 6), «Гель» (n = 6) и «Гель + ВП» (n = 6). Животных наркотизировали изофлураном («ВетФарм», Россия). Между лопаток шерсть удаляли, операционное поле дезинфицировали 70%-ным спиртом. В область операции инъецировали раствор кетопрофена 50 мг/мл («Эллара», Россия). В коже вырезали круглое полнослойное отверстие диаметром 5 мм. Для предотвращения быстрой контракции ран выполняли наложение силиконовой шины в форме кольца, соответствующего размеру раны, подклеивали шину клеем БФ-6 («Тульская Фармацевтическая фабрика», Россия) и закрепляли по периметру, делая 8 хирургических швов нерассасывающейся нитью («Resolon», Германия). Рану промывали, в экспериментальных группах вносили в раны 250 мкл коллагенового геля (группа «Гель»), 100 мкл раствора ВП с концентрацией 1 мг/мл в PBS (группа «ВП») и 250 мкл коллагенового геля с ВП (группа «Гель + ВП» из расчета 100 мкг ВП на мышь). В группе «Контроль» в рану капали 100 мкл раствора PBS с добавлением DMSO (разведение 1/1). Сверху на рану накладывали пластырь Tagaderm film («3М», Германия) и закрепляли все лейкопластырем («Omniplast», Германия).
Коллагеновый гель для внесения в рану готовили, как и для культивирования фибробластов. Гель вносили в лунки 48-луночного планшета («Corning») по 250 мкл и инкубировали при температуре 37 °С для полимеризации.
Состояние ран у животных проверяли через день, при необходимости шинирующее кольцо дополнительно подшивали. Фотографирование ран проводили один раз в 7 дней.
Через 3 дня в раны мышей повторно вносили все вышеперечисленные агенты. На 21 день животные были выведены из эксперимента, у всех была взята некропсия на всю толщину кожи из области раны диаметром 7–8 мм.
Подготовка биопсий ран и гистологическое окрашивание. Биопсии ран заключали в среду Tissue-Tek («Sakura», Япония) и формировали криоблоки, инкубируя образцы сначала в парах азота, затем – погружая в жидкий азот несколько раз по 3–5 с до полной заморозки; хранили при –70 °C. Криосрезы толщиной 8 мкм получали на криостате Leica CM1950 («Leica», Германия).
Срезы фиксировали в 4%-ном PFA, окрашивали гематоксилин-эозином («BioVitrum», Россия), согласно инструкции производителя, и заключали в среду Bio Mount («BioOptica», Италия). Съемку окрашенных препаратов проводили на микроскопе Keyence BZ-9000 («Keyence», Япония).
Для иммунофлуоресцентного анализа срезы фиксировали в 4%-ном PFA, инкубировали с раствором первичных антител с добавлением 5% BSA, 1% Triton Х-100, 1% Tween 20 в течение 18 ч, промывали от первичных антител в DPBS и инкубировали с раствором вторичных антител в течение 1,5 ч. Съемку проводили на микроскопе Leica Thunder («Leica»). Cписок использованных антител и концентрации приведены в табл. 2.
Анализ архитектуры коллагеновых волокон. Архитектуру коллагеновых волокон анализировали на срезах, окрашенных гематоксилин-эозином. Дерму в области раны фотографировали на увеличении 40×, полученные фотографии анализировали при помощи алгоритмов CurveAlign и CT-FIRE [23, 24].
Алгоритм CurveAlign анализирует степень выравнивания коллагеновых волокон на изображении и конструирует тепловую карту выравнивания волокон; CT-FIRE использует курвлет-преобразование для подавления шума в изображении и определения границ коллагеновых волокон, а затем извлекает и анализирует индивидуальные параметры каждого коллагенового волокна (длина, ширина, прямизна, угол) [23, 24]. Полученные данные статистически обрабатывали.
Статистический анализ. Статистическую обработку данных проводили в программе GraphPad Prism 9. Перед выбором статистического критерия выборку проверяли на нормальность (критерий Шапиро–Уилка, тест Колмогорова–Смирнова, обобщенный тест Д’Агостино–Пирсона, критерий Андерсона–Дарлинга). В случае соответствия распределения данных в выборке нормальному наличие отличий между группами выявляли при помощи однофакторного дисперсионного анализа с поправкой Тьюки на множественные сравнения или, при необходимости, двухфакторным дисперсионным анализом, дополненным тестом Шидака для парных сравнений. При отклонении гипотезы о нормальности распределения наличие отличий между группами выявляли при помощи критерия Краскелла–Уоллиса с поправкой Данна на множественные сравнения. При анализе данных определяли наличие выбросов при помощи Q-критерия Диксона.
Данные, полученные при помощи алгоритмов анализа архитектуры коллагеновых волокон, обрабатывали в программе OriginPro 2022. На основе результатов, полученных с использованием этих алгоритмов, был выполнен анализ главных компонент. На графиках изображена 95%-ная доверительная область для каждой группы данных. Для определения наличия сходных групп данных проводили кластерный анализ методом k-средних.
Результаты исследования
Влияние ВП на жизнеспособность нормальных и рубцовых фибробластов. На первом этапе работы мы оценили влияние ВП на жизнеспособность нормальных и рубцовых фибробластов кожи человека. Для этого клеточную культуру обрабатывали раствором ВП в течение 24 ч, далее, оценивали количество живых и гибнущих клеток при помощи окрашивания пропидий йодидом и аннексином V на 1, 3 и 5 сутки (рис. 1, а и б). Живые клетки определяли по отсутствию окрашивания пропидий иодидом и аннексином V. Уровень пролиферации оценивали путем подсчета количества клеток, включивших метку BrdU (рис. 1, в).
Рис. 1. Оценка гибели и пролиферации разных типов фибробластов (норма и рубец) под воздействием ВП. а – Доля живых клеток после обработки ВП. б – Доля гибнущих клеток после обработки ВП. в – Количество пролиферирующих клеток. Данные на графиках представлены в виде среднего с разбросом в виде стандартного отклонения. Статистически значимые отличия: ** p ≤ 0,01 и **** p ≤ 0,0001
Мы не обнаружили статистически значимых изменений количества живых/гибнущих клеток после воздействия. Однако ВП значительно снижал пролиферацию как в нормальных, так и в рубцовых фибробластах через 1 день после обработки. Через 3 дня после обработки уровень пролиферации между контрольными (норма, рубец) и экспериментальными (норма + ВП, рубец + ВП) группами отличался не настолько значимо, хотя наблюдалась тенденция к снижению. На пятый день у фибробластов рубца наблюдалась тенденция к повышению уровня пролиферации в группе «ВП» по сравнению с контрольной. Интересно отметить, что пролиферация снижается в группах без воздействия ВП от 1 до 5 дня. Это связано с контактным ингибированием по мере достижения клеточной культурой конфлуэнтного монослоя. Поскольку анализ не выявил отличий в гибели клеток, но определил изменения в пролиферации, мы провели анализ клеточного цикла (рис. 2).
Рис. 2. Анализ клеточного цикла нормальных (норма) и рубцовых (рубец) фибробластов после воздействия ВП. Данные на графиках представлены в виде среднего с разбросом в виде стандартного отклонения
Статистически значимых изменений в распределении клеток по стадиям цикла после воздействия ВП выявлено не было. Тем не менее данная диаграмма позволяет сделать предположение, что снижение пролиферации происходит из-за задержки в фазе G1.
Влияние ВП на поведение дермальных фибробластов в коллагеновом геле. Фибробласты, помещенные в коллагеновый гель, в течение суток вытягиваются в толще геля, образуя контакты с фибриллами коллагена, и уже через сутки культивирования приобретают вытянутый фенотип, характерный для этого типа клеток в норме в структуре соединительной ткани. В это же время фибробласты начинают активно контрактировать гель. Инкубирование в присутствии 0,1 мкг/мл ВП проводили в течение 24 ч в половине приготовленных гелей, в качестве контроля использовали культуральную среду с добавлением ДМСО. Оценку размера геля проводили на 3, 5 и 7 сутки после воздействия (рис. 3, а). Результаты анализа показали, что ВП значительно снижает степень контракции коллагенового геля в обеих исследуемых типах фибробластов. Фибробласты рубца сохранили свои фибротические свойства при культивировании и контрактировали гель в большей степени в сравнении с нормальными фибробластами. Анализируемые гели визуально содержали равное количество клеток, следовательно, интенсивность контракции определялась характеристиками фибробластов.
Рис. 3. Влияние воздействия ВП на контрактирующие способности и фенотип разных типов фибробластов (норма и рубец) в коллагеновом геле. а – Динамика контракции коллагеновых гелей. б – Иммунофлуоресцентное выявление Sm22α (зеленое окрашивание) и YAP1 (красное окрашивание). На вставках крупно показаны клетки с цитоплазматической локализацией YAP1. Ядра докрашены DAPI. Конфокальная микроскопия. Масштабный отрезок – 100 мкм
Исследовали иммунофлуоресцентным методом экспрессию Sm22α, одного из характерных маркеров миофибробластов, обеспечивающего их контрактирующие способности [25–27]. Также оценили экспрессию элементов сигнального пути YAP1, поскольку ВП является ингибитором этого каскада [28, 29] (рис. 3).
Рубцовые фибробласты содержали большую долю клеток, положительных по Sm22α, особенно это отличие становилось выраженным на 5 сутки. ВП значительно снижал экспрессию Sm22α в обеих исследуемых группах. Экспрессия YAP1 после воздействия ВП также снижалась на 3 и 5 сутки. На 3 сутки в культурах, обработанных ВП, были обнаружены клетки, не содержащие ядерной формы YAP1. На 5 сутки все культуры снова содержали клетки с ядерной активной формой YAP1 (рис. 3, б).
Экспрессию маркеров миофибробластов, белков внеклеточного матрикса: коллагенов I и III типов (COL1, COL3) и фибронектина, содержащего экстра-домен А (EDA-FN), а также CD26, оценивали на 5 сутки после воздействия ВП на фибробласты в коллагеновом геле (рис. 4). На этом же сроке были исследованы YAP1 и его паралог TAZ, поскольку повышение их экспрессии происходит в ходе регенерации кожи и при формировании гипертрофических рубцов, и их типичные мишени CTGF и CYR61. Анализ данных, полученных методом ПЦР в реальном времени, не выявил статистически значимых отличий в группах фибробластов, подвергавшихся воздействию ВП. Однако разница между фибробластами нормальной кожи и фибробластами рубца была статистически значимой (рис. 4).
Рис. 4. Количественный ПЦР-анализ фибротических маркеров, экспрессируемых фибробластами разных типов (норма и рубец) в коллагеновом геле на 5 сутки после воздействия ВП. Графики представлены в виде среднего с разбросом в виде стандартного отклонения. Результаты нормировали на уровень экспрессии GAPDH. Статистически значимое отличие рубца от нормы: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. Статистически значимое отличие от группы «Норма + ВП»: # p < 0,05; ## p < 0,01
Влияние ВП на морфологию кожи в ходе посттравматической регенерации. ВП вносили мышам после создания шинированной раны в составе коллагенового геля или в растворе на ранних этапах ранозаживления. Протокол был основан на ранее опубликованных работах, в которых описано однократное внесение ВП в область раны [17, 18, 20]. Раны фотографировали один раз в 7 дней для оценки скорости их закрытия (рис. 5, а).
Рис. 5. Анализ динамики ранозаживления на основании морфометрических параметров. а – Внешний вид раны в разных группах на 0, 7, 14 и 22 послеоперационный день; б – динамика закрытия ран в течение 22 дней эксперимента; в – скорость закрытия раны за первую неделю. *** p < 0,001 относительно контрольной группы; ### p < 0,001 относительно группы «ВП». г – Измерение толщины эпидермиса в области раны. д – Измерение толщины дермы в области раны, * p < 0,05. Данные на графиках представлены в виде среднего с разбросом в виде стандартного отклонения
Большая часть ран полностью закрылась на 14 день. На 22 послеоперационный день зажившая область была уже визуально неотличима от нормальной кожи (рис. 5, а и б). Наиболее выраженные отличия в скорости закрытия ран наблюдали на седьмой день после операции. Раны, заживающие в присутствии коллагенового геля (группы «Гель» и «Гель + ВП»), в течение первой недели закрывались медленнее по сравнению с группами без геля («Контроль» и «ВП») (рис. 5, в). При этом не было выявлено отличий в скорости заживления раны в присутствии ВП («Гель + ВП» и «ВП») от соответствующей группы мышей без ВП («Гель» и «Контроль») (рис. 5, б и в).
При гистологическом исследовании криосрезов кожи обнаружили уменьшение толщины дермы (рис. 5, д) в группе «ВП». Толщина эпидермиса (рис. 5, г) в области раны при этом не различается между группами.
Иммунофлуоресцентный анализ выявил уменьшение содержания коллагенов I + III в группе «ВП» (рис. 6). Несмотря на свойство ВП ингибировать сигнальный каскад YAP1 [28, 29], активная ядерная форма этого белка была выявлена в одинаковой степени во всех образцах в дерме, а также в части клеток базального слоя эпидермиса независимо от присутствия ВП.
Рис. 6. Иммунофлуоресцентное выявление маркеров раневого заживления: коллагенов I + III, P-кадгерина, E-кадгерина, YAP на срезах кожных ран мышей на 22 послеоперационный день в разных группах. Флуоресцентная микроскопия. Масштабный отрезок – 100 мкм
Для анализа состояния регенерирующей дермы на 22 послеоперационный день проводили анализ коллагеновых волокон в гистологических препаратах кожных ран при помощи алгоритмов CT-FIRE и CurveAlign (рис. 7, а). Увеличение длины, ширины и выпрямленности индивидуальных волокон, а также степени выравнивания коллагеновых волокон друг относительно друга свойственно коже с выраженным фиброзом и говорит о замедлении процесса ремоделирования. Значительное отклонение от контрольной группы характеризует ход регенерации кожи как патологический.
Рис. 7. Цифровой анализ коллагеновых волокон на гистологических препаратах кожных ран мышей на 22 послеоперационный день. а – Визуализация этапов анализа структуры коллагеновых волокон на гистологических препаратах с использованием тепловых карт, построенных при помощи алгоритмов CT-FIRE и CurveAlign. б – Анализ главных компонент на основе данных CT-FIRE и CurveAlign для групп «Контроль» и «ВП». в – Направления исходных осей координат в пространстве главных компонент. г – Анализ главных компонент на основе данных CT-FIRE и CurveAlign для групп «Гель» и «Гель + ВП». д – Направления исходных осей координат в пространстве главных компонент. е – Анализ главных компонент на основе данных CT-FIRE и CurveAlign для всех экспериментальных групп. ж – Направления исходных осей координат в пространстве главных компонент
Данные, полученные при помощи CurveAlign и CT-FIRE, обрабатывали с использованием анализа главных компонент для уменьшения размерности. Значительных различий в морфологии коллагена между группами «Контроль» и «ВП» после оценки всех параметров выявлено не было (рис. 7, б и в). Как среди образцов группы «Контроль», так и среди образцов из группы «ВП» присутствовали более выпрямленные длинные волокна, которые могут быть характерны для фиброзной стадии нормального раневого заживления [30]. Такие образцы с более выраженным фибротическим фенотипом формировали отдельный кластер (рис. 7, б; Кластер 1).
При внесении ВП в составе коллагенового геля (группа «Гель + ВП») наблюдали увеличение ширины, длины, выпрямленности и степени выравнивания коллагеновых волокон по сравнению с ранами, куда вносили просто коллагеновый гель (группа «Гель»; рис. 7, г и д).
При совмещении четырех групп в общем пространстве главных компонент (рис. 7, е и ж) группы «Контроль», «ВП» и «Гель» практически не разделяются, при этом группа «Гель + ВП» наиболее отклоняется от остальных. Большая часть наблюдений из группы «Гель + ВП» попадает в отдельный кластер (рис. 7, е; Кластер 1). Коллагеновые волокна из этого кластера характеризуются большей длиной, шириной, выпрямленностью и степенью выравнивания, что может свидетельствовать о большей степени фибротических изменений в дерме.
Обсуждение результатов
В ходе работы оценили потенциальное влияние ВП в составе коллагенового геля на механизмы посттравматической регенерации кожи.
Сохранение рубцовыми фибробластами фибротических свойств при культивировании подтверждается иммуногистохимическим окрашиванием (рис. 3, б) и количественным ПЦР-анализом (рис. 4), которые указывают на значительно более высокую экспрессию маркеров миофибробластов в сравнении с контрольной группой. Механизм действия ВП в ране мыши связывают с элиминированием миофибробластов, положительных по Engrailed 1 и CD26, из области повреждения посредством ингибирования сигнального каскада YAP/TAZ [18, 20, 29]. In vitro мы показали, что ВП не вызывает гибель клеток, в том числе изолированных из рубца и имеющих выраженный фибротический фенотип. ВП снижает пролиферацию в первые сутки, после чего ее уровень восстанавливается до контрольных значений (рис. 1), следовательно, воздействие ВП приводит к исчезновению миофибробластов не в результате их гибели, а путем смены профиля экспрессии фибротических маркеров на типичные для кожи в нормальном состоянии.
ВП значительно снижает контрактирующие свойства фибробластов (рис. 3, а). Это сопряжено с уменьшением доли клеток, положительных по экспрессии сократительного белка Sm22α, уже на 3 сутки после воздействия ВП (рис. 3, б).
Именно на этом сроке мы обнаружили клетки, не содержащие активной ядерной формы белка YAP1. На 5 день мы проанализировали профиль экспрессии специализированных маркеров миофибробластов методом количественного ПЦР-анализа (рис. 4). К данному сроку мы не наблюдали статистически значимых отличий между группами с воздействием и без воздействия ВП по экспрессии как белков внеклеточного матрикса, так и других фибротических маркеров, CD26 и белков YAP/TAZ. Восстанавливалась активность сигнального каскада YAP1, о чем свидетельствует отсутствие отличий в экспрессии его типичных мишеней CTGF и CYR61. Таким образом, ВП оказывал наиболее выраженное влияние на фибробласты дермы в культуре именно на ранних сроках, подавляя экспрессию сократительных белков, что приводило к снижению контракции до 7 суток, тем самым пролонгируя его антифибротическое действие.
Ранозаживление у мышей значительно отличается от процессов, протекающих у человека [31]. В коже мыши более выражена контракция, за счет которой даже обширные раны смыкаются за считанные дни. Мы использовали модель шинированной раны для предотвращения контракции, что сближает процесс регенерации кожи мыши с аналогичным у человека [32]. ВП вносили в рану самостоятельно и в коллагеновом геле. Оценивали состояние регенерирующей кожи на 22 день на стадии ремоделирования для детальной характеристики процесса.
На ранних этапах коллагеновый гель замедлял процесс закрытия раны, однако с 14 суток область повреждения сокращалась с одинаковой интенсивностью независимо от принадлежности к определенной группе (рис. 5). В дерме и эпидермисе на 22 сутки был выявлен ядерный YAP1, что указывает на восстановление активности его сигнального каскада (рис. 6). Добавление ВП и коллагенового геля отдельно и совместно не приводило к изменению большинства морфологических параметров кожи, однако ВП, вносимый в рану отдельно, снижал толщину дермы регенерирующей кожи (рис. 5) и интенсивность экспрессии в ней коллагена I и III типов (рис. 6), что указывает на его противорубцовое воздействие [33]. Для оценки проявления фибротических признаков в ходе регенерации кожи мы использовали современные протоколы компьютерного анализа морфометрических параметров сформированных волокон внеклеточного матрикса [23, 24]. Внесение ВП в составе коллагенового геля (группа «Гель + ВП») приводило к формированию волокон с большей длиной, шириной, выпрямленностью (рис. 7, б и в). Формирование подобных волокон свидетельствует о приобретении фибротической направленности у процесса ранозаживления [34]. При этом в группах «ВП» и «Гель» не наблюдалось статистически значимых отличий от группы «Контроль» при рассмотрении комплекса признаков, характеризующих морфологию коллагеновых волокон. Хотя ВП и коллагеновый гель не меняют морфологию коллагеновых волокон, важно, что их применение не приводит к активации фиброза. Таким образом, несмотря на положительный эффект от добавления ВП, его сочетание с коллагеновым гелем патологически сказывалось на процессах регенерации. В отличие от проведенной нами работы, успешного внесения ВП в составе специализированных носителей добивались, только если носители представляли собой не единый пласт, закрывающий область раны, а микрочастицы, содержащие ВП [12, 14, 15]. Наш результат может быть обусловлен разными механизмами, за счет которых коллагеновый гель и ВП влияют на ранозаживление. ВП модулирует поведение фибробластов, препятствуя контракции коллагенового геля (рис. 3, а) и уменьшая экспрессию фибротических маркеров (рис. 4). Коллагеновый гель, в свою очередь, стимулирует более интенсивное формирование грануляционной ткани, за счет чего ускоряется процесс регенерации [35, 36]. Вероятно, ВП ингибировал формирование пула миофибробластов, что при добавлении коллагена замедлило стадию пролиферации и ремоделирования и стало причиной наблюдаемых фибротических проявлений.
Заключение
Разработка тканеинженерных конструкций, стимулирующих процессы ранозаживления, но не приводящих к появлению рубцов, актуальна для пациентов с ожоговыми поражениями кожи, а также при других патологиях. ВП является одним из наиболее перспективных противофибротических препаратов, поэтому рассматривается возможность добавления его в состав терапевтических средств, стимулирующих процессы регенерации [18, 20, 29]. Коллагеновые гели также применяются для закрытия кожных ран [6–8]. В нашем исследовании при комбинировании коллагенового геля и ВП фибротические проявления в ране усиливались. Таким образом, исследованный нами вариант внесения ВП в область раны не позволяет ускорить регенерацию, а значит, возможные носители ВП для терапии ранозаживения требуют дальнейшего изучения. Применение конструкций, содержащих дермальные фибробласты и эпидермальные кератиноциты, стимулировало процессы регенерации кожи более эффективно в сравнении с применением только носителя [37], поэтому добавление клеточного компонента позволило бы оптимизировать свойства геля, сохранив регенеративный потенциал. Как показали проведенные нами исследования in vitro, ВП не вызывал клеточную гибель, но предотвращал фибротические изменения в клеточном компоненте в составе коллагенового геля. Следовательно, дермальные фибробласты в составе носителей после воздействия ВП могут сохранять нормальный фенотип и после трансплантации в область повреждения. Эту возможность стоит проанализировать в будущих исследованиях, как и оптимизацию состава специализированного носителя.
Вклад авторов. О.С. Роговая, Д.С. Аболин, Е.П. Калабушева отвечали за проведение экспериментов in vitro; А.Д. Смыслов – постановка количественного ПЦР-анализа; О.С. Роговая, Д.С. Аболин, О.Л. Черкашина, Е.П. Калабушева – проведение экспериментов на лабораторных животных; О.Л. Черкашина – биоинформатический анализ распределения волокон внеклеточного матрикса в области повреждения; О.С. Роговая, Е.А. Воротеляк, Е.П. Калабушева – разработка дизайна исследования; О.С. Роговая, О.Л. Черкашина, Е.П. Калабушева – подготовка текста статьи; Е.А. Воротеляк – редактирование текста.
Финансирование Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-74-30015). Ссылка на информацию о проекте: https://rscf.ru/en/project/21-74-30015/.
Благодарности. Использованные в работе клеточные линии были предоставлены УНУ «Коллекция клеточных культур» ЦКП ИБР РАН. Работа была выполнена с использованием оборудования ЦКП ИБР РАН.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Соблюдение этических норм. Настоящая статья содержит описание исследований влияния ВП на процессы посттравматической регенерации кожи с использованием лабораторных мышей в качестве объектов. Все процедуры, выполненные в исследованиях с использованием животных, соответствовали этическим стандартам ИБР РАН (протокол № 74 от 14.09.23), в котором проводились исследования, и в соответствии с Международными руководящими принципами биомедицинских исследований с участием животных [21]; строго соблюдались этические принципы Европейской конвенции по защите позвоночных, используемых в экспериментальных и других конкретных целях [22]. Настоящая статья содержит описание экспериментов, выполненных на первичных линиях фибробластов, полученных из биоптатов кожи, оставшихся в качестве биоотходов в результате реконструктивных операций и использованных для выделения клеток с информированного согласия доноров в соответствии с протоколом, одобренным Комиссией по биоэтике ИБР (протокол № 51 от 09.09.2021).
Об авторах
О. С. Роговая
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: rogovaya26f@yandex.ru
Россия, 119334, Москва
Д. С. Аболин
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Email: rogovaya26f@yandex.ru
Россия, 119334, Москва
О. Л. Черкашина
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Email: rogovaya26f@yandex.ru
Россия, 119334, Москва
А. Д. Смыслов
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Email: rogovaya26f@yandex.ru
Россия, 119334, Москва
Е. А. Воротеляк
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Email: rogovaya26f@yandex.ru
Россия, 119334, Москва
Е. П. Калабушева
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Email: rogovaya26f@yandex.ru
Россия, 119334, Москва
Список литературы
- Cañedo-Dorantes, L., and Cañedo-Ayala, M. (2019) Skin acute wound healing: a comprehensive review, Int. J. Inflamm., 3706315, https://doi.org/10.1155/2019/3706315.
- Xue, M., and Jackson, C. J. (2015) Extracellular matrix reorganization during wound healing and its impact on abnormal scarring, Adv. Wound Care, 4, 119-136, https://doi.org/10.1089/wound.2013.0485.
- Karppinen, S.-M., Heljasvaara, R., Gullberg, D., Tasanen, K., and Pihlajaniemi, T. (2019) Toward understanding scarless skin wound healing and pathological scarring, F1000Res., 8, 787, https://doi.org/10.12688/f1000research.18293.1.
- Tomasek, J. J., Gabbiani, G., Hinz, B., Chaponnier, C., and Brown, R. A. (2002) Myofibroblasts and mechano-regulation of connective tissue remodelling, Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 3, 349-363, https://doi.org/10.1038/nrm809.
- Eudy, M., Eudy, C. L., and Roy, S. (2021) Apligraf as an alternative to skin grafting in the pediatric population, Cureus, 13, e16226, https://doi.org/10.7759/cureus.16226.
- Dibbs, R. P., Depani, M., and Thornton, J. F. (2022) Technical refinements with the use of biologic healing agents, Semin. Plast. Surg., 36, 008-016, https://doi.org/10.1055/s-0042-1742749.
- El Masry, M. S., Chaffee, S., Das Ghatak, P., Mathew-Steiner, S. S., Das, A., Higuita-Castro, N., Roy, S., Anani, R. A., and Sen, C. K. (2019) Stabilized collagen matrix dressing improves wound macrophage function and epithelialization, FASEB J., 33, 2144-2155, https://doi.org/10.1096/fj.201800352R.
- Parenteau-Bareil, R., Gauvin, R., and Berthod, F. (2010) Collagen-based biomaterials for tissue engineering applications, Materials, 3, 1863-1887, https://doi.org/10.3390/ma3031863.
- Mouw, J. K., Ou, G., and Weaver, V. M. (2014) Extracellular matrix assembly: a multiscale deconstruction, Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 15, 771-785, https://doi.org/10.1038/nrm3902.
- Hynes, R. O. (2014) Stretching the boundaries of extracellular matrix research, Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 15, 761-763, https://doi.org/10.1038/nrm3908.
- Mathew-Steiner, S. S., Roy, S., and Sen, C. K. (2021) Collagen in wound healing, Bioengineering, 8, 63, https://doi.org/10.3390/bioengineering8050063.
- Zhang, Y., Wang, Y., Li, Y., Yang, Y., Jin, M., Lin, X., Zhuang, Z., Guo, K., Zhang, T., and Tan, W. (2023) Application of collagen-based hydrogel in skin wound healing, Gels, 9, 185, https://doi.org/10.3390/gels9030185.
- Potter, D. A., Veitch, D., and Johnston, G. A. (2019) Scarring and wound healing, Br. J. Hosp. Med. Lond. Engl., 80, C166-C171, https://doi.org/10.12968/hmed.2019.80.11.C166.
- Chen, K., Liu, Y., Liu, X., Guo, Y., Liu, J., Ding, J., Zhang, Z., Ni, X., and Chen, Y. (2023) Hyaluronic acid-modified and verteporfin-loaded polylactic acid nanogels promote scarless wound healing by accelerating wound re-epithelialization and controlling scar formation, J. Nanobiotechnol., 21, 241, https://doi.org/10.1186/s12951-023-02014-x.
- Wei, C., You, C., Zhou, L., Liu, H., Zhou, S., Wang, X., and Guo, R. (2023) Antimicrobial hydrogel microneedle loading verteporfin promotes skin regeneration by blocking mechanotransduction signaling, Chem. Eng. J., 472, 144866, https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.144866.
- Zhang, C., Yang, D., Wang, T.-B., Nie, X., Chen, G., Wang, L.-H., You, Y.-Z., and Wang, Q. (2022) Biodegradable hydrogels with photodynamic antibacterial activity promote wound healing and mitigate scar formation, Biomater. Sci., 11, 288-297, https://doi.org/10.1039/D2BM01493A.
- Zhang, Y., Wang, S., Yang, Y., Zhao, S., You, J., Wang, J., Cai, J., Wang, H., Wang, J., Zhang, W., Yu, J., Han, C., Zhang, Y., and Gu, Z. (2023) Scarless wound healing programmed by core-shell microneedles, Nat. Commun., 14, 3431, https://doi.org/10.1038/s41467-023-39129-6.
- Mascharak, S., Talbott, H. E., Januszyk, M., Griffin, M., Chen, K., Davitt, M. F., Demeter, J., Henn, D., Bonham, C. A., Foster, D. S., Mooney, N., Cheng, R., Jackson, P. K., Wan, D. C., Gurtner, G. C., and Longaker, M. T. (2022) Multi-Omic analysis reveals divergent molecular events in scarring and regenerative wound healing, Cell Stem Cell, 29, 315-327.e6, https://doi.org/10.1016/j.stem.2021.12.011.
- Lee, M.-J., Byun, M. R., Furutani-Seiki, M., Hong, J.-H., and Jung, H.-S. (2014) YAP and TAZ regulate skin wound healing, J. Invest. Dermatol., 134, 518-525, https://doi.org/10.1038/jid.2013.339.
- Mascharak, S., desJardins-Park, H. E., Davitt, M. F., Griffin, M., Borrelli, M. R., Moore, A. L., Chen, K., Duoto, B., Chinta, M., Foster, D. S., Shen, A. H., Januszyk, M., Kwon, S. H., Wernig, G., Wan, D. C., Lorenz, H. P., Gurtner, G. C., and Longaker, M. T. (2021) Preventing engrailed-1 activation in fibroblasts yields wound regeneration without scarring, Science, 372, eaba2374, https://doi.org/10.1126/science.aba2374.
- International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals (1985) In The Development of Science-based Guidelines for Laboratory Animal Care: Proceedings of the November 2003 International Workshop; National Academies Press (US), 2004.
- European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes, URL: https://www.ecolex.org/details/treaty/european-convention-for-the-protection-of-vertebrate-animals-used-for-experimental-and-other-scientific-purposes-tre-001042/ (accessed on November 26, 2023).
- Bredfeldt, J. S., Liu, Y., Pehlke, C. A., Conklin, M. W., Szulczewski, J. M., Inman, D. R., Keely, P. J., Nowak, R. D., Mackie, T. R., and Eliceiri, K. W. (2014) Computational segmentation of collagen fibers from second-harmonic generation images of breast cancer, J. Biomed. Opt., 19, 16007, https://doi.org/10.1117/1.JBO. 19.1.016007.
- Liu, Y., Keikhosravi, A., Mehta, G. S., Drifka, C. R., and Eliceiri, K. W. (2017) Methods for quantifying fibrillar collagen alignment, Methods Mol. Biol., 1627, 429-451, https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7113-8_28.
- Mussbacher, M., Salzmann, M., Brostjan, C., Hoesel, B., Schoergenhofer, C., Datler, H., Hohensinner, P., Basílio, J., Petzelbauer, P., Assinger, A., and Schmid, J. A. (2019) Cell type-specific roles of NF-κB linking inflammation and thrombosis, Front. Immunol., 10, 85, https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00085.
- Wnuk, D., Lasota, S., Paw, M., Madeja, Z., and Michalik, M. (2020) Asthma-derived fibroblast to myofibroblast transition is enhanced in comparison to fibroblasts derived from non-asthmatic patients in 3D in vitro culture due to Smad2/3 signalling, Acta Biochim. Pol., 67, 441-448, https://doi.org/10.18388/ abp.2020_5412.
- Shin, D., and Minn, K. W. (2004) The effect of myofibroblast on contracture of hypertrophic scar, Plast. Reconstr. Surg., 113, 633-640, https://doi.org/10.1097/01.PRS.0000101530.33096.5B.
- Wang, C., Zhu, X., Feng, W., Yu, Y., Jeong, K., Guo, W., Lu, Y., and Mills, G. B. (2016) Verteporfin inhibits YAP function through Up-regulating 14-3-3σ sequestering YAP in the cytoplasm, Am. J. Cancer Res., 6, 27-37.
- Shi-wen, X., Racanelli, M., Ali, A., Simon, A., Quesnel, K., Stratton, R. J., and Leask, A. (2021) Verteporfin inhibits the persistent fibrotic phenotype of lesional scleroderma dermal fibroblasts, J. Cell Commun. Signal., 15, 71-80, https://doi.org/10.1007/s12079-020-00596-x.
- El Ayadi, A., and Jay, J. W., Prasai, A. (2020) Current approaches targeting the wound healing phases to attenuate fibrosis and scarring, Int. J. Mol. Sci., 21, 1105, https://doi.org/10.3390/ijms21031105.
- Zlobina, K., Malekos, E., Chen, H., and Gomez, M. (2023) Robust classification of wound healing stages in both mice and humans for acute and burn wounds based on transcriptomic data, BMC Bioinformatics, 24, 166, https://doi.org/10.1186/s12859-023-05295-z.
- Galiano, R. D., Michaels, J., Dobryansky, M., Levine, J. P., and Gurtner, G. C. (2004) Quantitative and reproducible murine model of excisional wound healing, Wound Repair Regen., 12, 485-492, https://doi.org/10.1111/j.1067-1927.2004.12404.x.
- Ud-Din, S., Foden, P., Stocking, K., Mazhari, M., Al-Habba, S., Baguneid, M., McGeorge, D., and Bayat, A. (2019) Objective assessment of dermal fibrosis in cutaneous scarring, using optical coherence tomography, high-frequency ultrasound and immunohistomorphometry of human skin, Br. J. Dermatol., 181, 722-732, https://doi.org/10.1111/bjd.17739.
- Henn, D., Chen, K., Fehlmann, T., Trotsyuk, A. A., Sivaraj, D., Maan, Z. N., Bonham, C. A., Barrera, J. A., Mays, C. J., Greco, A. H., Moortgat Illouz, S. E., Lin, J. Q., Steele, S. R., Foster, D. S., Padmanabhan, J., Momeni, A., Nguyen, D., Wan, D. C., Kneser, U., Januszyk, M., Keller, A., Longaker, M. T., and Gurtner, G. C. (2021) Xenogeneic skin transplantation promotes angiogenesis and tissue regeneration through activated Trem2+ macrophages, Sci. Adv., 7, eabi4528, https://doi.org/10.1126/sciadv.abi4528.
- Brett, D. A (2008) Review of collagen and collagen-based wound dressings, Wounds Compend. Clin. Res. Pract., 20, 347-356.
- Ge, B., Wang, H., Li, J., Liu, H., Yin, Y., Zhang, N., and Qin, S. (2020) Comprehensive assessment of Nile tilapia skin (Oreochromis Niloticus) collagen hydrogels for wound dressings, Mar. Drugs, 18, 178, https://doi.org/10.3390/md18040178.
- Chermnykh, E. S., Kiseleva, E. V., Rogovaya, O. S., Rippa, A. L., Vasiliev, A. V., and Vorotelyak, E. A. (2018) Tissue-engineered biological dressing accelerates skin wound healing in mice via formation of provisional connective tissue, Histol. Histopathol., 33, 1189-1199, https://doi.org/10.14670/HH-18-006.
Дополнительные файлы