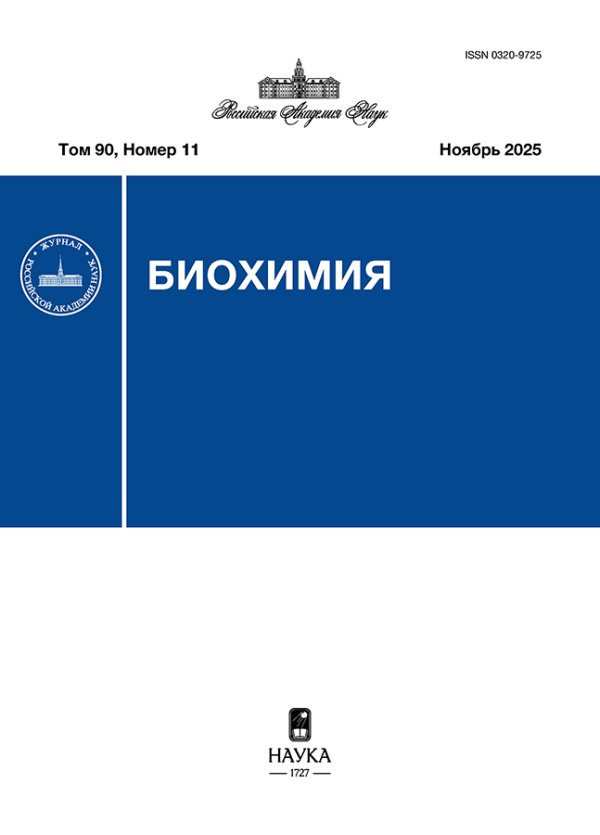Rational drug design targeting G-protein-coupled receptors: ligand search and screening (review)
- Authors: Luginina А.P.1, Khnykin A.N.1, Khorn P.А.1, Moiseeva О.V.1,2, Safronova N.A.1, Pospelov V.A.1, Dashevskii D.E.1, Belousov A.S.1, Borshchevskiy I.V.1,3, Mishin A.V.1
-
Affiliations:
- Moscow Institute of Physics and Technology (NIU)
- G. K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy of Sciences
- Joint Institute for Nuclear Research
- Issue: Vol 89, No 5 (2024)
- Pages: 945-960
- Section: Regular articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-9725/article/view/270337
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320972524050158
- EDN: https://elibrary.ru/YNNKGL
- ID: 270337
Cite item
Full Text
Abstract
G protein-coupled receptors (GPCRs) are transmembrane proteins that participate in most physiological processes and serve as key pharmacological targets. Recent advances in structural biology of GPCRs have enabled the development of drugs based on structure (Structure Based Drug Design, SBDD). SBDD utilizes information about the receptor– ligand complex to search for suitable compounds, expanding the chemical space of search without the need for experimental screening. In our review we include a description of Structural-base Virtual Screening (SBVS) of ligands to GPCRs and a description of methods for functional testing of selected potential drug compounds. We also discuss recent advances in the development of SBDD approaches applicable to GPCRs and highlight successful examples of their use.
Keywords
Full Text
Принятые сокращения: BRET – резонансный перенос энергии биолюминесценции; FRET – флуоресцентный резонансный перенос энергии; GPCR – рецепторы, сопряженные с G-белком (G protein-coupled receptor); GRK – киназы рецепторов, сопряженных с G-белком (G protein-coupled Receptor Kinases); IP1; IP2; IP3 – моно-, ди- и трифосфаты инозитола; SBDD – разработка лекарств на основе структуры (Structure-Based Drug Design); SBVS – виртуальный скрининг, основанный на структуре мишени (Structural-based Virtual Screening).
Введение
Рецепторы, сопряженные с G-белком (GPCR), занимают отдельное место в структурной биологии. Это гептаспиральные трансмембранные белки, широко представленные в организме человека и составляющие один из крупнейших классов мембранных белков [1]. Они участвуют в передаче внеклеточного сигнала за счет связывания эндогенного агониста (или при фотоактивации), а также выполняют регуляторную функцию по изменению активности других белков при взаимодействии. Природные лиганды для GPCR представляют собой широкий спектр типов химических веществ: аминокислоты и ионы, белки и пептиды, нуклеотиды и биогенные амины, биоэффекторные липиды. GPCR играют первостепенную роль в таких важных физиологических функциях организма человека, как зрение, восприятие вкуса, запаха, регуляция деятельности нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, поддержание гомеостаза и необходимой плотности клеток в ткани. Дисфункции рецепторов класса GPCR приводят к серьезным заболеваниям, что определяет GPCR в качестве важнейших биологических мишеней как в фундаментальных, так и в прикладных медицинских и фармацевтических исследованиях. Примерно 700 лекарственных препаратов (35% всех лекарств, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA)) обладают направленным действием на 108 уникальных GPCR; примерно 321 химическое соединение в настоящее время находится на стадии клинических испытаний, из них ~20% нацелены на 66 потенциально новых GPCR-мишеней, не имеющих одобренного препарата [2]. Основными болезнями, на лечение которых нацелены препараты, воздействующие на GPCR, являются: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и другие расстройства центральной нервной системы [3]. Нет никаких сомнений в том, что GPCR еще долго будут оставаться на передовой линии проектов по разработке лекарств.
Передача сигнала извне клетки рецепторами класса GPCR осуществляется в ответ на его активацию лигандом за счет изменения конформации рецептора (рис. 1). Ортостерические лиганды присоединяются в основном кармане связывания рецептора (там, где присоединяется природный лиганд), аллостерические – в дополнительных карманах и влияют на функцию рецептора независимо от основного лиганда, что увеличивает число способов фармакологического воздействия на рецептор [4]. В классическом случае активации смена конформации рецептора активирует гетеротримерные G-белки, сигнальные молекулы, получившие свое название благодаря способности присоединять и преобразовывать молекулы GTP и GDP, которые классифицируют на четыре основных семейства, согласно классу их α-субъединиц, выделенных на основе структурной гомологии, функции и типу запускаемых сигнальных путей: Gi/o, Gq, Gs и G12/13 [5].
Рис. 1. Общий принцип передачи сигнала GPCR: селективный лиганд, подходя с внеклеточной стороны, активирует рецептор, который, претерпевая конформационные изменения, активирует G-белок – гетеротример, состоящий из α-, β- и γ-субъединиц. Активированный рецептор, который взаимодействует с гетеротримером как с целым, инициирует его диссоциацию, катализируя обмен GDP на GTP в нуклеотидном центре Gα-субъединицы, которая определяет дальнейший каскад реакций. Например, Gα12/13 запускает путь Rac/Rho малых GTPаз; Gαs стимулируют, а Gαi/o ингибируют аденилатциклазу, катализирующую превращение аденозинтрифосфата (ATP) в циклический аденозинмонофосфат (cAMP); Gαq стимулирует фосфолипазу C-β (PLC-β), отщепляющую от фосфатидилинозитолбифосфата (его изоформы PI-3,5-P2) инозитол трифосфат (IP3), повышение концентрации которого приводит к высвобождению внутриклеточного кальция. Вторичные мессенджеры включают соответствующий клеточный ответ. Gβγ-Субъединицы также запускают ряд сигнальных путей, например, взаимодействуя с ионными каналами, липидными киназами (фосфоинозитид-3-киназа-γ, PI3Kγ) и фосфолипазами (PLC-β). При длительной активации рецептор может фосфорилироваться, например, GPCR-киназой (GRK), что приводит к связыванию с белком-аррестином (Arr), прекращающим G-белок-ассоциированный сигнальный путь [5]
Помимо G-белков, существует ряд других белков-трансдьюсеров, которые непосредственно взаимодействуют с GPCR, таких как β-аррестины, киназы рецепторов, сопряженных с G-белком (G protein-coupled Receptor Kinases, GRK) [6]; а также в передаче сигнала принимают участие модулирующие белки JAK (Janus Kinase) [7], RAMP (Receptor Activity Modifying Protein) [8], RGS (Regulator of G protein signaling) [9] и другие. Активированные GPCR могут подвергаться фосфорилированию GRK и другими эффекторными киназами. Паттерны фосфорилирования (часто в литературе называемые «баркодами») определяют передачу сигналов через аррестины того или иного типа и ее кинетических параметров [10].
Одним из важнейших явлений в функционировании GPCR является эффект функциональной селективности лигандов (или смещенного агонизма, biased signalling), который заключается в том, что конкретные лиганды (в том числе аллостерические модуляторы [11]) могут вызывать активацию или ингибирование конкретных сигнальных путей, ассоциированных с разными G-белками или аррестинами, направляя сигнальный каскад в определенное русло. Такие различия в сигнальных путях одного и того же GPCR могут иметь важные фармакологические последствия, поскольку один сигнальный путь может быть связан с терапией заболевания, а другой – с побочными эффектами. Понимание механизмов смещенной сигнализации может помочь в разработке лигандов, которые специфически модулируют конкретные сигнальные пути, не затрагивая остальные, тем самым минимизируя побочные эффекты [12].
Общепризнано, что структурная информация о GPCR в разных конформационных состояниях необходима для понимания их функционирования [2]. Структурно-функциональные исследования различных представителей суперсемейства GPCR в настоящее время продвигаются относительно быстро, на сегодняшний день получены структуры для 165 уникальных GPCR из 876, закодированных в геноме человека (согласно данным ресурса https://gpcrdb.org/ от 19.06.23 г.). Однако каждый новый рецептор по-прежнему представляет собой трудный объект для исследований главным образом из-за низкой стабильности, амфифильной природы и высокой конформационной подвижности. Методы экспрессии GPCR, их кристаллизации, сбора кристаллографических и крио-ЭМ-данных, равно как и биоинформатические методы поиска лигандов GPCR, а также функциональные тесты, позволяющие отобрать из предсказанных соединений потенциально лекарственные, оптимизируют и модернизируют по сей день. Так, увеличение числа структур GPCR высокого разрешения в совокупности с увеличением размера библиотек виртуальных соединений, синтез которых осуществляется «по запросу» (on-demand), приводят к нарастающему успеху кампаний по получению новых лигандов GPCR. А появление все новых способов анализа связывания этих лигандов дополняет инструментарий многоэтапной разработки лекарственных средств, направленных на GPCR, делая процесс рациональным.
Наш обзор посвящен описанию основных этапов разработки лекарств на основе их структуры (SBDD) с точки зрения структурной биологии GPCR, раскрывает особенности таких этапов, как виртуальный скрининг лигандов, основанный на структуре мишени, и определение функциональной активности GPCR in vitro.
Виртуальный скрининг, основанный на структуре мишени
Виртуальный скрининг, основанный на структуре мишени (SBVS), является методом компьютерного поиска потенциально активных молекул в виртуальных библиотеках соединений, который опирается на анализ трехмерной структуры белковой мишени и особенностей ее взаимодействия с потенциальными лигандами, преимущественно на ранних этапах разработки лекарств.
Процесс SBVS обычно начинают с подготовки трехмерной структуры целевого белка, которая включает в себя добавление необходимых атомов водорода, проверку валентности атомов и кратности связей, удаление молекул воды (в случае, если эти молекулы не участвуют во взаимодействии с лигандом или используемое программное обеспечение не предусматривает их явный учет), восстановление замененных аминокислот, удаление лиганда при его наличии в исходной структуре (стоит отметить, что обычно именно холо-форма белка лучше подходит для молекулярного докинга [13]) и выделение области белка, в которой будет проводиться докинг. Также полезной может быть информация об известных лигандах, которые вместе со специально составленными неактивными соединениями (decoys) [14, 15] позволяют провести ретроспективный анализ для валидации подготовленной структуры и подбора оптимальных параметров докинга [16].
Далее выбирается виртуальная библиотека, содержащая потенциальные лиганды, которые при необходимости преобразуются в подходящий для выбранного программного пакета формат, и выполняется молекулярный докинг. В процессе молекулярного докинга лиганды из виртуальной библиотеки позиционируются в лиганд-связывающем кармане рецептора в различных конформациях. Алгоритмы докинга учитывают структуру мишени, взаимодействия между атомами и энергетические параметры системы, чтобы оценить силу связывания и предсказать аффинность лигандов. После проведения докинга лиганды ранжируют на основе показателей оценочных функций и отбирают наиболее перспективные кандидаты для дальнейших экспериментальных исследований, которые обычно включают в себя синтез и биологическую оценку активности выбранных соединений [16].
Виртуальные библиотеки соединений. Пространство лекарственно-подобных органических соединений огромно, по разным оценкам оно насчитывает от 1020 до более 1060 молекул [17]. Анализ и даже хранение такого количества виртуальных веществ в настоящее время невозможны. Например, только недавно современные вычислительные мощности и различные методы, направленные на оптимизацию вычислений, позволили преодолеть значение в 1 млрд исследуемых молекул [18].
Один из подходов к созданию баз данных с большим количеством соединений заключается в генерации теоретически синтезируемых молекул на основе определенных правил химической стабильности. Такие базы данных содержат молекулы с ограниченным числом характерных для органических соединений не водородных атомов, таких как C, N, O, S и галогены [19, 20]. Несмотря на большое химическое разнообразие полученных соединений, пути их синтеза обычно заранее неизвестны, и, более того, некоторые молекулы оказываются слишком сложными, чтобы их можно было рассматривать для дальнейших исследований. Из-за этого применяют различные алгоритмы фильтрации и накладывают дополнительные ограничения при использовании таких виртуальных библиотек [21].
Альтернативный подход использует принцип строительных блоков (building blocks) и задает виртуальные библиотеки соединений, которые можно получить из определенных структурных единиц с использованием уже известных, проверенных реакций (combinatorial fragment spaces) [22, 23]. Такой подход обладает рядом преимуществ, включая быстрый химический синтез молекул «по запросу» (make-on-demand compounds) и выявление лигандов с «химической новизной» (т.к. метод не использует информацию об уже известных активных молекулах) [24]. Однако главным недостатком комбинаторных виртуальных библиотек является ограниченность разнообразия соединений, обусловленная использованием определенного набора реакций и конечным набором блоков [21].
Большой интерес также вызывает применение генеративных моделей глубокого обучения для расширения разнообразия виртуальных библиотек. Эти модели обучают на небольшой выборке известных молекул, представленных в виде своих молекулярных дескрипторов, включая молекулярные графы, SMILES [25] и другие [26]. На основе этих данных нейронная сеть может создать новое химическое пространство, которое будет содержать соединения, объединяющие и варьирующие особенности исходной выборки. Такой подход требует тщательного контроля как на этапе обучения модели, так и при валидации и оценке разнообразия полученных молекул [27–29]. Зато модель, обученная с использованием дополнительных входных данных об известных лигандах, затем позволяет работать с рационально составленной виртуальной библиотекой, нацеленной на белок-мишень (focused library) [30, 31].
Из-за вычислительных трудностей хранения и обработки информации крупные виртуальные библиотеки (химические пространства) иногда не имеют явного перечисления всех содержащихся в них молекул, а вместо этого задаются правилами, необходимыми для виртуального построения соединений «на лету» (on-the-fly) [16, 32, 33]. Алгоритмы поиска, сравнения и отбора молекул в таких пространствах имеют особую практическую ценность. Они включают в себя: сравнительный фармакофорный анализ (например, метод FTrees (https://www.biosolveit.de/infiniSee)), сходство молекулярных отпечатков (например, коэффициент подобия Танимото [34]), сравнение трехмерной структуры соединений (например, алгоритм ROCS (https://www.eyesopen.com/rocs)) и многие другие. Такие методы в том числе позволяют создавать коллекции разнообразных химических соединений (diversity library) – небольшие виртуальные библиотеки органических молекул, представляющие разнообразие полного химического пространства или базы данных [35]. Коллекции разнообразных химических соединений широко используют для первичного виртуального скрининга и позволяют эффективно отбирать потенциальные соединения-хиты для дальнейшей оптимизации с существенной экономией вычислительных ресурсов.
Кроме перечисленных подходов для создания химических пространств существует большое количество баз данных, которые содержат информацию о различных уже исследованных и охарактеризованных молекулах. Некоторые из баз данных и химических пространств, которые могут быть полезны для проведения SBVS [36], представлены в таблице.
Общедоступные коммерческие базы данных и химические пространства, используемые для SBVS
Название | Количество малых молекул* |
ZINC (https://zinc20.docking.org) | >2,3 × 108 |
ChEMBL (https://www.ebi.ac.uk/chembl/) | 2,6 × 106 |
PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/) | 1,2 × 108 |
REAL Space (Enamine) (https://enamine.net/compound-collections/real-compounds/real-space-navigator) | 3,6 × 1010 |
GalaXi (WuXi LabNetwork) (https://www.biosolveit.de/infiniSee) | 1,2 × 1010 |
eXplore (eMolecules) (https://emolecules.com/explore) | 7 × 1012 |
Freedom Space (Chemspace) (http://chem-space.com/compounds/freedom-space) | 1,8 × 108 |
CHEMriya (OTAVA’s Chemicals) (https://otavachemicals.com/products/chemriya) | 1,2 × 1010 |
Примечание. * – Данные на 2023 г. [36].
Молекулярный докинг, который впервые был описан в 1980-х гг. [37, 38], на данный момент является одним из наиболее распространенных подходов SBDD. Его используют для моделирования взаимодействий между малой молекулой и белком-мишенью на атомарном уровне, что позволяет предсказать наиболее устойчивое положение и энергетически выгодную конформацию лиганда в сайте связывания. При этом следует отметить, что предсказанная высокая аффинность лиганда не гарантирует его эффективность и не определяет характер воздействия на рецептор. Чтобы предсказать биологическую активность потенциальных лигандов применяют вспомогательные подходы, например, для докинга используют структуру рецептора в определенной конформации (в связанном с агонистом, антагонистом или обратным агонистом состоянии), анализируют молекулярные дескрипторы лигандов, проводят молекулярную динамику комплекса рецептора с лигандом и некоторые другие [39]. Тем не менее проблема определения типа биологической активности лиганда по его структуре является актуальной для компьютерного моделирования и на данный момент не имеет универсального решения.
Процесс молекулярного докинга можно разделить на два основных этапа. Первым шагом является поиск наилучшего положения лиганда в сайте связывания (Search Algorithm). В простейшем случае лиганд и белок-мишень можно рассматривать как два твердых тела, система которых имеет 6 степеней свободы (поступательные и вращательные). Такой подход обычно используется как самый быстрый способ выполнить первоначальный скрининг баз данных малых молекул. Однако часто такая оценка является недопустимо грубой, и для более точного докинга учитывают конформационные степени свободы лиганда, белка (обычно лишь его небольшой части, непосредственно участвующей в образовании комплекса), либо их обоих [40, 41]. Вычисление всех возможных конформаций для большого количества молекул в таком случае времязатратно, в связи с чем было разработано и протестировано большое количество алгоритмов, которые позволяют оптимизировать процесс поиска энергетического минимума системы. Такие, учитывающие гибкость лиганда, алгоритмы можно разделить на 3 типа: систематические, стохастические и детерминированные, а также гибридные подходы. Особенности каждого из видов и их применение в различных программных пакетах исчерпывающе описаны в обзорах [42, 43].
После того как перспективные конформации лиганда выбраны, к ним необходимо применить оценочную функцию, которая ранжирует и отбирает наилучшие соединения. При этом чаще всего оценивают изменение энергии системы, вызванное формированием структуры лиганд–рецептор. Для этого оценочные функции делают ряд упрощений и приближенно учитывают вклад физических явлений, определяющих молекулярное взаимодействие комплекса. Оценочные функции принято разделять на 4 основных вида: физически обоснованные (physics-based), эмпирические (empirical), статистические (knowledge-based), основанные на машинном обучении (machine learning-based), аналогично существуют и комбинированные подходы. Подробнее об оценочных функциях можно прочитать в опубликованных ранее материалах [44, 45].
Среди большого множества программ для SBVS (наиболее популярные из которых указаны в сводной таблице обзора Maia et al. [46]) нельзя выделить одну, которая всегда бы позволяла получить наилучшие результаты. В каждом конкретном случае то или иное программное обеспечение может найти больше соединений-хитов и лучше исключить неактивные молекулы. Поэтому иногда применяют подход, который называется «консенсус докинг» (consensus docking) и который заключается в использовании нескольких различных программ для молекулярного докинга. Результаты консенсус докинга могут помочь выявить наиболее аффинные лиганды и повысить точность финальной выборки соединений [47, 48].
После завершения виртуального скрининга полученные соединения при необходимости дополнительно отсеивают, например, на основе молекулярных свойств, важных для биодоступности лекарственного средства (как одно из наиболее известных выделяют правило Lipinski et al. [49]), а также на основе критериев, предсказывающих ложноположительные и проявляющие аномальную активность лиганды (критерии PAINS [50]), схожести молекулярных отпечатков соединений и других их молекулярных дескрипторов для поиска уникальных хемотипов. Затем из оставшихся молекул выбирают от нескольких десятков до нескольких сотен соединений с наивысшими показателями оценочной функции и проводят функциональные тесты in vitro, по которым отделяют соединения-хиты от неактивных веществ.
Известны как минимум несколько примеров, где использование методов SBVS для GPCR позволило получить ряд соединений, проявивших субмикромолярную активность [24, 51, 52].
Определение функциональной активности in vitro
Полученные методами виртуального скрининга и теоретической оптимизации соединения-хиты и далее соединения-лидеры должны проходить через процедуру экспериментального тестирования. Основные подходы к такому тестированию заключаются в измерении или относительном сравнении кинетических и термодинамических констант связывания (в первую очередь константы диссоциации Kd), а также в количественной характеризации клеточного ответа при помощи детекции разрушающихся и возникающих белок-белковых взаимодействий, изменения концентрации вторичных мессенджеров и профиля экспрессии белков-репортеров. В результате характеризации происходит измерение таких констант, как молярная активность лиганда (potency) или полумаксимальная эффективная концентрация (EC50) – это значение концентрации агониста, которая вызывает биологический ответ, равный половине максимально возможного для данного лиганда после достижения насыщения кривой, а также характерной константы ингибирования (IC50) для антагонистов и обратных агонистов. При сравнительном анализе эффективности лигандов также используют производные относительные константы конкурентного замещения, отражающие эффективность замены одних лигандов другими в сайте связывания.
In vitro функциональные тесты для характеризации взаимодействия рецептор–лиганд. Среди наиболее используемых in vitro методов для широкомасштабного скрининга GPCR стоит отметить подходы с использованием флуоресцентной поляризации лигандов [53], масс-спектрометрию с отбором высокоаффинных веществ (Affinity Selection Mass-spectrometry, AS-MS) [54, 55]. Также для анализов в масштабах лабораторных исследований (десятки лигандов) применяются радиолигандный анализ, основанный на связывании радиоактивно меченного лиганда с рецептором [56], сцинтилляционный анализ сближения (Scintillation Proximity Assay, SPA), биосенсорные технологии на основе поверхностного плазмонного резонанса [57, 58]. Перспективами для применений в области скрининга GPCR-лигандов обладают такие методы, как микромасштабный термофорез (Microscale thermophoresis, MST) [59, 60], дифференциальная сканирующая флуориметрия (Nano differential scanning fluorimetry, NanoDSF), скрининг на основе методик спектроскопии ЯМР [61], изотермическая калориметрия титрования (ИКТ) [62] и интерферометрия «биологических слоев» (Bio-layer interferometry, BLI), которую используют для исследования взаимодействия с макромолекулярными лигандами [63]. Измерение констант связывания, выполняемое при помощи вышеописанных подходов, как правило, не позволяет достоверно определить фармакологический тип лиганда (ортостерический агонист/антагонит/обратный агонист или аллостерический модулятор) и не позволяет оценить реальную эффективность воздействия на внутриклеточный ответ после взаимодействия с лигандом. Также стоит отметить, что, как и в структурных исследованиях, низкая стабильность очищенных GPCR делает их скрининг вне клеток или нативных мембранных систем сложной задачей, поэтому в анализах in vitro используют стабилизированные конструкции рецепторов.
Функциональные тесты in vitro на основе клеточных культур. В случае, когда in vitro данных о связывании недостаточно и требуется анализ уровня активации рецептора и его фармакологический профиль, используют клеточные функциональные тесты. При связывании лиганда с GPCR активируются каскады внутриклеточных сигнальных путей, при этом происходят биохимические реакции, белок-белковые взаимодействия, изменение внутриклеточной концентрации вторичных мессенджеров – события, которые можно количественно детектировать и анализировать. При этом часть из этих событий происходят непосредственно после активации рецептора (реакции гетеротримерного G-белка или аррестина), другие – в диапазоне от цитоплазматических реакций до активации факторов транскрипции контролируемых генов. На рис. 2 обозначена принципиальная классическая схема активации GPCR с указанием основных мест количественной детекции клеточного ответа при помощи люминесцентных или флуоресцентных сенсоров.
Рис. 2. Методы анализа внутриклеточной сигнализации GPCR, применяемые для скринирования библиотек соединений. Солнцем обозначен детектируемый сигнал хемилюминесценции, флуоресценции, вызванный взаимодействием молекул с сенсорами, сборкой флуоресцентного белка или резонансным переносом энергии, происходящими при сближении макромолекул
Связывание агониста приводит к конформационным изменениям рецептора, в результате которых происходит активация G-белка, одним из событий которого является замещение GDP на GTP у α-субъединицы гетеротримерного G-белка. При детектировании накопления устойчивого к гидролизу радиоактивного аналога GTP (GTPγS) возможно специфически детектировать замену GDP на GTP при активации G-белка. Дальнейшее усовершенствование технологии детекции замены GDP на GTP привело к разработке нерадиоактивного теста с использованием флуоресцирующих хелатированных лантаноидных элементов DELFIA (Dissociation-enhanced lanthanide fluorescence immunoassay) на основе метода TRF (Time-resolved fluorescence) [64].
Структурные изменения в гетеротримерном G-белке, происходящие при активации GPCR, также можно детектировать при помощи подхода с использованием расщепленных «сплит» люцифераз. Наиболее популярной в настоящее время системой является технология NanoBiT от компании «Promega», в которой взаимодействие между Gα-субъединицей и Gβγ-субъединицей G-белка контролируется с помощью системы комплементации ферментов на основе люциферазы NanoLuc, при этом ее фрагменты SmBiT и LgBiT пришиваются к разным субъединицам и, если они находятся в соединенном состоянии, то возникает свечение при наличии субстрата, если же субъединицы расходятся, то свечение пропадает [65, 66]. Данный подход может распространяться на множество исследований белок-белковых взаимодействий.
При скрининге часто применяют тесты, направленные на детекцию дальнейшего ответа рецептора на уровне вторичных мессенджеров, таких как cAMP, кальций, IP1, IP3 и другие, концентрация которых меняется при активации α-субъединиц G-белков различного типа: Gαs, Gαi и Gαq. В зависимости от того, какую α-субъединицу содержит G-белок, происходит активация различных сигнальных путей, при этом происходит высвобождение или образование различных вторичных мессенджеров. Изменение концентрации cAMP в клетке происходит в результате активации или ингибирования аденилатциклазы G-белками с Gαs или Gαi соответственно. Gαs активирует аденилатциклазу, что приводит к увеличению концентрации внутриклеточного cAMP, в то время как при активации Gαi аденилатциклаза ингибируется, и уменьшается уровень cAMP в клетке. Многочисленные методы скрининга основаны на изменении концентрации внутриклеточного cAMP при модуляции активности группы рецепторов. В то же время G-белок с субъединицей Gαq активирует фосфолипазу C, которая катализирует образование диацилглицерола и инозитол-1,4,5-трифосфата (IP3). IP3, в свою очередь, стимулирует открытие кальциевых каналов эндоплазматического ретикулума и выброс кальция в цитоплазму, после чего ферментативно конвертируется в IP1 и IP2.
Другим важнейшим путем активации GPCR является β-аррестиновый сигнальный путь. β-Аррестин-1 и β-аррестин-2 – повсеместно экспрессирующиеся цитозольные адапторные белки, которые первоначально были открыты в связи с их ингибирующей ролью в передаче сигнала GPCR. В некоторых случаях β-аррестины регулируют только десенситизацию и интернализацию рецепторов по аналогии с действием зрительного арестина в отношении десенситизации родопсина [67]. Однако зачастую β-аррестины не просто блокируют активированные GPCR, а запускают эндоцитоз и активацию киназ, приводящих к запуску специфических сигнальных путей, которые могут быть локализованы в эндосомах. Было также установлено, что сигнальные пути, инициируемые β-аррестинами, не зависят от активации G-белков. Открытие лигандов, блокирующих активацию G-белков, но способствующих связыванию β-аррестинов или наоборот, позволило открыть избирательную смещенную активацию внутриклеточных сигнальных путей («biased signaling»). Затем было показано, что β-аррестиновая сигнализация активирует митоген-активируемую протеинкиназу независимым от G-белков образом и в конечном итоге инициирует экспрессию контролируемых генов [68].
Подходы для детекции cAMP в Gαs- и Gαi-ассоциированных путях. Существует несколько подходов к измерению изменения концентрации cAMP при активации рецептора. Так, технология HitHunter от «DiscoverX» базируется на анализе комплементации фрагментов расщепленного белка β-галактозидазы [69]. В нем используют cAMP, конъюгированный с малым фрагментом β-галактозидазы, также отдельно присутствует комплементарный крупный фрагмент этого белка. При добавлении антител и субстрата фермента конъюгированный cAMP связывается с антителами и комплементации β-галактозидазы не происходит, субстрат не утилизируется, и, соответственно, сигнала нет. Если при активации GPCR начинает работать аденилатциклаза, что приводит к накоплению cAMP в цитоплазме клетки, этот эндогенный cAMP начинает конкурировать с конъюгированным за связывание с антителами, и происходит сборка активной β-галактозидазы. При наличии в среде субстрата фермента происходит реакция хемилюминесценции, сигнал от которой детектируют люминометром.
Другой пример хемилюминесцентного анализа – технология AlphaScreen от «PerkinElmer» [70]. В нем используют донорные и акцепторные микрочастицы, при сближении которых происходит передача синглетного кислорода, возникшего при фотоактивации донорной частицы, к акцептору. В данном тесте донором являются фотоактивируемые микрочастицы на основе фталоцианина, покрытые стрептавидином. Биотинилированный синтетический cAMP связывается с донором и с анти-cAMP-антителами, конъюгированными с акцепторной частицей, содержащей хемилюминесцентную в присутствии синглетного кислорода теоксеновую группу. В результате сближения донора и акцептора усиливается хемилюминесцентный сигнал акцептора. Эндогенный cAMP конкурирует с синтетическим за связывание с антителами и нарушает комплекс донор (биотинилированный cAMP)–акцептор, в результате чего хемилюминесцентный сигнал снижается.
Для определения концентрации cAMP в клетке используют также метод флуоресцентной поляризации [71]. Синтетический cAMP, конъюгированный с флуоресцентной меткой, излучающей поляризованный свет, связывается с анти-cAMP-антителами и в поляризованном свете демонстрирует поляризованную эмиссию вследствие уменьшения степени свободы вращения в связанном виде. При увеличении концентрации эндогенного cAMP происходит конкурентное вытеснение меченого cAMP из комплекса с антителами, что приводит к увеличению его хаотичной подвижности и, как следствие, к снижению детектируемой поляризации флуоресценции.
Еще один подход к измерению концентрации cAMP – это использование зависимых от этого кофактора ферментов. К примеру, технология GloSensor [72] представляет собой модифицированную cAMP-зависимую люциферазу. При связывании cAMP происходят конформационные изменения люциферазы и концентрационно-зависимая активация ее свечения. По сходному принципу работают cAMP-зависимые сенсоры EPAC – химерные белки, состоящие из домена, в котором происходят структурные перестройки, изменяющие расстояния между пришитыми к нему люциферазами, составляющими BRET-пару, и/или флуоресцентными белками, составляющими FRET-пару [73]. Примеры применения данных подходов для GPCR содержатся в недавних исследованиях [74, 75].
Также распространенным подходом является использование репортерных систем, в которых ген люциферазы находится под контролем мультимеризованного ответного элемента cAMP (CRE), регулирующего активность промотора данного гена, тем самым позволяя детектировать изменение концентрации cAMP благодаря люминесцентному сигналу [76, 77].
Детекция инозитолфосфатов и кальция при активации Gαq-пути. На сегодняшний день доступно несколько платформ для определения концентрации IP1, IP3 или кальция. Подходы AlphaScreen и использование поляризованных флуоресцентных меток, которые описаны ранее, также применимы для детекции вторичного мессенджера IP3 [78].
Помимо измерения IP3, подобные подходы используют для измерения концентрации другого вторичного мессенджера, промежуточного продукта распада IP3 – IP1. Было показано, что добавление хлорида лития к клеткам приводит к ингибированию дефосфорилирования и накоплению IP1 в клетке, что делает возможным измерение его концентрации, как следствие активации целевых GPCR [78]. Это конкурентный анализ, основанный на принципе гомогенного время-разрешенного FRET (homogeneous time-resolved FRET, HTRF) [79], в котором помещенный в клетки меченный d2 меткой IP1 выступает в качестве акцептора флуоресценции, а меченное криптатом тербия анти-IP1-моноклональное антитело (mAb) – в качестве донора флуоресценции. Наряду с этим при увеличении концентрации эндогенного IP1 меченый аналог замещается в сайте связывания антитела и, как следствие, происходит снижение сигнала FRET. Данный подход реализован в IP-One assay от компании «Cisbio» и был применен ранее нами при исследовании цистеинил лейкотриеновых рецепторов [52, 80, 81].
Часто при проведении скрининга выбирают тест, основанный на измерении концентрации внутриклеточного кальция при помощи проникающих в клетки кальций-чувствительных флуорофоров Fluo-3, Fluo-4 и их оптимизированных аналогов с использованием флуоресцентных ридеров на основе технологии флуоресцентного считывания с планшетов (fluorescent imaging plate reader, FLIPR), проводящих относительно быстрые (3–5 секунд) измерения флуоресценции в реальном времени [82].
Дополнительно, как и в случае с cAMP, кальций можно детектировать при активации экспрессии генов репортерных люцифераз, находящихся под контролем кальций-зависимых промоторов (система NFAT от «Promega») [83].
β-Аррестиновый путь. Ключевым событием при активации данного сигнального пути в большинстве случаев является фосфорилирование GRK. Первоначальные исследования фосфорилирования GPCR основывались на радиоактивных анализах в целых клетках, которые требуют высокого уровня радиоактивности и не могут быть использованы для идентификации отдельных фосфорилированных сериновых и треониновых остатков. Позже исследования были направлены на анализ фосфопротеомики, с помощью которого была получена ограниченная количественная информация. В настоящее время преобладает подход, основанный на использовании антител, специфически распознающих фосфорилированное состояние GPCR [84].
Другие подходы к исследованию активации β-аррестиновых сигнальных путей [85] основаны на анализе множественных изменений в клетке при помощи флуоресцентного и люминесцентного анализа. Одним из подходов является наблюдение за миграцией рецептора в клетке после его интернализации за счет использования меченых лигандов, антител против различных эпитопов на рецепторе или же конъюгированных флуоресцентных меток, как реализовано в технологии Transfluor Assay (Molecular Devices) [86].
Еще одним подходом является непосредственная детекция связывания β-аррестина с рецептором. Необходимо отметить методы на основе BRET [87]. При проведении BRET используют рецептор, конъюгированный с флуоресцентным красителем, и β-аррестин, конъюгированный с люциферазой, или наоборот. При связывании рецептора с β-аррестином происходит сближение двух меток и наблюдается перенос энергии биолюминесценции на флуорофор.
Tango assay [88] представляет собой репортерную систему, которая активируется протеазой TEV, конъюгированной с β-аррестином. При сближении β-аррестина с рецептором, имеющим таг в виде транскрипционного фактора c сайтом узнавания протеазы TEV, происходит отщепление фактора от рецептора под воздействием протеазы, и транслокация транскрипционного фактора в ядро, где он активирует транскрипцию β-лактамазы. β-Лактамаза катализирует расщепление субстрата с двумя флуоресцентными тагами, в результате чего резонансный перенос энергии флуоресценции между тагом-донором и тагом-акцептором нарушается. Таким образом, флуоресцентный сигнал от интактного субстрата исчезает и появляется сигнал от расщепленного субстрата.
Альтернативой является технология PathHunter от «DiscoverX» [89], которая представляет собой тест, основанный на принципе комплементации фрагментов белка, в данном случае – β-галактозидазы. Если β-аррестин конъюгировать с большим неактивным фрагментом β-галактозидазы, а рецептор – с малым, то при связывании рецептора и β-аррестина эти фрагменты β-галактозидазы сблизятся и фермент начнет проявлять активность по отношению к своему субстрату, генерируя хемилюминесцентный сигнал.
Детекция димеризации GPCR. Многие GPCR образуют гомо-, гетеродимеры или олигомеры на плазматической мембране [90]. Димеризация может значительно изменять спектр активации различных сигнальных путей [91]. Существуют несколько распространенных подходов к детекции димеризации: одни основаны на детекции FRET или BRET, при этом таги донора и акцептора конъюгированы с С-концами рецепторов [92, 93], другие основаны на методе комплементации фрагментов β-галактозидазы (PathHunter) [94]. При коэкспрессии рецепторов, один из которых конъюгирован с большим, а другой с малым фрагментами расщепленной β-галактозидазы, добавление агониста приводит к димеризации и сборке фермента с генерированием хемилюминесценции в присутствии субстрата.
Практические аспекты выбора клеточных функциональных тестов для исследований. В настоящее время все более популярными становятся подходы на основе одновременной детекции активации нескольких сигнальных путей рецептора и детектирования активации разных субъединиц G-белков с помощью BRET, такие как Truepath assay [90], позволяющие исследовать фармакологический профиль активации рецептора и прямо исследовать смещенную сигнализацию (biased signalling).
На практике при выборе того или иного функционального теста исходят из соображений научной постановки задачи, детекции результатов активации рецептора по выбранному биохимическому пути на том или ином уровне (исследования событий, происходящих непосредственно после активации вблизи рецептора, и «downstream» – детекция вторичных мессенджеров и изменения экспрессии репортерных генов), учитывая возможность возникновения ошибочных данных из-за пересечения с независимыми клеточными сигнальными путями (так называемый «crosstalk») [95, 96].
Необходимо также принимать в расчет технические и экономические соображения, такие как доступность реагентов и систем детекции сигнала, динамический диапазон применения метода, масштабируемость для задач скрининга и возможность валидации в целях соответствия критериям доклинических испытаний.
После проведения in vitro функциональных тестов на дальнейших этапах разработки лекарств переходят к тестированию успешных соединений в более комплексных in vivo системах, например, на функционально дифференцированных клетках и тканях [97, 98], органоидах [99, 100], и переходят к тестам ADME-Tox [101] и к дальнейшим доклиническим испытаниям на животных.
Заключение
На сегодняшний день благодаря появлению современных экспериментальных функциональных тестов для GPCR и развитию биоинформатики, гармонично дополненному успехами структурной биологии, исследователи обеспечены полным набором инструментов для разработки и верификации новых лигандов методом SBDD.
После определения большинства структур прошло менее 10 лет, и поэтому судить об успехах или неудачах SBDD GPCR еще слишком рано. К тому же фармкомпании обычно не публикуют ранние результаты исследований в целях снижения конкуренции. Тем не менее здесь приведены несколько примеров препаратов, разработанных посредством SBDD и находящихся сейчас на стадии клинических испытаний.
В 2012 г. кристаллическая структура A2AAR (опубликованная в 2011 г. [102]) была использована при поиске антагонистов для применения в области иммунной онкологии. Скрининг in silico идентифицировал ряд потенциально подходящих химических соединений. Кроме того, в ходе анализа ортостерического сайта связывания лиганда у нескольких кристаллических структур «рецептор–лиганд» в ортостерическом «кармане» был выявлен ранее неизвестный участок. Этот участок использовали для связывания агонистов, а в случае известных ранее антагонистов оставляли незанятым. Искусственные антагонисты, имеющие химическую группу для связывания в этом новом участке «кармана», отличались высокой специфичностью. Так, посредством SBDD был разработан AZD4635 – антагонист, селективность которого была оптимизирована к A2AAR относительно гомологичного рецептора A1AR. В ходе доклинических испытаний AZD4635 показал эффективность как при монотерапии, так и в сочетании с анти-PD1-антителом в качестве противоопухолевого иммуномодулятора [103, 104]. В настоящее время препарат находится на II стадии клинических испытаний на пациентах c опухолями простаты (https://clinicaltrials.gov/study/NCT04089553).
Другой пример успешного использования SBDD – поиск селективных агонистов для мускариновых рецепторов M1R и M4R. Активация этих рецепторов предположительно поможет в лечении когнитивных и психических расстройств, болезни Альцгеймера, а также в лечении шизофрении. При этом лекарственный препарат – агонист М1R и М4R – не должен активировать гомологичные рецепторы М2R и М3R, чтобы избежать побочных эффектов со стороны пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Традиционные подходы к подбору агонистов не смогли обеспечить нужную степень селективности, так как сайты связывания лигандов у филогенетически близких М1R, М2R, М3R и М4R очень похожи. И только использование структур рецепторов в комплексе с различными лигандами позволило разработать подходящие высокоспецифичные агонисты. В 2016 г. были опубликованы данные о трех из них: HTL9936 – агонист M1R, HTL18318 – агонист М1R и HTL0016878 – агонист М4R; в настоящее время они находятся на разных этапах клинических испытаний (https://soseiheptares.com/news) [103, 105].
В 2017 г. методом крио-ЭМ была получена структура рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (GLP1R), являющегося представителем класса B GPCR. Связывание пептида GLP1 с рецептором способствует пролиферации β-клеток поджелудочной железы и повышает уровень инсулина. GLP1R является одной из наиболее эффективных мишеней для лечения диабета II типа. Кристаллическая структура с аллостерическим антагонистом дала первоначальную структурную информацию для рациональной разработки лекарственного средства. В 2020 г. были проведены высокопроизводительный in silico скрининг низкомолекулярных агонистов GLP1R и серия оптимизаций для получения первоначальных соединений, что привело к получению низкомолекулярного агониста PF-06882961, имеющего, в отличие от аналогов (самый известный аналог – семаглутид), высокую пероральную доступность. Затем была проанализирована электронно-микроскопическая структура комплекса PF-06883365, аналога PF-06882961, с GLP1R, выявлен механизм взаимодействия низкомолекулярных агонистов с рецептором и определены ключевые факторы активации белка. Это исследование легло в основу дальнейшей рациональной разработки. На момент написания данного обзора PF-06882961 (Дануглипрон) уже прошел I и II фазы клинических испытаний [106, 107].
В 2023 г. была опубликована статья [108], где авторы разработали прототип нового антидепрессанта BMK-C205, который является антагонистом рецептора кортикотропин-рилизинг-фактора 1 (CRF1R). Данный рецептор относится к классу B семейства GPCR, экспрессируется в центральной и периферической нервной системе, регулирует поведенческие, эндокринные, иммунные и вегетативные реакции на стресс, что делает его мишенью для лечения связанных со стрессом расстройств. Сначала методом серийной белковой кристаллографии была определена структура CRF1R в комплексе с аллостерическим антагонистом BMK-I-152, что позволило идентифицировать ряд структурных особенностей, в частности, две важные водородные связи. Недостаток BMK-I-152 как лекарственного препарата – слишком быстрый метаболизм в печени и, как следствие, низкая эффективность даже в случае внутривенного введения. На основе полученной структуры CRF1R с BMK-I-152 авторы разработали два новых антагониста – BMK-C203 и BMK-C205, которые показали существенно лучшие результаты в фармакокинетических тестах. Методом серийной кристаллографии были определены структуры CRF1R с этими новыми антагонистами. В конечном итоге BMK-C205 показал хороший эффект на мышах как антидепрессант и, очень вероятно, будет использован в дальнейшем для разработки человеческих антидепрессантов методом SBDD.
Приведенные примеры иллюстрируют лишь малую часть той работы, которая ведется сейчас в области SBDD GPCR. Учитывая фармакологическую значимость этого класса рецепторов, все полученные структуры, несомненно, уже используются или в скором времени будут использованы для поиска новых лекарств. Вероятно, некоторые из этих препаратов выйдут на фармацевтический рынок в ближайшее десятилетие.
Вклад авторов. А.М., А.Л., Н.С. подготовили текст введения; А.Х., П.Х. подготовили раздел по виртуальному скринингу; А.М., А.Л., О.М. подготовили раздел про определение функциональной активности; А.Л., Н.С. подготовили текст заключения; А.Л., П.Х. работали над рисунками; В.П., Д.Д., А.Б. принимали участие в редактировании текста рукописи; А.Л., П.Х., В.Б., А.М. предложили концепцию, план обзора, редактировали текст рукописи.
Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-24-00454, https://rscf.ru/project/ 22-24-00454/).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Соблюдение этических норм. Настоящая статья не содержит описания каких-либо исследований с участием людей или животных в качестве объектов.
About the authors
А. P. Luginina
Moscow Institute of Physics and Technology (NIU)
Author for correspondence.
Email: borshchevskiy.vi@phystech.edu
Russian Federation, 141701, Dolgoprudny, Moscow Region
A. N. Khnykin
Moscow Institute of Physics and Technology (NIU)
Email: borshchevskiy.vi@phystech.edu
Russian Federation, 141701, Dolgoprudny, Moscow Region
P. А. Khorn
Moscow Institute of Physics and Technology (NIU)
Email: borshchevskiy.vi@phystech.edu
Russian Federation, 141701, Dolgoprudny, Moscow Region
О. V. Moiseeva
Moscow Institute of Physics and Technology (NIU); G. K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms, Russian Academy of Sciences
Email: borshchevskiy.vi@phystech.edu
Russian Federation, 141701, Dolgoprudny, Moscow Region; 142290, Pushchino, Moscow Region
N. A. Safronova
Moscow Institute of Physics and Technology (NIU)
Email: borshchevskiy.vi@phystech.edu
Russian Federation, 141701, Dolgoprudny, Moscow Region
V. A. Pospelov
Moscow Institute of Physics and Technology (NIU)
Email: borshchevskiy.vi@phystech.edu
Russian Federation, 141701, Dolgoprudny, Moscow Region
D. E. Dashevskii
Moscow Institute of Physics and Technology (NIU)
Email: borshchevskiy.vi@phystech.edu
Russian Federation, 141701, Dolgoprudny, Moscow Region
A. S. Belousov
Moscow Institute of Physics and Technology (NIU)
Email: borshchevskiy.vi@phystech.edu
Russian Federation, 141701, Dolgoprudny, Moscow Region
I. V. Borshchevskiy
Moscow Institute of Physics and Technology (NIU); Joint Institute for Nuclear Research
Email: borshchevskiy.vi@phystech.edu
Russian Federation, 141701, Dolgoprudny, Moscow Region; 141980, Dubna, Moscow Region
A. V. Mishin
Moscow Institute of Physics and Technology (NIU)
Email: mishinalexey@phystech.edu
Russian Federation, 141701, Dolgoprudny, Moscow Region
References
- Schöneberg, T., and Liebscher, I. (2021) Mutations in G protein-coupled receptors: mechanisms, pathophysiology and potential therapeutic approaches, Pharmacol. Rev., 73, 89-119, https://doi.org/10.1124/pharmrev.120.000011.
- Sriram, K., and Insel, P. A. (2018) G protein-coupled receptors as targets for approved drugs: how many targets and how many drugs? Mol. Pharmacol., 93, 251-258, https://doi.org/10.1124/mol.117.111062.
- Kooistra, A. J., Mordalski, S., Pándy-Szekeres, G., Esguerra, M., Mamyrbekov, A., Munk, C., Keserű, G. M., and Gloriam, D. E. (2021) GPCRdb in 2021: integrating GPCR sequence, structure and function, Nucleic Acids Res., 49, D335-D343, https://doi.org/10.1093/nar/gkaa1080.
- Hauser, A. S., Kooistra, A. J., Munk, C., Heydenreich, F. M., Veprintsev, D. B., Bouvier, M., Babu, M. M., and Gloriam, D. E. (2021) GPCR activation mechanisms across classes and macro/microscales, Nat. Struct. Mol. Biol., 28, 879-888, https://doi.org/10.1038/s41594-021-00674-7.
- Dorsam, R. T., and Gutkind, J. S. (2007) G-protein-coupled receptors and cancer, Nat. Rev. Cancer, 7, 79-94, https://doi.org/10.1038/nrc2069.
- Gurevich, V. V., and Gurevich, E. V. (2019) GPCR signaling regulation: the role of GRKs and ARRESTINS, Front. Pharmacol., 10, 125, https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00125.
- Bousoik, E., and Montazeri Aliabadi, H. (2018) “Do we know jack” about JAK? A closer look at JAK/STAT signaling pathway, Front. Oncol., 8, 287, https://doi.org/10.3389/fonc.2018.00287.
- Hay, D. L., and Pioszak, A. A. (2016) Receptor activity-modifying proteins (RAMPs): new insights and roles, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., 56, 469-487, https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-010715-103120.
- Masuho, I., Balaji, S., Muntean, B. S., Skamangas, N. K., Chavali, S., Tesmer, J. J. G., Babu, M. M., and Martemyanov, K. A. (2020) A global Map of G protein signaling regulation by RGS proteins, Cell, 183, 503-521.e19, https://doi.org/ 10.1016/j.cell.2020.08.052.
- Wess, J., Oteng, A.-B., Rivera-Gonzalez, O., Gurevich, E. V., and Gurevich, V. V. (2023) β-arrestins: structure, function, physiology, and pharmacological perspectives, Pharmacol. Rev., 75, 854-884, https://doi.org/10.1124/ pharmrev.121.000302.
- Smith, J. S., Lefkowitz, R. J., and Rajagopal, S. (2018) Biased signalling: from simple switches to allosteric microprocessors, Nat. Rev. Drug Discov., 17, 243-260, https://doi.org/10.1038/nrd.2017.229.
- Kolb, P., Kenakin, T., Alexander, S. P. H., Bermudez, M., Bohn, L. M., Breinholt, C. S., Bouvier, M., Hill, S. J., Kostenis, E., Martemyanov, K. A., et al. (2022) Community guidelines for GPCR ligand bias: IUPHAR review 32, Br. J. Pharmacol., 179, 3651-3674, https://doi.org/10.1111/bph.15811.
- McGovern, S. L., and Shoichet, B. K. (2003) Information decay in molecular docking screens against holo, apo, and modeled conformations of enzymes, J. Med. Chem., 46, 2895-2907, https://doi.org/10.1021/jm0300330.
- Mysinger, M. M., Carchia, M., Irwin, J. J., and Shoichet, B. K. (2012) Directory of useful decoys, enhanced (DUD-E): better ligands and decoys for better benchmarking, J. Med. Chem., 55, 6582-6594, https://doi.org/10.1021/ jm300687e.
- Weiss, D. R., Bortolato, A., Tehan, B., and Mason, J. S. (2016) GPCR-bench: a benchmarking set and practitioners’ guide for G protein-coupled receptor docking, J. Chem. Inf. Model., 56, 642-651, https://doi.org/10.1021/acs.jcim.5b00660.
- Bender, B. J., Gahbauer, S., Luttens, A., Lyu, J., Webb, C. M., Stein, R. M., Fink, E. A., Balius, T. E., Carlsson, J., Irwin, J. J., and Shoichet, B. K. (2021) A practical guide to large-scale docking, Nat. Protoc., 16, 4799-4832, https:// doi.org/10.1038/s41596-021-00597-z.
- Walters, W. P. (2019) Virtual chemical libraries, J. Med. Chem., 62, 1116-1124, https://doi.org/10.1021/acs. jmedchem.8b01048.
- Gentile, F., Yaacoub, J. C., Gleave, J., Fernandez, M., Ton, A.-T., Ban, F., Stern, A., and Cherkasov, A. (2022) Artificial intelligence-enabled virtual screening of ultra-large chemical libraries with deep docking, Nat. Protoc., 17, 672-697, https://doi.org/10.1038/s41596-021-00659-2.
- Fink, T., Bruggesser, H., and Reymond, J.-L. (2005) Virtual exploration of the small-molecule chemical universe below 160 Daltons, Angew. Chem. Int. Ed Engl., 44, 1504-1508, https://doi.org/10.1002/anie.200462457.
- Ruddigkeit, L., van Deursen, R., Blum, L. C., and Reymond, J.-L. (2012) Enumeration of 166 billion organic small molecules in the chemical universe database GDB-17, J. Chem. Inf. Model., 52, 2864-2875, https://doi.org/10.1021/ci300415d.
- Bühlmann, S., and Reymond, J.-L. (2020) ChEMBL-likeness score and database GDBChEMBL, Front Chem., 8, 46, https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00046.
- Leach, A. R., and Hann, M. M. (2000) The in silico world of virtual libraries, Drug Discov. Today, 5, 326-336, https://doi.org/10.1016/s1359-6446(00)01516-6.
- Hartenfeller, M., Eberle, M., Meier, P., Nieto-Oberhuber, C., Altmann, K.-H., Schneider, G., Jacoby, E., and Renner, S. (2011) A collection of robust organic synthesis reactions for in silico molecule design, J. Chem. Inf. Model., 51, 3093-3098, https://doi.org/10.1021/ci200379p.
- Lyu, J., Wang, S., Balius, T. E., Singh, I., Levit, A., Moroz, Y. S., O’Meara, M. J., Che, T., Algaa, E., Tolmachova, K., Tolmachev, A. A., Shoichet, B. K., Roth, B. L., and Irwin , J. J. (2019) Ultra-large library docking for discovering new chemotypes, Nature, 566, 224-229, https://doi.org/10.1038/s41586-019-0917-9.
- Weininger, D. (1988) SMILES, a chemical language and information system. 1. Introduction to methodology and encoding rules, J. Chem. Inf. Comput. Sci., 28, 31-36, https://doi.org/10.1021/ci00057a005.
- Polykovskiy, D., Zhebrak, A., Sanchez-Lengeling, B., Golovanov, S., Tatanov, O., Belyaev, S., Kurbanov, R., Artamonov, A., Aladinskiy, V., Veselov, M., Kadurin, A., Johansson, S., Chen, H., Nikolenko, S., Aspuru-Guzik, A., and Zhavoronkov, A. (2020) Molecular Sets (MOSES): A Benchmarking platform for molecular generation models, Front. Pharmacol., 11, 565644, https://doi.org/10.3389/fphar.2020.565644.
- Arús-Pous, J., Blaschke, T., Ulander, S., Reymond, J.-L., Chen, H., and Engkvist, O. (2019) Exploring the GDB-13 chemical space using deep generative models, J. Cheminform., 11, 20, https://doi.org/10.1186/s13321-019-0341-z.
- Li, Y., Vinyals, O., Dyer, C., Pascanu, R., and Battaglia, P. (2018) Learning deep generative models of graphs, arXiv, https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.03324.
- Zhou, Z., Kearnes, S., Li, L., Zare, R. N., and Riley, P. (2019) Optimization of molecules via deep reinforcement learning, Sci. Rep., 9, 10752, https://doi.org/10.1038/s41598-020-66840-x.
- Segler, M. H. S., Kogej, T., Tyrchan, C., and Waller, M. P. (2018) Generating focused molecule libraries for drug discovery with recurrent neural networks, ACS Cent Sci., 4, 120-131, https://doi.org/10.1021/acscentsci.7b00512.
- Sousa, T., Correia, J., Pereira, V., and Rocha, M. (2021) Generative deep learning for targeted compound design, J. Chem. Inf. Model., 61, 5343-5361, https://doi.org/10.1021/acs.jcim.0c01496.
- Warr, W. A., Nicklaus, M. C., Nicolaou, C. A., and Rarey, M. (2022) Exploration of ultralarge compound collections for drug discovery, J. Chem. Inf. Model., 62, 2021-2034, https://doi.org/10.1021/acs.jcim.2c00224.
- Sadybekov, A. V., and Katritch, V. (2023) Computational approaches streamlining drug discovery, Nature, 616, 673-685, https://doi.org/10.1038/s41586-023-05905-z.
- Bajusz, D., Rácz, A., and Héberger, K. (2015) Why is Tanimoto index an appropriate choice for fingerprint-based similarity calculations? J. Cheminform., 7, 20, https://doi.org/10.1186/s13321-015-0069-3.
- Koutsoukas, A., Paricharak, S., Galloway, W. R. J. D., Spring, D. R., Ijzerman, A. P., Glen, R. C., Marcus, D., and Bender, A. (2014) How diverse are diversity assessment methods? A comparative analysis and benchmarking of molecular descriptor space, J. Chem. Inf. Model., 54, 230-242, https://doi.org/10.1021/ci400469u.
- Korn, M., Ehrt, C., Ruggiu, F., Gastreich, M., and Rarey, M. (2023) Navigating large chemical spaces in early-phase drug discovery, Curr. Opin. Struct. Biol., 80, 102578, https://doi.org/10.1016/j.sbi.2023.102578.
- Janin, J., and Wodak, S. (1978) Conformation of amino acid side-chains in proteins, J. Mol. Biol., 125, 357-386, https://doi.org/10.1016/0022-2836(78)90408-4.
- Kuntz, I. D., Blaney, J. M., Oatley, S. J., Langridge, R., and Ferrin, T. E. (1982) A geometric approach to macromolecule-ligand interactions, J. Mol. Biol., 161, 269-288, https://doi.org/10.1016/0022-2836(82)90153-x.
- Miszta, P., Jakowiecki, J., Rutkowska, E., Turant, M., Latek, D., and Filipek, S. (2018) Approaches for differentiation and interconverting GPCR agonists and antagonists, Methods Mol. Biol., 1705, 265-296, https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7465-8_12
- Lorber, D. M., and Shoichet, B. K. (1998) Flexible ligand docking using conformational ensembles, Protein Sci., 7, 938-950, https://doi.org/10.1002/pro.5560070411.
- Yunta, M. J. R. (2016) Docking and ligand binding affinity: uses and pitfalls, Am. J. Model. Optimization, 4, 74-114, https://doi.org/10.12691/ajmo-4-3-2.
- Halperin, I., Ma, B., Wolfson, H., and Nussinov, R. (2002) Principles of docking: an overview of search algorithms and a guide to scoring functions, Proteins, 47, 409-443, https://doi.org/10.1002/prot.10115.
- Yadava, U. (2018) Search algorithms and scoring methods in protein-ligand docking, Int. J. Endocrinol. Metab., 6, https://doi.org/10.15406/emij.2018.06.00212.
- Liu, J., and Wang, R. (2015) Classification of current scoring functions, J. Chem. Inf. Model., 55, 475-482, https://doi.org/10.1021/ci500731a.
- Li, J., Fu, A., and Zhang, L. (2019) An overview of scoring functions used for protein-ligand interactions in molecular docking, Interdiscip. Sci., 11, 320-328, https://doi.org/10.1007/s12539-019-00327-w.
- Maia, E. H. B., Assis, L. C., de Oliveira, T. A., da Silva, A. M., and Taranto, A. G. (2020) Structure-based virtual screening: from classical to artificial intelligence, Front Chem., 8, 343, https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00343.
- Houston, D. R., and Walkinshaw, M. D. (2013) Consensus docking: improving the reliability of docking in a virtual screening context, J. Chem. Inf. Model., 53, 384-390, https://doi.org/10.1021/ci300399w.
- Aliebrahimi, S., Montasser Kouhsari, S., Ostad, S. N., Arab, S. S., and Karami, L. (2018) Identification of phytochemicals targeting c-Met kinase domain using consensus docking and molecular dynamics simulation studies, Cell Biochem. Biophys., 76, 135-145, https://doi.org/10.1007/s12013-017-0821-6.
- Lipinski, C. A., Lombardo, F., Dominy, B. W., and Feeney, P. J. (1997) Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings, Adv. Drug Deliv. Rev., 23, 3-25, https://doi.org/10.1016/s0169-409x(00)00129-0.
- Baell, J. B., and Nissink, J. W. M. (2018) Seven year itch: pan-assay interference compounds (PAINS) in 2017-utility and limitations, ACS Chem. Biol., 13, 36-44, https://doi.org/10.1021/acschembio.7b00903.
- Männel, B., Jaiteh, M., Zeifman, A., Randakova, A., Möller, D., Hübner, H., Gmeiner, P., and Carlsson, J. (2017) Structure-guided screening for functionally selective D2 dopamine receptor ligands from a virtual chemical library, ACS Chem. Biol., 12, 2652-2661, https://doi.org/10.1021/acschembio.7b00493.
- Sadybekov, A. A., Brouillette, R. L., Marin, E., Sadybekov, A. V., Luginina, A., Gusach, A., Mishin, A., Besserer-Offroy, É., Longpré, J.-M., Borshchevskiy, V., et al. (2020) Structure-based virtual screening of ultra-large library yields potent antagonists for a lipid GPCR, Biomolecules, 10, https://doi.org/10.3390/biom10121634.
- Heine, P., Witt, G., Gilardi, A., Gribbon, P., Kummer, L., and Plückthun, A. (2019) High-throughput fluorescence polarization assay to identify ligands using purified G protein-coupled receptor, SLAS Discov., 24, 915-927, https://doi.org/10.1177/2472555219837344.
- Qin, S., Meng, M., Yang, D., Bai, W., Lu, Y., Peng, Y., Song, G., Wu, Y., Zhou, Q., Zhao, S., et al. (2018) High-throughput identification of G protein-coupled receptor modulators through affinity mass spectrometry screening, Chem. Sci., 9, 3192-3199, https://doi.org/10.1039/c7sc04698g.
- Prudent, R., Annis, D. A., Dandliker, P. J., Ortholand, J.-Y., and Roche, D. (2021) Exploring new targets and chemical space with affinity selection-mass spectrometry, Nat Rev Chem., 5, 62-71, https://doi.org/10.1038/s41570-020-00229-2.
- Flanagan, C. A. (2016) GPCR-radioligand binding assays, Methods Cell Biol., 132, 191-215, https://doi.org/10.1016/bs.mcb.2015.11.004.
- Capelli, D., Parravicini, C., Pochetti, G., Montanari, R., Temporini, C., Rabuffetti, M., Trincavelli, M. L., Daniele, S., Fumagalli, M., Saporiti, S., et al. (2019) Surface plasmon resonance as a tool for ligand binding investigation of engineered GPR17 receptor, a G protein coupled receptor involved in myelination, Front. Chem., 7, 910, https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00910.
- Locatelli-Hoops, S., Yeliseev, A. A., Gawrisch, K., and Gorshkova, I. (2013) Surface plasmon resonance applied to G protein-coupled receptors, Biomed. Spectrosc. Imaging, 2, 155-181, https://doi.org/10.3233/BSI-130045.
- Seidel, S. A. I., Dijkman, P. M., Lea, W. A., van den Bogaart, G., Jerabek-Willemsen, M., Lazic, A., Joseph, J. S., Srinivasan, P., Baaske, P., Simeonov, A., Katritch, I., Melo, F. A., Ladbury, J. E., Schreiber, G., Watts, A., Braun, D., and Duhr, S. (2013) Microscale thermophoresis quantifies biomolecular interactions under previously challenging conditions, Methods, 59, 301-315, https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2012.12.005.
- Rascol, E., Dufourquet, A., Baccouch, R., Soule, P., and Alves, I. (2022) An original approach to measure ligand/receptor binding affinity in non-purified samples, Sci. Rep., 12, 5400, https://doi.org/10.1038/s41598-022-09217-6.
- Shimada, I., Ueda, T., Kofuku, Y., Eddy, M. T., and Wüthrich, K. (2019) GPCR drug discovery: integrating solution NMR data with crystal and cryo-EM structures, Nat. Rev. Drug Discov., 18, 59-82, https://doi.org/10.1038/nrd.2018.180.
- Banères, J.-L., Botzanowski, T., Boutin, J. A., Calamini, B., Castel, J., Catoire, L. J., Cianférani, S., Demesmay, C., Ferguson, G., Ferry, G., Kniazeff, J., Krimm, I., Langer, T., Lebon, G., Ley, M., Nyerges, M., Schwob, M., Venien-Bryan, C., Wagner, R., Zeder-Lutz, G., and Zilian-Stohrer, C. (2023) Biophysical dissection of isolated GPCRs: the adenosine A2A receptor under the bistouries, Receptors, 2, 47-92, https://doi.org/10.3390/receptors2010004.
- Takahashi, M. (2022) Nucleic acid aptamers emerging as modulators of G-protein-coupled receptors: challenge to difficult cell surface proteins, Cells, 11, https://doi.org/10.3390/cells11111825.
- Singh, J. K., Maniyar, R. C., and Shirsath, V. S. (2012) Development of time-resolved fluorescent based [EU]-GTP binding assay for selection of human Histamine 3 receptor antagonists/inverse agonist: a potential target for Alzheimer’s treatment, Ann. Neurosci., 19, 71-75, https://doi.org/10.5214/ans.0972.7531.12190205.
- Hilger, D., Kumar, K. K., Hu, H., Pedersen, M. F., O’Brien, E. S., Giehm, L., Jennings, C., Eskici, G., Inoue, A., Lerch, M., et al. (2020) Structural insights into differences in G protein activation by family A and family B GPCRs, Science, 369, https://doi.org/10.1126/science.aba3373.
- Inoue, A., Raimondi, F., Kadji, F. M. N., Singh, G., Kishi, T., Uwamizu, A., Ono, Y., Shinjo, Y., Ishida, S., Arang, N., Kawakami, K., Gutkind, J. S., Aoki, J., and Russell, R. B. (2019) Illuminating G-protein-coupling selectivity of GPCRs, Cell, 177, 1933-1947.e25, https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.04.044.
- Van Gastel, J., Hendrickx, J. O., Leysen, H., Santos-Otte, P., Luttrell, L. M., Martin, B., and Maudsley, S. (2018) β-arrestin based receptor signaling paradigms: potential therapeutic targets for complex age-related disorders, Front. Pharmacol., 9, 1369, https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01369.
- Jean-Charles, P.-Y., Kaur, S., and Shenoy, S. K. (2017) G protein-coupled receptor signaling through β-arrestin-dependent mechanisms, J. Cardiovasc. Pharmacol., 70, 142-158, https://doi.org/10.1097/FJC.0000000000000482.
- Bradley, J., and McLoughlin, D. (2009) Use of the DiscoveRx Hit hunter cAMPII assay for direct measurement of cAMP in Gs and Gi GPCRs, Methods Mol. Biol., 552, 171-179, https://doi.org/10.1007/978-1-60327-317-6_12.
- Yasgar, A., Jadhav, A., Simeonov, A., and Coussens, N. P. (2016) AlphaScreen-based assays: ultra-high-throughput screening for small-molecule inhibitors of challenging enzymes and protein-protein interactions, Methods Mol. Biol., 1439, 77-98, https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3673-1_5.
- Kool, J., van Marle, A., Hulscher, S., Selman, M., van Iperen, D. J., van Altena, K., Gillard, M., Bakker, R. A., Irth, H., Leurs, R., et al. (2007) A flow-through fluorescence polarization detection system for measuring GPCR-mediated modulation of cAMP production, J. Biomol. Screen., 12, 1074-1083, https://doi.org/10.1177/1087057107308881.
- Kumar, B. A., Kumari, P., Sona, C., and Yadav, P. N. (2017) GloSensor assay for discovery of GPCR-selective ligands, Methods Cell Biol., 142, 27-50, https://doi.org/10.1016/bs.mcb.2017.07.012.
- Robichaux, W. G., 3rd and Cheng, X. (2018) Intracellular cAMP sensor EPAC: physiology, pathophysiology, and therapeutics development, Physiol. Rev., 98, 919-1053, https://doi.org/10.1152/physrev.00025.2017.
- Lyapina, E., Marin, E., Gusach, A., Orekhov, P., Gerasimov, A., Luginina, A., Vakhrameev, D., Ergasheva, M., Kovaleva, M., Khusainov, G., Khorn, P., Shevtsov, M., Kovalev, K., Bukhdruker, S., Okhrimenko, I., Popov, P., Hu, H., Weierstall, U., Liu, W., Cho, Y., Gushchin, I., Rogachev, A., et al. (2022) Structural basis for receptor selectivity and inverse agonism in S1P5 receptors, Nat. Commun., 13, 4736, https://doi.org/10.1038/s41467-022-32447-1.
- Krasavin, M., Lukin, A., Sukhanov, I., Gerasimov, A. S., Kuvarzin, S., Efimova, E. V., Dorofeikova, M., Nichugovskaya, A., Matveev, A., Onokhin, K., Zakharov, K., Gureev, M., and Gainetdinov, R. R. (2022) Discovery of trace amine associated receptor 1 (TAAR1) agonist 2-(5-(4’-chloro-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethan-1-amine (LK00764) for the treatment of psychotic disorders, Biomolecules, 12, https://doi.org/10.3390/biom12111650.
- Paramonov, V. M., Mamaeva, V., Sahlgren, C., and Rivero-Müller, A. (2015) Genetically-encoded tools for cAMP probing and modulation in living systems, Front. Pharmacol., 6, 196, https://doi.org/10.3389/fphar.2015.00196.
- Chen, Y., Xu, Z., Wu, D., Li, J., Song, C., Lu, W., and Huang, J. (2015) Luciferase reporter gene assay on human 5-HT receptor: which response element should be chosen? Sci. Rep., 5, 8060, https://doi.org/10.1038/srep08060.
- Garbison, K. E., Heinz, B. A., and Lajiness, M. E. (2012) IP-3/IP-1 Assays, Eli Lilly & Company and the National Center for Advancing Translational Sciences.
- Degorce, F., Card, A., Soh, S., Trinquet, E., Knapik, G. P., and Xie, B. (2009) HTRF: A technology tailored for drug discovery – a review of theoretical aspects and recent applications, Curr. Chem. Genomics, 3, 22-32, https://doi.org/ 10.2174/1875397300903010022.
- Luginina, A., Gusach, A., Marin, E., Mishin, A., Brouillette, R., Popov, P., Shiriaeva, A., Besserer-Offroy, É., Longpré, J.-M., Lyapina, E., et al. (2019) Structure-based mechanism of cysteinyl leukotriene receptor inhibition by antiasthmatic drugs, Sci. Adv., 5, eaax2518, https://doi.org/10.1126/sciadv.aax2518.
- Gusach, A., Luginina, A., Marin, E., Brouillette, R. L., Besserer-Offroy, É., Longpré, J.-M., Ishchenko, A., Popov, P., Patel, N., Fujimoto, T., et al. (2019) Structural basis of ligand selectivity and disease mutations in cysteinyl leukotriene receptors, Nat. Commun., 10, 5573, https://doi.org/10.1038/s41467-019-13348-2.
- Caers, J., Peymen, K., Suetens, N., Temmerman, L., Janssen, T., Schoofs, L., and Beets, I. (2014) Characterization of G protein-coupled receptors by a fluorescence-based calcium mobilization assay, J. Vis. Exp., e51516, https:// doi.org/10.3791/51516.
- Cheng, Z., Garvin, D., Paguio, A., Stecha, P., Wood, K., and Fan, F. (2010) Luciferase reporter assay system for deciphering GPCR pathways, Curr. Chem. Genomics, 4, 84-91, https://doi.org/10.2174/1875397301004010084.
- Kaufmann, J., Blum, N. K., Nagel, F., Schuler, A., Drube, J., Degenhart, C., Engel, J., Eickhoff, J. E., Dasgupta, P., Fritzwanker, S., Guastadisegni, M., Schulte, C., Miess-Tanneberg, E., Maric, H. M., Spetea, M., Kliewer, A., Baumann, M., Klebl, B., et al. (2022) A bead-based GPCR phosphorylation immunoassay for high-throughput ligand profiling and GRK inhibitor screening, Commun. Biol., 5, 1206, https://doi.org/10.1038/s42003-022-04135-9.
- Wang, T., Li, Z., Cvijic, M. E., Krause, C., Zhang, L., and Sum, C. S. (2017) Measurement of β-Arrestin Recruitment for GPCR Targets, Eli Lilly & Company and the National Center for Advancing Translational Sciences.
- Oakley, R. H., Hudson, C. C., Cruickshank, R. D., Meyers, D. M., Payne, R. E., Jr., Rhem, S. M., and Loomis, C. R. (2002) The cellular distribution of fluorescently labeled arrestins provides a robust, sensitive, and universal assay for screening G protein-coupled receptors, Assay Drug Dev. Technol., 1, 21-30, https://doi.org/10.1089/154065802761001275.
- Donthamsetti, P., Quejada, J. R., Javitch, J. A., Gurevich, V. V., and Lambert, N. A. (2015) Using bioluminescence resonance energy transfer (BRET) to characterize agonist-induced arrestin recruitment to modified and unmodified G protein-coupled receptors, Curr. Protoc. Pharmacol., 70, 2.14.1-2.14.14, https://doi.org/10.1002/0471141755.ph0214s70.
- Dogra, S., Sona, C., Kumar, A., and Yadav, P. N. (2016) Tango assay for ligand-induced GPCR-β-arrestin2 interaction: application in drug discovery, Methods Cell Biol., 132, 233-254, https://doi.org/10.1016/bs.mcb.2015.11.001.
- Zhao, X., Jones, A., Olson, K. R., Peng, K., Wehrman, T., Park, A., Mallari, R., Nebalasca, D., Young, S. W., and Xiao, S.-H. (2008) A homogeneous enzyme fragment complementation-based beta-arrestin translocation assay for high-throughput screening of G-protein-coupled receptors, J. Biomol. Screen., 13, 737-747, https://doi.org/ 10.1177/1087057108321531.
- Olsen, R. H. J., DiBerto, J. F., English, J. G., Glaudin, A. M., Krumm, B. E., Slocum, S. T., Che, T., Gavin, A. C., McCorvy, J. D., Roth, B. L., et al. (2020) TRUPATH, an open-source biosensor platform for interrogating the GPCR transducerome, Nat. Chem. Biol., 16, 841-849, https://doi.org/10.1038/s41589-020-0535-8.
- Faron-Górecka, A., Szlachta, M., Kolasa, M., Solich, J., Górecki, A., Kuśmider, M., Żurawek, D., and Dziedzicka-Wasylewska, M. (2019) Understanding GPCR dimerization, Methods Cell Biol., 149, 155-178, https://doi.org/10.1016/bs.mcb.2018.08.005.
- Kufareva, I., Stephens, B., Gilliland, C. T., Wu, B., Fenalti, G., Hamel, D., Stevens, R. C., Abagyan, R., and Handel, T. M. (2013) A novel approach to quantify G-protein-coupled receptor dimerization equilibrium using bioluminescence resonance energy transfer, Methods Mol. Biol., 1013, 93-127, https://doi.org/10.1007/978-1-62703-426-5_7.
- Erdogan, E., Altunbas, I., Kabaoglu, N., and Yanikomeroglu, H. (2020) A cognitive radio enabled RF/FSO communication model for aerial relay networks: possible configurations and opportunities, arXiv, https://doi.org/10.1109/OJVT.2020.3045486.
- Guo, S., Zhao, T., Yun, Y., and Xie, X. (2022) Recent progress in assays for GPCR drug discovery, Am. J. Physiol. Cell Physiol., 323, C583-C594, https://doi.org/10.1152/ajpcell.00464.2021.
- Werry, T. D., Wilkinson, G. F., and Willars, G. B. (2003) Mechanisms of cross-talk between G-protein-coupled receptors resulting in enhanced release of intracellular Ca2+, Biochem. J., 374, 281-296, https://doi.org/10.1042/BJ20030312.
- Horioka, M., Ceraudo, E., Lorenzen, E., Sakmar, T. P., and Huber, T. (2021) Purinergic receptors crosstalk with CCR5 to amplify Ca2+ signaling, Cell. Mol. Neurobiol., 41, 1085-1101, https://doi.org/10.1007/s10571-020-01002-1.
- Voisin, T., Perner, C., Messou, M.-A., Shiers, S., Ualiyeva, S., Kanaoka, Y., Price, T. J., Sokol, C. L., Bankova, L. G., Austen, K. F., and Chiu, I. M. (2021) The CysLT2R receptor mediates leukotriene C4-driven acute and chronic itch, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 118, https://doi.org/10.1073/pnas.2022087118.
- Pilar Pedro, M., Lund, K., Kang, S. W. S., Chen, T., Stuelten, C. H., Porat-Shliom, N., and Iglesias-Bartolome, R. (2023) A GPCR screening in human keratinocytes identifies that the metabolite receptor HCAR3 controls epithelial proliferation, migration, and cellular respiration, bioRxiv, https://doi.org/10.1101/2023.05.30.542853.
- Cvetkovic, C., Patel, R., Shetty, A., Hogan, M. K., Anderson, M., Basu, N., Aghlara-Fotovat, S., Ramesh, S., Sardar, D., Veiseh, O., et al. (2022) Assessing Gq-GPCR-induced human astrocyte reactivity using bioengineered neural organoids, J. Cell Biol., 221, https://doi.org/10.1083/jcb.202107135.
- Takahashi, T. (2019) Organoids for drug discovery and personalized medicine, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., 59, 447-462, https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-010818-021108.
- Jacobson, K. A. (2015) New paradigms in GPCR drug discovery, Biochem. Pharmacol., 98, 541-555, https://doi.org/ 10.1016/j.bcp.2015.08.085.
- Doré, A. S., Robertson, N., Errey, J. C., Ng, I., Hollenstein, K., Tehan, B., Hurrell, E., Bennett, K., Congreve, M., Magnani, F., et al. (2011) Structure of the adenosine A(2A) receptor in complex with ZM241385 and the xanthines XAC and caffeine, Structure, 19, 1283-1293, https://doi.org/10.1016/j.str.2011.06.014.
- Congreve, M., de Graaf, C., Swain, N. A., and Tate, C. G. (2020) Impact of GPCR structures on drug discovery, Cell, 181, 81-91, https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.03.003.
- Borodovsky, A., Barbon, C. M., Wang, Y., Ye, M., Prickett, L., Chandra, D., Shaw, J., Deng, N., Sachsenmeier, K., Clarke, J. D., et al. (2020) Small molecule AZD4635 inhibitor of A2AR signaling rescues immune cell function including CD103+ dendritic cells enhancing anti-tumor immunity, J. Immunother. Cancer, 8, e000417, https://doi.org/10.1136/jitc-2019-000417.
- Johnson, C. R., Kangas, B. D., Jutkiewicz, E. M., Bergman, J., and Coop, A. (2022) Drug design targeting the muscarinic receptors and the implications in central nervous system disorders, Biomedicines, 10, 398, https:// doi.org/10.3390/biomedicines10020398.
- Saxena, A. R., Gorman, D. N., Esquejo, R. M., Bergman, A., Chidsey, K., Buckeridge, C., Griffith, D. A., and Kim, A. M. (2021) Danuglipron (PF-06882961) in type 2 diabetes: a randomized, placebo-controlled, multiple ascending-dose phase 1 trial, Nat. Med., 27, 1079-1087, https://doi.org/10.1038/s41591-021-01391-w.
- Saxena, A. R., Frias, J. P., Brown, L. S., Gorman, D. N., Vasas, S., Tsamandouras, N., and Birnbaum, M. J. (2023) Efficacy and safety of oral small molecule glucagon-like peptide 1 receptor agonist danuglipron for glycemic control among patients with type 2 diabetes: a randomized clinical trial, JAMA Netw. Open, 6, e2314493, https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.14493.
- Kim, H., Lim, T., Ha, G. E., Lee, J.-Y., Kim, J.-W., Chang, N., Kim, S. H., Kim, K. H., Lee, J., Cho, Y., et al. (2023) Structure-based drug discovery of a corticotropin-releasing hormone receptor 1 antagonist using an X-ray free-electron laser, Exp. Mol. Med., 55, 2039-2050, https://doi.org/10.1038/s12276-023-01082-1.
Supplementary files