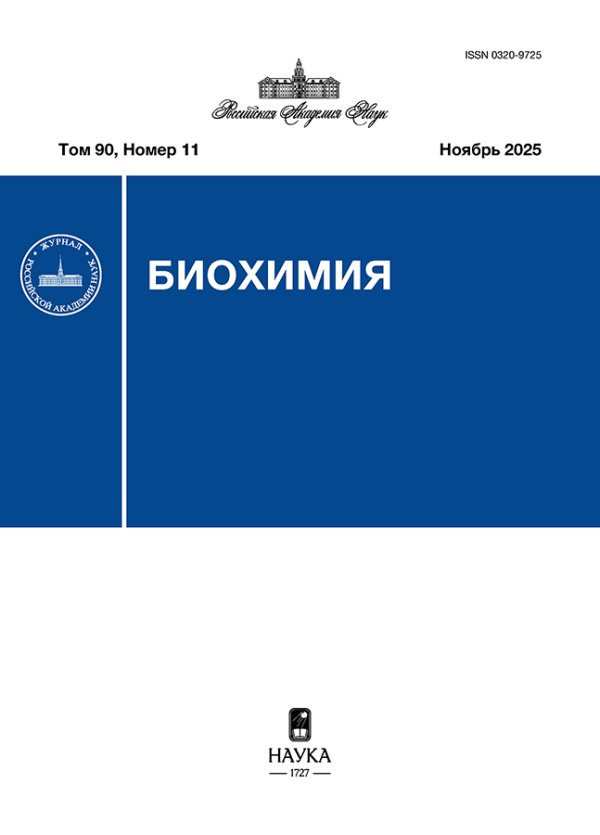The C886T Mutation in the TH Gene Reduces the Activity of Tyrosine Hydroxylase in the Brain of Mice
- Authors: Alsallum I.1,2, Moskalyuk V.S.1, Rakhov I.A.2, Bazovkina D.V.1, Kulikov A.V.1,2
-
Affiliations:
- Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Novosibirsk State University
- Issue: Vol 89, No 6 (2024)
- Pages: 1007-1014
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-9725/article/view/274172
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320972524060048
- EDN: https://elibrary.ru/XMIESK
- ID: 274172
Cite item
Full Text
Abstract
Tyrosine hydroxylase (TH) catalyzes hydroxylation of L-tyrosine to L-3,4-dihydroxyphenylalanine, the initial and rate-limiting step in the synthesis of dopamine, noradrenaline, and adrenaline. Mutations in the human TH gene are associated with hereditary motor disorders. The common C886T mutation identified in the mouse Th gene results in the R278H substitution in the enzyme molecule. We investigated the impact of this mutation on the TH activity in the mouse midbrain. The TH activity in the midbrain of Mus musculus castaneus (CAST) mice homozygous for the 886C allele was higher compared to C57BL/6 and DBA/2 mice homozygous for the 886T allele. Notably, this difference in the enzyme activity was not associated with changes in the Th gene mRNA levels and TH protein content. Analysis of the TH activity in the midbrain in mice from the F2 population obtained by crossbreeding of C57BL/6 and CAST mice revealed that the 886C allele is associated with a high TH activity. Moreover, this allele showed complete dominance over the 886T allele. However, the C886T mutation did not affect the levels of TH protein in the midbrain. These findings demonstrate that the C886T mutation is a major genetic factor determining the activity of TH in the midbrain of common laboratory mouse strains. Moreover, it represents the first common spontaneous mutation in the mouse Th gene whose influence on the enzyme activity has been demonstrated. These results will help to understand the role of TH in the development of adaptive and pathological behavior, elucidate molecular mechanisms regulating the activity of TH, and explore pharmacological agents for modulating its function.
Keywords
Full Text
Принятые сокращения: CAST – Mus musculus сastaneus; DA – дофамин; GAPDH – глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа; L-DOPA – L-3,4-диоксифенилаланин; TH – тирозингидроксилаза.
ВВЕДЕНИЕ
Дофаминовая (DA) система мозга играет ключевую роль в регуляции нервной системы, эндокринных желез и в механизмах адаптивного и патологического поведения [1–4]. Нигростриарная DA система регулирует моторику, её гиперфункция сопровождается гиперактивностью [5–7], а её гипофункция – дистонией [8–10] и каталепсией/кататонией [11, 12]. Мезолимбическая DA система участвует в оценке значимости сигнала для организма и играет ключевую роль в процессе обучения [13–15] и формирования наркотической зависимости [16–19].
В мозге DA синтезируется из аминокислоты L-тирозина в два этапа: на первом этапе фермент тирозингидроксилаза (TH) гидроксилирует L-тирозин до L-3,4-дигидроксифенилаланина (L-DOPA), на втором этапе фермент декарбоксилаза ароматических аминокислот декарбоксилирует L-DOPA до DA. Реакция гидроксилирования L-тирозина является ключевой, определяющей уровень DA в мозге. Действительно, нокаут гена Th снижает уровень DA в головном мозге мышей [20, 21]. Показана ассоциация некоторых мутаций в гене TH человека с дистонией и детским паркинсонизмом [22], риском болезни Паркинсона [22, 23], дистонией [24–27] и биполярными расстройствами [28]. Однако изучение цепи молекулярных событий, связывающих мутацию в гене TH с нарушениями нервной системы, моторики и психических функций человека, затруднено социальными и этическими ограничениями. Поэтому задача моделирования нарушения молекулярных событий, вызванных мутациями, на лабораторных грызунах является чрезвычайно актуальной.
В базе данных Ensembl genome database (https://www.ensembl.org/index.html) можно найти информацию о 21 однонуклеотидном полиморфизме (SNP) в гене Th мыши, вызывающем замену аминокислоты в молекуле TH. Только одна мутация из 21 SNP, а именно C886T, приводящая к замене R278H в молекуле TH, выявлена в гене Th широко распространённых линий лабораторных мышей. Аллель 886T обнаружена у мышей большинства лабораторных линий, таких как C57BL/6, C3H, DBA/2, CBA, в то время как аллель 886C выявлена у мышей подвида Mus musculus castaneus (CAST). Ранее было показано, что мутация G1449A в гене Tph2 мыши (замена R441H в молекуле триптофангидроксилазы 2) резко снижает активность данного фермента в мозге мышей [29, 30]. Поскольку TH и TPH2 являются родственными ферментами из группы гидроксилаз ароматических аминокислот [31], можно ожидать, что мутация C886T также будет снижать активность TH.
Целью исследования было изучение влияния мутации C886T в гене Th на активность TH в мозге мыши. Для этого были сравнены активности TH в среднем мозге – структуре, содержащей тела DA нейронов – у мышей линий C57BL/6 (886T), DBA/2 (886T) и CAST (886C). Чтобы учесть возможное влияние на активность TH межлинейных различий по уровню экспрессии гена Th, был определён уровень мРНК данного гена и уровень белка TH в среднем мозге этих линий мышей. Чтобы оценить вклад данной мутации в активность TH на фоне влияния других генов, было изучено сцепление аллелей 886T и 886C с активностью фермента в среднем мозге расщепляющихся интеркроссов F2 между мышами C57BL/6 и CAST.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Животные. Опыты проводились на половозрелых самцах линий C57BL/6 (n = 6), DBA/2 (n = 6) и самцах подвида CAST (n = 5), а также на 41 половозрелых самцах и самках интеркроссов F2 между мышами C57BL/6 и CAST. Последние были получены в результате скрещивания между собой гибридов первого поколения F1(C57BL/6× CAST). На момент начала эксперимента все мыши были в возрасте 12 недель и имели статус SPF (specific pathogen free) на протяжении всего эксперимента. Животные содержались в стандартных условиях SPF-вивария при постоянной температуре 23 °С и световом режиме «14 ч свет и 10 ч темнота» (включение и выключение света в 01:00 и 15:00 соответственно). Полноценный стерильный сухой корм и воду животные получали без ограничений. В возрасте 3 недель молодых животных отсаживали от матерей в группы по 4–5 животных одного пола в клетке (Optimice, «Animal Care Systems, Inc.», США). Животных маркировали засечками на ушах, и кусочки ушей, полученные при маркировке, использовали для выделения ДНК и определения генотипа животного. За два дня до начала эксперимента животных изолировали в отдельные клетки, чтобы уменьшить возможное влияние группового эффекта на активность TH. Животных усыпляли CO2, декапитировали, выделяли средний мозг, содержащий тела DA нейронов, экспрессирующих TH, замораживали его в жидком азоте и хранили при −80 °С до определения активности TH.
Генотипирование аллелей 886T и 886C. Образцы геномной ДНК выделяли из кусочков ушей, полученных при маркировке животных, с помощью осаждения насыщенным раствором NaCl, растворяли в стерильной воде, измеряли их оптическую плотность на спектрофотометре NanoDrop 2000 («Thermo Fisher Scientific», США) и разводили до концентрации 50 нг/мкл. Определение аллелей 886T и 886C проводили с помощью разработанного нами метода количественной ПЦР реального времени, используя набор реактивов R-402 («Синтол», Россия), прямого праймера (5′-GTAAGGGACCTCGCATCAGA-3′) и двух обратных T-аллель-(5′-CAGCTGGAGGATGTGTCACA-3′) и C-аллель-(5′-CAGCTGGAGGATGTGTCACG-3′) специфичных праймеров. Для увеличения специфичности T в 18 позиции аллель-специфичных праймеров был заменён на A. Для диагностики аллелей каждый образец ДНК (50 нг) амплифицировали сначала в присутствии прямого и T-специфичного праймеров, а затем прямого и C-специфичного праймеров на амплификаторе реального времени CFX96 («Bio-Rad», США) по рекомендованному производителем («Синтол») протоколу: 94 °С – 5 мин, (94 °С – 15 с, 60 °С – 60 с, 80 °С – 2 с, измерение флуоресценции) × 40 циклов. Количество продуктов определяли по флуоресценции флуорофора Sybr Green после нагревания смеси до 80 °С для плавления димеров. Пороговый цикл был 24–25 при совпадении аллели в образце ДНК с выбранным аллель-специфическим праймером и больше 28 в противном случае. Для большей точности диагностику каждой пробы повторяли 3 раза.
Приготовление проб для ОТ-ПЦР и ВЭЖХ. Для определения активности TH и уровня мРНК гена Th средний мозг гомогенизировали в 400 мкл холодного 50 мМ Tris-HCl, pH 6,0, с помощью микрогомогенизатора (Z359971, «Sigma-Aldrich», Германия). Аликвоту 100 мкл гомогената немедленно смешивали с 1 мл реагента ExtractRNA («Eurogene», Россия) для экстракции общей РНК, согласно протоколу производителя. Осадок РНК растворяли в 25 мкл стерильной воды, обрабатывали свободной от РНК ДНКазой EM-100 («Биолабмикс», Россия), согласно протоколу производителя, измеряли оптическую плотность на спектрофотометре NanoDrop 2000 («Thermo Fisher Scientific»), разводили стерильной водой до концентрации 125 нг/мкл и хранили при –80 °С. Качество образцов общей РНК проверяли с помощью электрофореза в 1%-ном агарозном геле: в дальнейшее исследование были взяты только образцы с чётко выраженными двумя полосами рибосомальной РНК.
Оставшиеся 300 мкл гомогената центрифугировали 15 мин при 12 700 об./мин (4 °С). Чистый супернатант переносили в чистые пробирки, определяли концентрацию белка по Бредфорду с помощью набора Bio-Rad Protein Assay («Bio-Rad»), согласно протоколу производителя, хранили при –80 °С и использовали для определения активности TH.
Определение активности TH. Нами был разработан метод количественного определения активности TH в тканях мозга с помощью ВЭЖХ по скорости синтеза L-DOPA. Аликвоту 15 мкл чистого супернатанта, содержащего TH, инкубировали 15 мин при 37 °С в присутствии 0,3 мМ L-тирозина («Sigma-Aldrich»), 0,3 мМ искусственного кофактора 6,7-диметил-5,6,7,8-тетрагидроптеридина (DMPH4, «Sigma-Aldrich»), 0,3 мМ ингибитора декарбоксилазы, m-гидроксибензилгидразина («Sigma-Aldrich»), и 5 ед. каталазы («Sigma-Aldrich») в конечном объёме 25 мкл. Инкубацию останавливали путём добавления 75 мкл 0,6 М HClO4. Белок осаждали центрифугированием 15 мин при 14 000 об./мин. Чистый супернатант разбавляли вдвое ультрачистой водой, чтобы снизить концентрацию кислоты до безопасного для детектора значения, 0,3 М. Синтезированный L-DOPA отделяли на колонке Luna C18(2) (длина 100 мм, диаметр 4,6 мм, размер частиц 5 мкм, «Phenomenex», США), которой предшествовала предколонка Zorbax SB-C8 (длина 12,5 мм, диаметр 4,6 мм, размер частиц 5 мкм, «Agilent», США) на хроматографе LC-20AD («Shimadzu Corporation», Япония). Мобильная фаза (pH 3,2) содержала 13,06 г KH2PO4, 200 мкл 0,5 М Na2ЭДТА, 300 мг натриевой соли 1-октансульфоновой кислоты, 940 мкл концентрированной H3PO4 и 130 мл метанола (13%) в 1 л. Скорость мобильной фазы была 0,6 мл/мин. Концентрацию синтезированного L-DOPA определяли с помощью электрохимического детектора DECADE II™ и стеклоуглеродного электрода VT-03 (3 мм, «Antec», Нидерланды). Температура колонки и детектора была 40 °С. В этих условиях время освобождения L-DOPA с колонки составляло 4 мин. Площадь пика L-DOPA определяли с помощью программы LabSolution LG/GC, версия 5.54 («Shimadzu Corporation») и калибровали с помощью стандартов 25, 50 и 100 пмоль L-DOPA. Активность TH выражали в пмоль L-DOPA, синтезированного за 1 мин, в пересчёте на 1 мг белка, измеренного по Бредфорду.
Примечание 1. Поскольку не было обнаружено следов эндогенного L-DOPA в супернатанте, тканевый контроль проб не проводился.
Примечание 2. К сожалению, время освобождения L-DOPA с колонки (4 мин) совпадает с таковым для кофакторов 5,6,7,8-тетрогидробиоптерина и 6-метил-5,6,7,8-тетрагидроптерина. Поэтому в исследованиях использовался только DMPH4 в качестве кофактора.
Определение уровня мРНК гена Th. Синтез кДНК осуществляли со случайным гексануклеотидным праймером с помощью набора реактивов R01 («Биолабмикс»), согласно протоколу производителя. Уровень кДНК гена Th определяли с помощью набора реактивов R-402 («Синтол»), прямого (5′-CCGTACACCCTGGCCATTGATG-3′) и обратного (5′-ATGAAGGCCAGGAGGAATGCAGG-3′) праймеров, специфичных для нуклеотидной последовательности экзона гена Th мыши, согласно протоколу производителя: 94 °С – 5 мин, (94 °С – 15 с, 64 °С – 60 с, 80 °С – 2 с, измерение флуоресценции) × 40 [31]. В качестве гена домашнего хозяйства использовали Polr2а. Образцы кДНК амплифицировали с прямым (5′-GTTGTCGGGCAGCAGAATGTAG-3′) и обратным (5′-TCAATGAGACCTTCTCGTCCTCC-3′) праймерами, специфичными для нуклеотидной последовательности экзона гена Polr2а мыши, согласно протоколу производителя: 94 °С – 5 мин, (94 °С – 15 с, 63 °С – 60 с, 80 °С – 2 с, измерение флуоресценции) × 40 [32]. Для калибровки значений порогового цикла использовали батарею стандартов, содержащих соответственно 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 копий геномной ДНК мыши в 1 мкл. Уровень экспрессии гена Th оценивали числом копий кДНК данного гена в пересчёте на 100 копий кДНК гена Polr2а [33].
Определение количества белка с помощью Вестерн-блот анализа. Уровень белка ТГ определяли с помощью Вестерн-блот анализа, как описано ранее [34]. Белок разделяли в 10%-ном геле с помощью SDS-PAGE гель-электрофореза. На одну дорожку добавляли аликвоту образца с общей концентрацией белка 10 мкг. Для выявления целевого белка были использованы поликлональные антитела кролика к белку TГ (1 : 500, ab112, «Abcam», Великобритания). В качестве внутреннего контроля были использованы поликлональные антитела кролика к глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназе, GAPDH (1 : 2000, ab9485, «Abcam»), и моноклональные антитела мыши к GAPDH (1 : 10 000, HC301, «TransGen», Китай). Экспрессию белка ТГ нормировали на экспрессию белка GAPDH и выражали в относительных единицах. Белок ТГ детектировали на 60 кДа, GAPDH – на 37 кДа.
Статистический анализ полученных результатов проводили в программе Statistica 9.0 («StatSoft, Inc.»). Значения уровня мРНК гена Th, уровня белка и активности TH в среднем мозге выражали как среднее ± ошибка среднего и анализировали с помощью однофакторного (межлинейные различия) и двухфакторного (F2) ANOVA с последующим межгрупповым сравнением методом LSD по Фишеру. Соответствие расщепления генотипов TT, TC и CC среди интеркроссов F2 соотношению 1 : 2 : 1 проверяли с помощью χ2-критерия Пирсона. Уровень значимости был принят равным 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сравнение экспрессии гена Th и активности TH в среднем мозге самцов мышей линий C57BL/6 (886T), DBA/2 (886T), CAST (886C). Мыши трёх исследуемых линий различались по активности TH в среднем мозге (F(2,14) = 21,68, p < 0,001). Активность фермента в среднем мозге мышей CAST была значительно выше, чем у мышей линий C57BL/6 (p < 0,001) и DBA/2 (p < 0,001) (рис. 1). В то же время межлинейных различий по уровню транскриптов гена Th (F(2,13) = 2,67, p = 0,11) и белка TH (F(2,14) = 1,23, p = 0,32) в среднем мозге данных линий мышей не выявлено (рис. 1).
Рис. 1. Активность TH (а), уровень мРНК гена Th (б) и уровень белка TH (в) в среднем мозге мышей инбредных линий C57BL/6 (TT), DBA/2 (TT) и подвида CAST (CC). Представлены индивидуальные значения, средние ± ошибки средних. Экспрессия гена Th калибрована на экспрессию гена Polr2а, а уровень белка TH калиброван на уровень белка GAPDH. *** p < 0,001 vs CAST
Активность TH в среднем мозге интеркроссов F2. Количество самцов и самок генотипов TT, TC и CC среди 42 интеркроссов F2 представлено в таблице. Для статистики данные по самцам и самкам каждого генотипа были объединены. Полученные значения хорошо соответствуют ожидаемому распределению 1 : 2 : 1 (χ2(1) = 0,805, p > 0,05).
Распределение числа самцов и самок с генотипами TT, TC и CC среди самцов и самок интеркроссов F2, полученных при скрещивании гибридов F1 (C57BL/6× CAST)
Генотип | Самцы | Самки | Самцы + самки |
TT | 5 | 3 | 8 |
TC | 13 | 10 | 23 |
CC | 5 | 6 | 11 |
Двухфакторный ANOVA выявил высокий вклад фактора «генотип» в активность TH в среднем мозге F2 (F(2,34) = 9,47, p < 0,001). В то же время не было обнаружено влияния фактора «пол» (F(1,34) < 1) и взаимодействия факторов (F(2,34) = 1,74, p = 0,19) на активность TH в среднем мозге мышей F2, что позволяет объединить значения для самцов и самок одного генотипа, чтобы увеличить выборки для каждого генотипа. Активность TH в среднем мозге у особей с генотипом TT была ниже, чем у особей с генотипом TC (p < 0,001) и CC (p = 0,02) (рис. 2). В то же время различий между генотипами по уровню белка TH выявлено не было (F(2,38) = 2,22, p = 0,12) (рис. 2).
Рис. 2. Активность (а) и уровень белка (б) TH в среднем мозге интеркроссов F2 с генотипами TT, TC и CC. Данные по самцам и самкам объединены. Представлены индивидуальные значения, средние ± ошибки средних. Уровень белка TH калиброван на уровень белка GAPDH. * p < 0,05, *** p < 0,001 vs TT
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Данное исследование предоставляет первое экспериментальное доказательство влияния распространённой мутации C886T в гене Th на активность TH в среднем мозге лабораторных мышей. Данная структура была выбрана потому, что TH экспрессируется в телах дофаминовых и норадреналиновых нейронов, расположенных в среднем мозге, а затем аксональным транспортом распределяется по другим структурам мозга, имеющим проекции от данных нейронов. На первом этапе исследования были сравнены активности TH в среднем мозге мышей двух генотипов, TT (C57BL/6 и DBA/2) и CC (CAST), и было обнаружено увеличение активности фермента у мышей с генотипом CC по сравнению с животными с генотипом TT. Хотя данная мутация находится в каталитическом домене молекулы TH и даже теоретически не может влиять на экспрессию гена Th, нельзя исключить, что увеличенная активность фермента у мышей CAST может быть вызвана неизвестными генетическими факторами, увеличивающими экспрессию данного гена и/или уровень белка. Для проверки этого предположения была измерена экспрессия гена Th и белка TH в среднем мозге мышей линий C57BL/6, DBA/2 и CAST. Не были выявлены различия по данным признакам между этими генотипами мышей. Можно предположить, что у данных трёх исследованных генотипов различия в активности фермента не связаны с регуляцией экспрессии кодирующего его гена и/или стабильности белка.
Строгое доказательство связи аллелей 886C и 886T с высокой и низкой активностью TH может быть получено только демонстрацией сцепления данных аллелей с высокой/низкой активностью фермента соответственно. Для этого были получены расщепляющиеся интеркроссы F2 и исследована связь активности TH с генотипами TT, TC и CC у этих мышей. Было показано, что распределение данных генотипов среди F2 хорошо соответствует ожидаемому менделевскому расщеплению 1 : 2 : 1, что, в свою очередь, может служить доказательством отсутствия влияния данной мутации на выживание мышей. Было показано, что активность TH в мозге мышей F2 с генотипами TC и CC выше, чем у мышей с генотипом TT. Этот результат не только демонстрирует сцепление высокой активности фермента с аллелью 886C, но и свидетельствует о том, что данный полиморфизм C886T в гене Th является основным генетическим фактором, определяющим активность TH в головном мозге мышей. Действительно, влияние данного фактора на активность TH настолько велико, что расщепление по огромному числу мутаций, по которым различаются мыши C57BL/6 и CAST, но которые теоретически могут влиять на активность TH, не может замаскировать эффект мутации C886T. В то же время не было выявлено сцепления данной мутации с уровнем белка TH. Этот результат можно рассматривать как дополнительное экспериментальное доказательство того, что полиморфизм C886T не влияет на экспрессию и/или стабильность белка TH.
Возникает закономерный вопрос о возможном молекулярном механизме снижения активности TH, вызванного заменой R278H в молекуле фермента. Наиболее ожидаемый механизм – снижение уровня активного белка за счёт уменьшения стабильности и времени жизни мутантного белка. В этом случае активность TH у гетерозигот должна равняться средней арифметической таковой у обоих гомозигот. Недавно было показано, что мутация C1473G в гене Tph2 мыши, вызывающая замену P447R в молекуле фермента, снижает стабильность молекулы ТPH2, уменьшает время её жизни и, как следствие, число активных молекул фермента [35]. Было показано, что активность TPH2 в мозге гетерозигот 1473CG равна среднему арифметическому активности фермента у гомозиготных особей 1473CC и 1473GG [36]. В данном исследовании не было обнаружено различий по активности TH между генотипами 886TC и 886CC, что свидетельствует о полном доминировании действия аллели 886C. Такой характер наследования противоречит гипотезе о влиянии мутации C886T на уровень белка TH. Поскольку TH, как и все гидроксилазы ароматических аминокислот, является тетрамером, состоящим из 4 субъединиц, можно предположить, что присутствие в сборке «нормальной» субъединицы (аллель 886C) у гетерозиготных животных каким-то образом корректирует негативное воздействие «дефектной» субъединицы (аллель 886T) на активность всего тетрамера. Однако выяснение точного механизма действия замены R278H на активность TH требует специального исследования на рекомбинантных молекулах TH.
Поскольку TH является ключевым ферментом синтеза DA, который регулирует двигательную активность, можно предполагать связь аллели 886C с увеличением уровня/метаболизма DA и двигательной активности. Однако на настоящем этапе эти предположения проверить невозможно из-за значительной неконтролируемой генетической вариабельности данных признаков. Для изучения связи мутации C886T с уровнем DA и двигательной активностью необходимо значительно снизить долю неконтролируемой вариации этих признаков за счёт проведения минимум 10 последовательных беккроссирований гетерозиготных особей (886CT) на линию C57BL/6 (886TT).
Данное исследование является пилотным, в котором однозначно доказано, что полиморфизм C886T представляет собой ключевой фактор, определяющий активность TH в мозге мышей. Мутация C886T является первой естественной распространённой мутацией в гене Th мыши, для которой показано влияние на активность фермента. Это открывает широкие возможности для экспериментального моделирования влияния функциональных мутаций в гене Th на выраженность физиологических функций в норме и при патологиях.
Вклад авторов. А.В. Куликов – концепция и руководство работой; И. Алсаллум, И.А. Рахов, А.В. Куликов – проведение экспериментов; Д.В. Базовкина, А.В. Куликов – обсуждение результатов исследования; А.В. Куликов – написание текста; Д.В. Базовкина, А.В. Куликов – редактирование текста статьи.
Финансирование. Работа выполнена при поддержке средств бюджетного проекта FWNR-2022-0023.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Соблюдение этических норм. Все процедуры выполняли в соответствии с международными правилами обращения с животными (National Institute of Health Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, NIH Publications No. 80023, 1996) и приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.04.2016 № 119н «Об утверждении правил надлежащей лабораторной практики» (зарегистрирован 15.08.2016, № 43232). Условия содержания животных и проведённые экспериментальные процедуры были одобрены Комиссией по биоэтике ИЦиГ СО РАН.
About the authors
I. Alsallum
Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Novosibirsk State University
Email: v_kulikov@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk; Novosibirsk
V. S. Moskalyuk
Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: v_kulikov@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk
I. A. Rakhov
Novosibirsk State University
Email: v_kulikov@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk
D. V. Bazovkina
Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: v_kulikov@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk
A. V. Kulikov
Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Novosibirsk State University
Author for correspondence.
Email: v_kulikov@bionet.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk; Novosibirsk
References
- Chinta, S. J., and Andersen, J. K. (2005) Dopaminergic neurons, Int. J. Biochem. Cell Biol., 37, 942-946, https:// doi.org/10.1016/j.biocel.2004.09.009.
- Björklund, A., and Dunnett, S. B. (2007) Dopamine neuron systems in the brain: an update, Trends Neurosci., 30, 194-202, https://doi.org/10.1016/j.tins.2007.03.006.
- Klein, M. O., Battagello, D. S., Cardoso, A. R., Hauser, D. N., Bittencourt, J. C., and Correa, R. G. (2019) Dopamine: functions, signaling, and association with neurological diseases, Cell. Mol. Neurobiol., 39, 31-59, https://doi.org/10.1007/s10571-018-0632-3.
- Channer, B., Matt, S. M., Nickoloff-Bybel, E. A., Pappa, V., Agarwal, Y., Wickman, J., and Gaskill, P. J. (2023) Dopamine, immunity, and disease, Pharmacol. Rev., 75, 62-158, https://doi.org/10.1124/pharmrev.122.000618.
- Tripp, G., and Wickens, J. R. (2009) Neurobiology of ADHD, Neuropharmacology, 57, 579-589, https://doi.org/ 10.1016/j.neuropharm.2009.07.026.
- Del Campo, N., Chamberlain, S. R., Sahakian, B. J., and Robbins, T. W. (2011) The roles of dopamine and noradrenaline in the pathophysiology and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder, Biol. Psychiatry, 69, e145-157, https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2011.02.036.
- Faraone, S. V. (2018) The pharmacology of amphetamine and methylphenidate: Relevance to the neurobiology of attention-deficit/hyperactivity disorder and other psychiatric comorbidities, Neurosci. Biobehav. Rev., 87, 255-270, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.02.001.
- Ribot, B., Aupy, J., Vidailhet, M., Mazère, J., Pisani, A., Bezard, E., Guehl, D., and Burbaud, P. (2019) Dystonia and dopamine: from phenomenology to pathophysiology, Prog. Neurobiol., 182, 101678, https://doi.org/10.1016/ j.pneurobio.2019.101678.
- Cherian, A., Paramasivan, N. K., and Divya, K. P. (2021) Dopa-responsive dystonia, DRD-plus and DRD look-alike: a pragmatic review, Acta Neurol. Belg., 121, 613-623, https://doi.org/10.1007/s13760-020-01574-1.
- Scarduzio, M., Hess, E. J., Standaert, D. G., and Eskow Jaunarajs, K. L. (2022) Striatal synaptic dysfunction in dystonia and levodopa-induced dyskinesia, Neurobiol. Dis., 166, 105650, https://doi.org/10.1016/j.nbd.2022.105650.
- Lander, M., Bastiampillai, T., and Sareen, J. (2018) Review of withdrawal catatonia: what does this reveal about clozapine? Transl. Psychiatry, 8, 139, doi: 10.1038/s41398-018-0192-9.
- Slavnic, B., Barnett, B. S., McIntire, S., Becker, R., Saba, S., Vellanki, K. D., Honaker, L., Weleff, J., and Carroll, B. T. (2023) Methamphetamine-associated catatonia: case series and systematic review of the literature from 1943-2020, Ann. Clin. Psychiatry, 35, 167-177, https://doi.org/10.12788/acp.0116.
- Puig, M. V., Antzoulatos, E. G., and Miller, E. K. (2014) Prefrontal dopamine in associative learning and memory, Neuroscience, 282, 217-229, https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2014.09.026.
- Zafiri, D., and Duvarci, S. (2022) Dopaminergic circuits underlying associative aversive learning, Front. Behav. Neurosci., 16, 1041929, https://doi.org/10.3389/fnbeh.2022.1041929.
- Kourosh-Arami, M., Komaki, A., and Zarrindast, M. R. (2023) Dopamine as a potential target for learning and memory: contributing to related neurological disorders, CNS Neurol. Disord. Drug Targets, 22, 558-576, https://doi.org/10.2174/1871527321666220418115503.
- Baik, J. H. (2013) Dopamine signaling in reward-related behaviors, Front. Neural Circuits, 7, 152, https://doi.org/ 10.3389/fncir.2013.00152.
- Hou, H., Wang, C., Jia, S., Hu, S., and Tian, M. (2014) Brain dopaminergic system changes in drug addiction: a review of positron emission tomography findings, Neurosci. Bull., 30, 765-776, https://doi.org/10.1007/s12264-014-1469-5.
- Solinas, M., Belujon, P., Fernagut, P. O., Jaber, M., and Thiriet, N. (2019) Dopamine and addiction: what have we learned from 40 years of research, J. Neural. Transm. (Vienna), 126, 481-516, https://doi.org/10.1007/s00702-018-1957-2.
- Poisson, C. L., Engel, L., and Saunders, B. T. (2021) Dopamine circuit mechanisms of addiction-like behaviors, Front. Neural Circuits, 15, 752420, https://doi.org/10.3389/fncir.2021.752420.
- Kobayashi, K., Morita, S., Sawada, H., Mizuguchi, T., Yamada, K., Nagatsu, I., Hata, T., Watanabe, Y., Fujita, K., and Nagatsu, T. (1995) Targeted disruption of the tyrosine hydroxylase locus results in severe catecholamine depletion and perinatal lethality in mice, J. Biol. Chem., 270, 27235-27243, https://doi.org/10.1074/jbc.270.45.27235.
- Kobayashi, K., Noda, Y., Matsushita, N., Nishii, K., Sawada, H., Nagatsu, T., Nakahara, D., Fukabori, R., Yasoshima, Y., Yamamoto, T., Miura, M., Kano, M., Mamiya, T., Miyamoto, Y., and Nabeshima, T. (2000) Modest neuropsychological deficits caused by reduced noradrenaline metabolism in mice heterozygous for a mutated tyrosine hydroxylase gene, J. Neurosci., 20, 2418-2426, https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.20-06-02418.2000.
- Bademci, G., Vance, J. M., and Wang, L. (2012) Tyrosine hydroxylase gene: another piece of the genetic puzzle of Parkinson’s disease, CNS Neurol Disord Drug Targets, 11, 469-481, https://doi.org/10.2174/187152712800792866.
- Nagatsu, T., Nakashima, A., Ichinose, H., and Kobayashi, K. (2019) Human tyrosine hydroxylase in Parkinson’s disease and in related disorders, J. Neural Transm. (Vienna), 126, 397-409, https://doi.org/10.1007/s00702-018-1903-3.
- Kobayashi, K., and Nagatsu, T. (2005) Molecular genetics of tyrosine 3-monooxygenase and inherited diseases, Biochem. Biophys. Res. Commun., 338, 267-270, https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2005.07.186.
- Asmus, F., and Gasser, T. (2010) Dystonia-plus syndromes, Eur. J. Neurol., 17, 37-45, https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2010.03049.x.
- Lee, W. W., and Jeon, B. S. (2014) Clinical spectrum of dopa-responsive dystonia and related disorders, Curr. Neurol Neurosci. Rep., 14, 461, doi: 10.1007/s11910-014-0461-9.
- Dong, H. Y., Feng, J. Y., Yue, X. J., Shan, L., and Jia, F. Y. (2020) Dopa-responsive dystonia caused by tyrosine hydroxylase deficiency: three cases report and literature review, Medicine (Baltimore), 99, e21753, doi: 10.1097/MD.0000000000021753.
- Craddock, N., Davé, S., and Greening, J. (2001) Association studies of bipolar disorder, Bipolar Disord., 3, 284-298, https://doi.org/10.1034/j.1399-5618.2001.30604.x.
- Beaulieu, J. M., Zhang, X., Rodriguiz, R. M., Sotnikova, T. D., Cools, M. J., Wetsel, W. C., Gainetdinov, R. R., and Caron, M. G. (2008) Role of GSK3 beta in behavioral abnormalities induced by serotonin deficiency, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 105, 1333-1338, https://doi.org/10.1073/pnas.0711496105.
- Kulikova, E. A., and Kulikov, A. V. (2019) Tryptophan hydroxylase 2 as a therapeutic target for psychiatric disorders: focus on animal models, Expert Opin. Ther. Targets, 23, 655-667, https://doi.org/10.1080/14728222. 2019.1634691.
- Fitzpatrick, P. F. (2023) The aromatic amino acid hydroxylases: structures, catalysis, and regulation of phenylalanine hydroxylase, tyrosine hydroxylase, and tryptophan hydroxylase, Arch. Biochem. Biophys., 735, 109518, https://doi.org/10.1016/j.abb.2023.109518.
- Popova, N. K., Kulikov, A. V., Kondaurova, E. M., Tsybko, A. S., Kulikova, E. A., Krasnov, I. B., Shenkman, B. S., Bazhenova, E. Y., Sinyakova, N. A., and Naumenko, V. S. (2015) Risk neurogenes for long-term spaceflight: dopamine and serotonin brain system, Mol. Neurobiol., 51, 1443-1451, https://doi.org/10.1007/s12035-014-8821-7.
- Naumenko, V. S., Osipova, D. V., Kostina, E. V., and Kulikov, A. V. (2008) Utilization of a two-standard system in real-time PCR for quantification of gene expression in the brain, J. Neurosci. Methods, 170, 197-203, https:// doi.org/10.1016/j.jneumeth.2008.01.008.
- Moskaliuk, V. S., Kozhemyakina, R. V., Bazovkina, D. V., Terenina, E., Khomenko, T. M., Volcho, K. P., Salakhutdinov, N. F., Kulikov, A. V., Naumenko, V. S., and Kulikova, E. (2022) On an association between fear-induced aggression and striatal-enriched protein tyrosine phosphatase (STEP) in the brain of Norway rats, Biomed. Pharmacother., 147, 112667, https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112667.
- Arefieva, A. B, Komleva, P. D., Naumenko, V. S., Khotskin, N. V., and Kulikov, A. V. (2023) In vitro and in vivo chaperone effect of (R)-2-amino-6-(1R, 2S)-1,2-dihydroxypropyl)-5,6,7,8-tetrahydropterin-4(3H)-one on the C1473G mutant tryptophan hydroxylase 2, Biomolecules, 13, 1458, https://doi.org/10.3390/biom13101458.
- Куликов А. В., Осипова Д. В., Попова Н. К. (2007) Полиморфизм C1473G в гене tph2 – основной фактор, определяющий генетическую изменчивость активности триптофангидроксилазы-2 в головном мозге мышей, Генетика, 43, 1676-1682.
Supplementary files