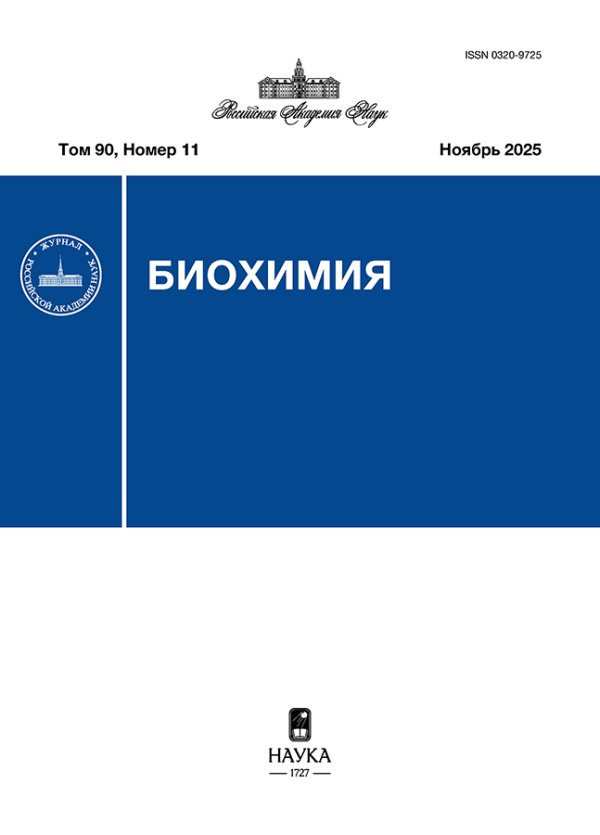Design, In Silico Evaluation, and Determination of Antitumor Activity of Potential Inhibitors Against Protein Kinases: Application to Bcr-Abl Tyrosine Kinase
- Authors: Koroleva E.V.1, Ermolinskaya A.L.1, Ignatovich Z.V.1, Kornoushenko Y.V.2, Panibrat O.V.2, Potkin V.I.3, Andrianov A.M.2
-
Affiliations:
- Institute of Chemistry of New Materials of the National Academy of Sciences of Belarus
- Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus
- Institute of Physical-Organic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus
- Issue: Vol 89, No 6 (2024)
- Pages: 1087-1103
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0320-9725/article/view/274182
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0320972524060099
- EDN: https://elibrary.ru/XLIAIQ
- ID: 274182
Cite item
Full Text
Abstract
Despite significant progress made over the past two decades in the treatment of chronic myeloid leukemia (CML), there is currently still an unmet need for effective and safe drugs to treat patients with resistance and intolerance to clinically used drugs. In this work, 2-arylaminopyrimidine amides of isoxazole-3-carboxylic acid were designed followed by in silico assessment of the inhibitory potential of these compounds against Bcr-Abl tyrosine kinase and determination of their antitumor activity on cell models of the K562 (chronic myeloid leukemia), HL-60 (acute promyelocytic leukemia), and HeLa (cervical cancer) lines. As a result of the joint analysis of computational and experimental data, three compounds exhibiting antitumor activity against cells of the K562 and HL-60 lines were identified. A lead compound demonstrating effective inhibition of the growth of these cells was found, as evidenced by the low values of IC50 equal to 2.8 ± 0.8 μM (K562) and 3.5 ± 0.2 μM (HL-60). The results obtained indicate that the identified compounds form good scaffolds for the design of novel, effective and safe anticancer drugs able to inhibit the catalytic activity of Bcr-Abl kinase by blocking the ATP-binding site of the enzyme.
Full Text
Принятые сокращения: МД – молекулярная динамика; ХМЛ – хронический миелоидный лейкоз; RMSD – среднеквадратичное отклонение.
ВВЕДЕНИЕ
Гибридный ген BCR-ABL1, образующийся в результате реципрокной транслокации между хромосомами 9 и 22 (филадельфийская хромосома), кодирует тирозинкиназу Bcr-Abl с аномально высокой активностью, которая регулирует сигналы, ответственные за клеточный рост, активацию, дифференцировку, адгезию и апоптоз [1, 2]. Tирозинкиназа Bcr-Abl играет ключевую роль в патогенезе хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ), характеризующегося быстрым неконтролируемым ростом миелоидных клеток в периферической крови и костном мозге, и в 20−50% случаев является причиной острого B-лимфобластного лейкоза взрослых [3–5]. Первый препарат для лечения пациентов с ХМЛ, иматиниб, одобренный в 2001 году Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA; https://www.fda.gov/; по состоянию на 28.02.2024), селективно взаимодействует с ATP-связывающей полостью тирозинкиназы Bcr-Abl [6–8]. Связывание иматиниба с каталитическим центром белка приводит к ингибированию его активности in vitro и in vivo, подавлению пролиферации и апоптозу в клетках, экспрессирующих тирозинкиназу Bcr-Abl при Ph-позитивном ХМЛ [9–11]. В результате терапии иматинибом у больных с ХМЛ через 2 года после начала лечения наблюдается полный цитогенный ответ с состоянием стойкой ремиссии в течение длительного времени [9–11]. Иматиниб является также эффективным лекарственным средством для лечения острого лимфоцитарного лейкоза с филадельфийской хромосомой, некоторых типов стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта, гиперэозинофильного синдрома, хронического эозинофильного лейкоза, системного мастоцитоза и миелодиспластического синдрома [5]. Однако, несмотря на значительный прогресс, достигнутый при лечении ХМЛ иматинибом, у части пациентов развивается резистентность к этому препарату, что приводит к повышению уровня тирозинкиназы Bcr-Abl [12–15]. Одной из основных причин этого является мутация T315I в гене ABL, которая нарушает важные взаимодействия иматиниба с целевым белком [12–15].
За последние два десятилетия с момента открытия иматиниба были разработаны и одобрены FDA для лечения ХМЛ ингибиторы тирозинкиназы Bcr-Abl второго и третьего поколения, среди которых в первую очередь следует отметить нилотиниб, дазатиниб, бозутиниб и понатиниб, взаимодействующие с ATP-связывающим центром фермента, а также аллостерический ингибитор с альтернативным механизмом действия − асциминиб [16–20]. Все эти противоопухолевые агенты проявляют повышенную ингибиторную активность, по сравнению с иматинибом, и эффективны во многих случаях, когда возникает резистентность к этому препарату [16–20]. Их применение позволило значительно увеличить продолжительность жизни пациентов с ХМЛ, а также с некоторыми стромальными опухолями желудочно-кишечного тракта [16–20]. Однако, наряду с терапевтическим эффектом, лечение этими препаратами может сопровождаться рядом гематологических и негематологических побочных эффектов, связанных с их относительно высокой токсичностью [12, 19, 20]. Кроме того, мутации, возникающие в ATP-связывающей полости тирозинкиназы Bcr-Abl, могут вызывать резистентность к используемым препаратам, оставляя пациентам ограниченные возможности лечения [13, 14, 16, 19, 20]. На сегодняшний день мутация T315I является главной причиной развития первичной и вторичной резистентности к терапии ингибиторами тирозинкиназы Bcr-Abl у пациентов с хронической фазой ХМЛ [14, 18]. В связи с этим в настоящее время проводятся многочисленные исследования по разработке противоопухолевых агентов, эффективных для лечения больных ХМЛ с мутацией T315I в гене ABL. Подробная информация об этих исследованиях представлена в недавних обзорных статьях [12, 14, 18], свидетельствующих о том, что работы по созданию новых эффективных препаратов против ХМЛ, которые могут преодолевать приобретаемую в ходе лечения резистентность, по-прежнему являются чрезвычайно актуальными.
Современный дизайн лекарственных препаратов все больше ориентируется на разработку многоцелевых ингибиторов, содержащих два и более фармакофора из разных органических веществ, что усиливает активность соединений-предшественников и даже приводит к новым видам биологической активности за счет появления дополнительных взаимодействий с целевым белком [21]. В соответствии с этой терапевтической стратегией в настоящей работе осуществлен дизайн производных 2-ариламинопиримидина – основного фармакофора иматиниба [11, 20], содержащих фрагмент 5-арилзамещенного изоксазола – азольного соединения, присутствующего в структурах многих противоопухолевых агентов с различными механизмами действия [22]. Методами молекулярного докинга и молекулярной динамики (МД) проведена оценка потенциала ингибиторной активности этих соединений по отношению к тирозинкиназе Bcr-Abl и ее мутантной форме T315I и выполнено их тестирование на противоопухолевую активность с использованием моделей опухолевых клеток in vitro. В результате проведенных исследований идентифицированы три соединения, перспективные для разработки новых кандидатов в лекарственные средства для терапии пациентов с ХМЛ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Теоретическая часть. Дизайн потенциальных ингибиторов тирозинкиназы Bcr-Abl. Способность соединений 2-ариламинопиримидинового ряда блокировать процесс канцерогенеза путем ингибирования протеинкиназ обусловила использование пиримидинового гетероцикла в качестве ключевого фармакофора многих соединений, на основе которых разработаны эффективные противораковые лекарства [11, 15, 20, 23, 24]. Дизайн гибридных молекул осуществляли путем объединения 2-ариламинопиримидинового фармакофора с фрагментом 5-арилзамещенного изоксазола, используя различные комбинации метильных заместителей в кислотном и аминном остатках амида. В структурах целевых амидов присутствовали два фармакофорных фрагмента – 2-аминопиримидин в аминном остатке и изоксазол в кислотном остатке, связанные между собой через фениламидный линкер. При этом кислотные и аминные остатки в амиде соединяли амидным линкером, способным образовывать водородные связи в активном центре тирозинкиназы Bcr-Abl. В результате были сконструированы пять химерных молекул, различающихся положением метильных заместителей в кислотном остатке и аминосодержащем остатке. Согласно данным работы Schönherr и Cernak [25], варьирование положений метильных заместителей в структурах биоактивных молекул может оказывать существенное влияние на их ингибиторную активность и в отдельных случаях приводит к ее увеличению более чем на 2 порядка. Эти данные обусловили использование в настоящем исследовании стратегии «магического метильного эффекта» [25] для дизайна потенциальных ингибиторов тирозинкиназы Bcr-Abl на основе химерных молекул, объединяющих ключевые фармакофоры разных противоопухолевых агентов, нацеленных на разные терапевтические мишени.
Для генерации двумерных структур молекул использовали программный пакет ChemDraw 18.0 (https://perkinelmerinformatics.com/products/research/chemdraw; по состоянию на 28.02.2024), а затем с помощью программы Open Babel 2.4.1 [26] рассчитывали их трехмерные структуры с последующей оптимизацией геометрии и минимизацией энергии в силовом поле UFF [27]. Физико-химические параметры соединений рассчитывали с помощью веб-сервера SwissADME [28]. Для оценки липофильности молекул использовали среднее арифметическое значений LogP, вычисленных для каждого лиганда с привлечением методов XLOGP3, WLOGP, MLOGP, SILICOS-IT и iLOGP [28].
Оценку потенциальной ингибиторной активности сконструированных соединений против тирозинкиназы Bcr-Abl и Bcr-AblT315I проводили с помощью методов молекулярного докинга и молекулярной динамики.
Молекулярный докинг. Подготовку соединений для молекулярного докинга осуществляли с помощью программного пакета MGLTools [29]. Молекулярный докинг проводили с использованием программы AutoDock Vina 1.1.2 [30] в приближении жесткого рецептора и гибких лигандов. Трехмерные структуры тирозинкиназы Bcr-Abl и Bcr-AblT315I заимствовали из Банка данных белков (https://www.rcsb.org; PDB ID: 3KFA и 3OY3 соответственно; по состоянию на 28.02.2024). Ячейку для докинга конструировали с использованием программных средств AutoDockTools 1.5.6 (https://ccsb.scripps.edu/mgltools/1-5-6/; по состоянию на 28.02.2024). Для этого с помощью программного пакета UCSF Chimera 1.15 [31] структуру нативной тирозинкиназы накладывали на структуру ее мутантной формы T315I, совмещали их по атомам Cα и подбирали размеры ячейки таким образом, чтобы она полностью включала ATP-связывающую полость фермента. В результате построенная ячейка имела следующие параметры: ΔX = 31 Å, ΔY = 23 Å, ΔZ = 23 Å с центром при X = 18 Å, Y = 8 Å, Z = 6 Å в системе координат тирозинкиназы Bcr-Abl с мутацией T315I. Параметр, характеризующий полноту поиска (охват конформационного пространства), был задан равным 100 [30].
Значения свободной энергии связывания лигандов с тирозинкиназой Bcr-Abl и Bcr-AblT315I рассчитывали с помощью классической оценочной функции AutoDock Vina 1.1.2 [30] и двух функций машинного обучения − RF-Score-4 [32] и NNScore 2.0 [33]. Межмолекулярные взаимодействия в статических моделях комплексов лигандов с ферментом идентифицировали с помощью программы BINANA 1.3 [34]. Структуры комплексов лиганд/Bcr-Abl визуализировали средствами программного пакета UCSF Chimera 1.15 [31].
Молекулярную динамику комплексов сконструированных соединений с тирозинкиназой Bcr-Abl и Bcr-AblT315I выполняли в программном пакете Amber18 с использованием силовых полей Amber ff14SB (киназа Bcr-Abl) и GAFF (лиганды) [35]. Для задания парциальных зарядов атомов (модель AM1-BCC) использовали модуль Antechamber программного пакета AmberTools18 [35]. Атомы водорода добавляли с помощью программы tleap пакета AmberTools18 [35]. Комплексы лиганд/Bcr-Abl помещали в кубическую ячейку, заполняли растворителем (модель воды TIP3P [35]) и добавляли ионы Na+ и Cl− до значения ионной силы, равного 0,15 М. Систему минимизировали методами наискорейшего спуска (500 шагов) и сопряженных градиентов (500 шагов), нагревали от 0 К до 300 К в течение 50 пс в рамках статистического ансамбля NVT и термостата Ланжевена, а затем уравновешивали в течение 50 пс и давлении 1,0 атм (ансамбль NPT, баростат Берендсена). На заключительном шаге систему уравновешивали в течение 0,5 нс при постоянном объеме и проводили молекулярную динамику длительностью 200 нс в изобарно-изотермических условиях при температуре 300 К и давлении 1 атм.
Анализ молекулярно-динамических траекторий комплексов лиганд/Bcr-Abl. Средние значения энергии связывания для динамических моделей комплексов лиганд/Bcr-Abl рассчитывали с помощью метода MM/GBSA [36–38] в программном пакете AMBER18 [35]. При расчете свободной энергии первые 50 нс МД-моделирования отводили на релаксацию системы и не учитывали при анализе МД-траекторий. Энергию связывания вычисляли для 150 комплексов МД-траектории, разделенных интервалом 1 нс. Для расчета полярной составляющей энергии сольватации использовали континуальную модель растворителя Пуассона–Больцмана с ионной силой 0,15 М. Неполярные компоненты свободной энергии гидратации вычисляли на основе расчетов площади поверхности, доступной растворителю [35]. Энтропийную компоненту свободной энергии Гиббса рассчитывали с использованием программного модуля Nmode [35]. Анализ МД-траекторий выполняли с помощью программного модуля CPPTRAJ пакета AmberTools18 [35]. Для положительного контроля в расчетах МД использовали комплексы тирозинкиназы Bcr-Abl и Bcr-AblT315I с иматинибом и понатинибом, построенные методом молекулярного докинга. Кроме того, для анализа конформационной стабильности комплексов лиганд/Bcr-Abl проводили МД-расчеты нативной тирозинкиназы и ее мутантной формы T315I в свободном состоянии. При этом в качестве стартовых моделей использовали кристаллические структуры фермента (PDB ID: 3KFA и 3OY3).
Экспериментальная часть. Тестирование на противоопухолевую активность. Соединения, синтезированные по методике, описанной нами ранее [39], тестировали на противоопухолевую активность с использованием моделей клеточных линий K562 (хронический миелоидный лейкоз), HL-60 (острый промиелоцитарный лейкоз) и HeLa (карцинома шейки матки). Для анализа использовали тест на жизнеспособность, основанный на свойстве митохондрий живых клеток в процессе аэробного дыхания восстанавливать резазурин до резоруфина, флуоресцирующего в щелочной среде желто-красным цветом [40].
Клеточные линии K562, HL-60 и HeLa были получены из Российской коллекции клеточных культур (Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург; центр коллективного пользования «Коллекция культур клеток позвоночных»; https://incras-ckp.ru). Клетки линий K562 и HL-60 выращивали в питательной среде RPMI 1640 («Sigmа-Aldrich», США), а HeLa – в питательной среде DMEM. В обоих случаях в среду добавляли 10% фетальной бычьей сыворотки и смесь антибиотиков пенициллина (100 ед./мл), стрептомицина (100 мкг/мл) и антимикотика амфотерицина (25 мкг/мл) при 37 °С во влажной атмосфере, содержащей 5% СО2. Клетки помещали в 96-луночный планшет («Sarstedt», Германия) в концентрации 104 клеток на лунку в 100 мкл среды и добавляли тестируемые вещества в концентрациях 0,1, 1,0, 10,0, 25,0 и 50,0 мкM. Для этого исходные растворы (20 мМ) соединений в ДМСО последовательно разводили инкубационной средой до конечных концентраций и добавляли к контролю 0,5% ДМСО. После 72 ч культивирования клеток с исследуемыми соединениями в стандартных условиях в каждую лунку 96-луночного планшета добавляли 20 мкл резазурина в концентрации 250 мкМ. Через 3 ч экспозиции при 37 °С в атмосфере 5% CO2 клетки восстанавливали синий резазурин до розового резоруфина. Количество восстановленного продукта измеряли по флуоресценции при длине волны возбуждения 530–570 нм и длине волны испускания 590 нм на планшетном анализаторе Tecan Infinite M200 («Tecan», Австрия). Жизнеспособность клеток в присутствии исследуемого соединения рассчитывали по формуле:
, (1)
где ФЛ − флуоресценция.
Концентрацию препарата, которая вызывает 50%-ное ингибирование жизнеспособности клеток (IC50), рассчитывали графически по дозозависимой кривой в программе MS Excel. Все эксперименты проводили в трех независимых повторах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ данных молекулярного докинга показал, что комплексы сконструированных соединений (рис. 1) с тирозинкиназой Bcr-Abl и Bcr-AblT315I проявляют низкие значения свободной энергии связывания (табл. 1). Из данных табл. 1 следует, что эти значения сопоставимы с величинами, рассчитанными с использованием идентичного вычислительного протокола для контрольных ингибиторов, и близки к экспериментальному значению −11,0 ± 0,3 ккал/моль, полученному для комплекса иматиниба с нативной тирозинкиназой Bcr-Abl в работе Agafonov et al. [41]. Важно отметить, что различия между экспериментальным значением энергии связывания и величинами, предсказанными для этого комплекса с помощью трех разных оценочных функций, составляют 0,1 ккал/моль (AutoDock Vina 1.1.2, RFScore 4) и 1,1 ккал/моль (NNScore 2.0) (табл. 1). Эти результаты, указывающие на высокий потенциал ингибиторной активности сконструированных молекул против тирозинкиназы Bcr-Abl и ее мутантной формы T315I, в целом согласуются с выводами, сделанными на основе анализа динамических моделей комплексов лиганд/Bcr-Abl. Данные МД показали (табл. 2), что с учетом величин стандартных отклонений, средние значения свободной энергии связывания анализируемых соединений с ферментом сопоставимы с величинами, предсказанными для иматиниба, но уступают при этом понатинибу – ингибитору тирозинкиназы Bcr-Abl третьего поколения, широко используемому в клинике для терапии ХМЛ [18, 19]. Исключение составляет соединение IV, которое показало гораздо более низкое сродство к обеим терапевтическим мишеням по сравнению с контрольными ингибиторами (табл. 2). Анализ средних значений свободной энергии связывания и стандартных отклонений (табл. 2) дает основание предположить, что комплексы сконструированных соединений с тирозинкиназой Bcr-Abl и ее мутантной формой T315I относительно стабильны в течение МД-расчетов. Это предположение подтверждают данные о временных зависимостях среднеквадратичных отклонений (RMSD, Root-Mean-Square Deviations) координат атомов динамических структур комплексов от их стартовых моделей, построенных методом молекулярного докинга (рис. 2). Согласно приведенным на рис. 2 графикам зависимости RMSD от времени, средним значениям этих величин и стандартным отклонениям, анализируемые комплексы не подвергаются значительным структурным преобразованиям на МД-траекториях. Так, для нативной тирозинкиназы Bcr-Abl средние значения RMSD и стандартные отклонения, равные 3,8 ± 0,5 Å (соединение I), 2,8 ± 0,6 Å (соединение II), 3,2 ± 0,6 Å (соединение III), 3,0 ± 0,5 Å (соединение IV) и 3,2 ± 0,8 Å (соединение V), сопоставимы с величинами 3,0 ± 0,6 Å и 2,4 ± 0,4 Å, полученными для иматиниба и понатиниба соответственно (рис. 2).
Рис. 1. Химические структуры сконструированных соединений
Таблица 1. Значения свободной энергии связывания ΔG, рассчитанные для статических моделей комплексов лиганд/Bcr-Abl и лиганд/Bcr-AblT315I с помощью оценочных функций AutoDock Vina 1.1.2, RFScore 4 и NNScore 2.0
Лиганд | ΔGVina, ккал/моль | ΔGRFScore4, ккал/моль | ΔGNNScore2.0, ккал/моль | |||
Bcr-Abl | Bcr-AblT315I | Bcr-Abl | Bcr-AblT315I | Bcr-Abl | Bcr-AblT315I | |
I | –12,5 | –10,9 | –11,4 | –11,3 | –11,0 | –11,3 |
II | –11,8 | –10,8 | –11,4 | –11,1 | –12,6 | –9,8 |
III | –12,2 | –11,0 | –11,4 | –11,3 | –0,6 | –11,2 |
IV | –11,4 | –10,6 | –11,1 | –11,2 | –11,4 | –10,9 |
V | –11,8 | –10,7 | –11,3 | –11,5 | –11,1 | –10,4 |
Иматиниб | –10,9 | –9,3 | –11,1 | –11,1 | –12,1 | –9,5 |
Понатиниб | –12,0 | –12,2 | –11,4 | –11,3 | –12,2 | –12,3 |
Таблица 2. Средние значения свободной энергии связывания <ΔG> и соответствующие им стандартные отклонения ΔGSTD, рассчитанные для динамических моделей комплексов лиганд/Bcr-Abl и лиганд/Bcr-AblT315I
Лиганд | <ΔH>, ккал/моль | ΔHSTD, ккал/моль | <TΔS>, ккал/моль | (TΔS)STD, ккал/моль | <ΔG>, ккал/моль | ΔGSTD, ккал/моль |
Тирозинкиназа Bcr-Abl | ||||||
I | –46,4 | 3,2 | –23,2 | 6,5 | –23,3 | 7,3 |
II | –47,3 | 3,3 | –25,9 | 7,6 | –21,4 | 8,1 |
III | –43,8 | 4,4 | –25,0 | 6,6 | –18,9 | 8,1 |
IV | –34,1 | 2,9 | –24,8 | 5,3 | –9,3 | 6,0 |
V | –47,3 | 4,4 | –24,5 | 6,9 | –22,7 | 8,4 |
Иматиниб | –50,0 | 4,8 | –26,6 | 6,9 | –23,4 | 8,2 |
Понатиниб | –55,1 | 3,2 | –26,1 | 6,8 | –29,0 | 7,1 |
Тирозинкиназа Bcr-AblT315I | ||||||
I | –41,5 | 3,5 | –27,2 | 5,5 | –14,3 | 6,5 |
II | –47,2 | 4,9 | –25,2 | 6,0 | –22,0 | 8,0 |
III | –29,5 | 3,2 | –21,4 | 6,3 | –8,1 | 7,2 |
IV | –26,0 | 2,7 | –23,4 | 5,2 | –2,6 | 5,9 |
V | –33,8 | 3,4 | –27,1 | 7,6 | –6,7 | 8,6 |
Иматиниб | –39,4 | 3,5 | –25,9 | 5,7 | –13,6 | 6,9 |
Понатиниб | –53,3 | 3,7 | –26,7 | 6,5 | –26,7 | 7,0 |
Рис. 2. Временные зависимости значений RMSD (Å), рассчитанных между динамическими и стартовыми структурами комплексов соединений I−V с тирозинкиназой Bcr-Abl (голубая линия) и Bcr-AblT315I (синяя линия). В правом верхнем углу указаны средние значения RMSD и стандартные отклонения для нативного фермента, а в правом нижнем – для его мутантной формы. Приведены также соответствующие данные для контрольных соединений и фермента в свободном состоянии
В случае мутантной формы фермента средние значения RMSD и стандартные отклонения для соединений I−V равны 2,5 ± 0,4 Å (соединение I), 2,8 ± 0,5 Å (соединение II), 2,7 ± 0,5 Å (соединение III), 3,1 ± 0,7 Å (соединение IV) и 3,0 ± 0,8 Å (соединение V) и близки к величинам, рассчитанным для иматиниба (2,8 ± 0,6 Å) и понатиниба (2,9 ± 0,9 Å). В то же время для тирозинкиназы Bcr-Abl и Bcr-AblT315I в свободном состоянии эти значения, составляющие соответственно 3,4 ± ± 0,6 Å и 2,6 ± 0,6 Å, сопоставимы с величинами, рассчитанными для анализируемых соединений в комплексах с ферментом (рис. 2). Эти данные, свидетельствующие об относительной конформационной стабильности комплексов лиганд/Bcr-Abl, подтверждают результаты анализа тепловых карт RMSD (рис. 3), которые позволяют оценивать по всей МД-траектории сходства и различия между динамическими структурами в терминах RMSD. Для комплексов сконструированных и контрольных соединений с тирозинкиназой Bcr-Abl и ее мутантной формой T315I средние значения RMSD, вычисленные путем сравнения каждой последующей динамической структуры с предыдущей, варьируют в интервале от 0,78 ± 0,07 Å до 0,82 ± 0,07 Å.
Рис. 3. Тепловые карты RMSD, полученные для комплексов тирозинкиназы Bcr-Abl (а) и ее мутантной формой T315I (б) с соединениями I−V, контрольными ингибиторами и фермента в свободном состоянии в разное время моделирования МД. Значения RMSD рассчитывали для атомов основной цепи тирозинкиназы. Время измеряется по осям абсцисс и ординат. Значение RMSD между структурами комплексов в моменты времени t1 и t2 находится на пересечении значений t1 по оси абсцисс и t2 по оси ординат
Дополнительным свидетельством относительной устойчивости комплексов на МД-траекториях являются данные о временных зависимостях значений свободной энергии связывания, которые, несмотря на значительные флуктуации в отдельные промежутки времени, не проявляют тенденции к увеличению в исследованном временном интервале (рис. 4). Тем не менее необходимо отметить, что в ряде случаев наблюдается кратковременное существенное снижение сродства лигандов к активному центру тирозинкиназы Bcr-Abl, однако это не приводит к распаду комплексов, что подтверждают величины энергии связывания на заключительных кадрах МД-траекторий (рис. 4), а также их визуальный анализ.
Рис. 4. Временные зависимости свободной энергии связывания для комплексов соединений I−V с тирозинкиназой Bcr-Abl (голубая линия) и Bcr-AblT315I (синяя линия). С помощью оранжевой и желтой линий показано простое скользящее среднее с размером окна 20 нс. Сверху и снизу приведены средние значения свободной энергии связывания и соответствующие им стандартные отклонения, рассчитанные соответственно для нативной и мутантной тирозинкиназы Bcr-Abl. Приведены также соответствующие данные для контрольных соединений
В табл. 3 приведены физико-химические параметры сконструированных соединений, традиционно используемые при отборе молекул, потенциально эффективных при пероральном применении. Из анализа данных табл. 3 следует, что эти параметры полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к лекарству-кандидату «правилом пяти» Lipinski [42, 43], которые обеспечивают такие важные характеристики, как всасывание, распределение, метаболизм и экскреция.
Таблица 3. Физико-химические параметры сконструированных соединений и контрольных ингибиторов иматиниба и понатиниба
Лиганд | Химическая формула | Молекулярная масса (Да) | LogP | Число доноров водородной связи | Число акцепторов водородной связи |
I | C27H22N6O2 | 462,5 | 4,2 | 2 | 6 |
II | C26H20N6O2 | 448,5 | 4,0 | 2 | 6 |
III | C26H20N6O2 | 448,5 | 3,9 | 2 | 6 |
IV | C27H22N6O2 | 462,5 | 4,3 | 2 | 6 |
V | C26H20N6O2 | 448,5 | 3,8 | 2 | 6 |
Иматиниб | C29H31N7O | 493,6 | 3,4 | 2 | 6 |
Понатиниб | C29H27F3N6O | 532,6 | 4,3 | 1 | 8 |
Кроме того, по данным компьютерного прогнозирования, проведенного с помощью веб-сервера открытого доступа ProTox-II (https://tox-new.charite.de/protox_II/), рассматриваемые соединения обладают низкой цитотоксичностью и относятся к четвертому классу острой пероральной токсичности, характеризующемуся значениями полулетальной дозы 300 мг/кг < LD50 ≤ 2000 мг/кг [44].
Таким образом, in silico оценка сконструированных соединений показала, что, наряду с потенциальной ингибиторной активностью по отношению к тирозинкиназе Bcr-Abl и Bcr-AblT315I, эти молекулы имеют приемлемые фармакокинетические и токсикологические характеристики. Тем не менее среди сконструированных соединений следует выделить лиганд IV, для которого, как было отмечено выше, не наблюдалось соответствия между данными молекулярного докинга и молекулярной динамики. Однако при анализе полученных результатов необходимо иметь в виду, что все вычислительные подходы к моделированию структуры комплексов белков с лигандами и к оценке энергии межмолекулярных взаимодействий связаны с различными приближениями, необходимыми для решения задачи, что не всегда приводит к удовлетворительной корреляции между расчетными и экспериментальными данными [45, 46]. Поэтому все сконструированные in silico соединения, включая лиганд IV, были синтезированы и исследованы на противоопухолевую активность in vitro.
На рис. 5 показаны графики зависимости жизнеспособности клеток линий K562, HL-60 и HeLa от концентрации лигандов, а в табл. 4 приведены данные о противоопухолевой активности этих соединений, представленные в величинах IC50. Из анализа этих данных видно, что соединения I−III ингибируют рост клеток крови линий K562 и HL-60, однако не оказывают существенного воздействия на жизнеспособность эпителиальных клеток линии HeLa. В то же время соединение IV демонстрирует противоопухолевую активность только против клеток линии HL-60, а соединение V неактивно во всех рассматриваемых случаях (табл. 4). Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что соединение III оказалось неактивным по отношению к клеткам линий К562 и HeLa, но в виде метансульфоната эта молекула проявила ингибиторную активность против клеток K562 (табл. 4; рис. 5). В ряду проявивших противоопухолевую активность молекул следует особо выделить соединение I, эффективно подавляющее рост клеток линий K562 и HL-60, что подтверждается низкими значениями IC50, равными 2,8 ± 0,8 мкМ и 3,5 ± 0,2 мкМ соответственно (табл. 4; рис. 5).
Рис. 5. Зависимости жизнеспособности клеток (% от контроля) от концентрации исследуемых соединений (log концентрации [моль/литр]). III* − Солевая форма соединения III в виде метансульфоната
Таблица 4. Противоопухолевая активность соединений in vitro
Соединение | Клеточная линия | ||
K562 | HL-60 | HeLa | |
IC50 (мкМ) | |||
I | 2,8 ± 0,8 | 3,5 ± 0,2 | > 50,0 |
II | 14,4 ± 3,5 | 4,5 ± 2,8 | > 50,0 |
III | > 50,0 | 11,3 ± 3,0 | > 50,0 |
III* | 17,4 ± 3,0 | 14,5 ± 1,3 | > 50,0 |
IV | > 50,0 | 47,6 ± 2,1 | > 50,0 |
V | > 50,0 | > 50,0 | > 50,0 |
Примечание. III* − Солевая форма соединения III в виде метансульфоната.
Очевидно, что, несмотря на установленную противоопухолевую активность соединений I–III по отношению к клеткам ХМЛ К562, полученные данные не доказывают способность этих молекул к специфическим взаимодействиям с тирозинкиназой Bcr-Abl, предсказанную методами молекулярного моделирования. Более того, согласно этим данным, соединения I−III ингибируют рост клеток острого промиелоцитарного лейкоза HL-60, экспрессирующих онкогенный фузионный белок PML-RARalpha, который играет важную роль в патогенезе данного онкологического заболевания крови [47]. Это дает основание предполагать, что соединения I–III представляют собой мультитаргетные ингибиторы опухолевого роста, что, вероятно, может быть обусловлено одновременным присутствием в их составе фрагментов 2-ариламинопиримидина и изоксазола, производные которых, как было отмечено выше, часто встречаются в структурах молекул, ингибирующих пролиферацию различных типов опухолевых клеток [20, 22].
Следует отметить, что наблюдаемые различия в противоопухолевой активности соединений I−III по отношению к лейкозным клеткам крови K562, HL-60 и опухолевым клеткам эпителия шейки матки HeLa (табл. 4) могут быть обусловлены разной степенью комплементарности их структур структурам активных центров белков, экспрессируемых этими клетками и ответственных за опухолевый рост. Кроме того, эти клеточные линии выделены из различных видов опухолей и характеризуются различной экспрессией как поверхностных, так и внутриклеточных белков, а также реализуемыми сигнальными путями, что может служить еще одной причиной обнаруженной специфичности действия соединений I–III против опухолевых клеток крови K562 и HL-60. Безусловно, эти предположения, сделанные на основе результатов тестирования сконструированных гибридных молекул на моделях опухолевых клеток, должны быть проверены в экспериментах по исследованию механизма их действия с использованием in vitro моделей потенциальных белковых мишеней.
На рис. 6 приведены комплексы тирозинкиназы Bcr-Abl и ее мутантной формы T315I c соединениями I–III, которые, согласно полученным экспериментальным данным (табл. 4), обладают противоопухолевой активностью по отношению к миелоидным клеткам крови человека K562. Анализ данных рис. 6 и табл. 5 показывает, что эти соединения образуют широкую сеть межмолекулярных контактов, ответственных за стабилизацию комплексов лиганд/Bcr-Abl. В частности, соединение I формирует водородные связи с остатками M318 и D381 нативного фермента, играющими важную роль для проявления его каталитической активности [48–52]. Примечательно, что эти консервативные гидрофильные остатки участвуют в образовании водородных связей с иматинибом и нилотинибом, а также с рядом других известных ингибиторов тирозинкиназы Bcr-Abl [52]. Кроме водородных связей, соединение I образует 54 контакта Ван-дер-Ваальса с остатками белка, включая такие функционально значимые аминокислоты, как K271, E286, T315 и D381 (табл. 5; рис. 6) [48–52]. Как и в случае тирозинкиназы Bcr-Abl, при связывании с ее мутантной формой это соединение формирует многочисленные межмолекулярные взаимодействия, образуя водородную связь с остатком D381 и 36 контактов Ван-дер-Ваальса (табл. 5; рис. 6). Соединения II и III проявляют аналогичный механизм связывания с ферментом, основу которого формируют водородные связи и Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия (табл. 5; рис. 6). Из анализа данных о межмолекулярных взаимодействиях, реализующихся в интерфейсе комплексов лиганд/Bcr-Abl, также следует, что важная роль в связывании принадлежит изоксазольному фрагменту, который участвует в образовании прямых межатомных контактов лигандов с тирозинкиназой Bcr-Abl. При этом атом кислорода изоксазольного кольца соединений I–III формирует водородные связи с аминогруппой основной цепи остатка M318 нативной тирозинкиназы (табл. 5; рис. 6). В случае мутантного фермента атомы кислорода и азота изоксазольного кольца соединений I и III соответственно образуют водородные связи с аминогруппой основной цепи остатка D381 (табл. 5; рис. 6). Полученные данные позволяют предполагать, что совместный вклад в стабилизацию комплексов лиганд/Bcr-Abl фармакофорных фрагментов 2-ариламинопиримидина и изоксазола способен обеспечить высокий потенциал ингибиторной активности сконструированных химерных молекул против тирозинкиназы Bcr-Abl и ее мутантной формы T315I.
Рис. 6. Комплексы соединений I–III с нативной и мутантной тирозинкиназой Bcr-Abl, построенные методом молекулярного докинга. Соединения представлены моделью «шарик-палочка-шарик». Отмечены остатки фермента, образующие межатомные контакты с лигандами. Остатки, участвующие в водородных связях, обозначены палочковой моделью. Водородные связи показаны красными пунктирными линиями. Проволочная модель использована для обозначения остатков тирозинкиназы Bcr-Abl, образующих контакты Ван-дер-Ваальса
Таблица 5. Межмолекулярные взаимодействия в структурных комплексах соединений I−III с тирозинкиназой Bcr-Abl и Bcr-AblT315I, построенных методом молекулярного докинга
Лиганд | Водородные связи1 | Ван-дер-Ваальсовы контакты2 | Катион–π-взаимодействие3, T-стэкинг4 |
Tирозинкиназа Bcr-Abl | |||
I | О...*HN[M318] N...*HN[D381] | L248(10), A269(3), K271(1), E286(7), V289(2), M290(6), I293(1), V299(5), T315(3), F317(1), F359(1), L370(4), A380(3), D381(1), F382(6) | – |
II | О...*HN[M318] N...*HN[D381] | L248(11), A269(3), E286(5), V289(2), M290(6), I293(2), V299(4), T315(2), F317(1), F359(2), L370(4), A380(3), D381(1), F382(6) | – |
III | O...*HN[M318] N...*HN[D381] | L248(7), A269(3), K271(4), E286(5), V289(2), M290(2), V299(1), I313(2), T315(3), F317(1), F359(2), L370(2), A380(2), D381(3), F382(5) | – |
Tирозинкиназа Bcr-AblT315I | |||
I | O...*HN[D381] | A269(2), K271(1), E282(2), K285(4), E286(3), V289(3), M290(5), I293(3), L298(1), V299(2), I315(3), L354(4), F382(3) | H361 (катион-π) |
II | NH...**O[E286] | L248(7), G249(2), Y253(1), A269(4), K271(1), V289(1), M290(3), I293(2), V299(3), I313(3), I315(5), L354(2), H361(1), L370(4), A380(2), D381(2), F382(6) | H361 (катион-π) Y253 (T-стэкинг) F382 (T-стэкинг) |
III | N...*HN[D381] | A269(3), K271(1), E282(2), E286(3), V289(1), M290(4), I293(2), V299(1), I313(1), I315(6), D381(2), F382(3) | H361 (катион-π) |
Примечания: 1 – Первыми указаны доноры или акцепторы водородной связи, принадлежащие молекуле лиганда, а вторыми – соответствующие атомы или функциональные группы остатков тирозинкиназы, приведенных в квадратных скобках в однобуквенном коде. Символом * отмечены атомы основной цепи белка; символом ** − атомы боковой цепи. 2 – Аминокислотные остатки тирозинкиназы, формирующие Ван-дер-Ваальсовы контакты с лигандами. В круглых скобках указано число контактов. 3 – Аминокислотные остатки тирозинкиназы, участвующие в катион-π-взаимодействиях с лигандами. 4 – Аминокислотные остатки тирозинкиназы, образующие Т-стэкинг с π-сопряженными системами лигандов.
Таким образом, совместный анализ данных молекулярного моделирования и биомедицинского тестирования in vitro позволил идентифицировать 3 амида замещенной изоксазол-3-карбоновой кислоты с фармакофорным фрагментом 2-ариламинопиримидина (соединения I–III; рис. 1), проявляющих ингибиторную активность против клеток линий K562 и HL-60 (табл. 4). При этом соединение I показало наибольшую эффективность нейтрализации этих клеток, и поэтому может рассматриваться в качестве приоритетной базовой структуры в исследованиях по созданию новых эффективных противоопухолевых средств. Эти исследования включают оптимизацию структур соединений-лидеров методами QSAR [53, 54], направленную на получение их аналогов с улучшенной противоопухолевой активностью и приемлемыми фармакологическими свойствами, химический синтез лигандов и биомедицинские испытания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе осуществлен дизайн пяти 2-ариламинопиримидиновых амидов изоксазол-3-карбоновой кислоты, проведена in silico оценка потенциальной ингибиторной активности этих соединений по отношению к тирозинкиназе Bcr-Abl и ее мутантной форме T315I, выполнен их синтез и тестирование на моделях опухолевых клеток in vitro. В результате совместного анализа расчетных и экспериментальных данных идентифицированы три соединения (лиганды I–III; рис. 1), проявляющие ингибиторную активность против миелоидных клеток линий K562 и HL-60. Показано, что соединение I проявляет наибольшую эффективность ингибирования роста этих клеток. Полученные данные позволяют предположить, что идентифицированные соединения могут служить основой для разработки новых эффективных лекарственных препаратов, способных ингибировать каталитическую активность тирозинкиназы Bcr-Abl путем блокирования ATP-связывающей полости фермента. Кроме того, соединения I−III могут быть использованы для создания многоцелевых ингибиторов протеинкиназ, что подтверждается многочисленными исследованиями [11, 15, 20, 23, 24, 55], согласно которым производные 2-ариламинопиримидина обладают высоким потенциалом в качестве кандидатов для разработки эффективных противоопухолевых агентов с различными механизмами действия. Наконец, эти молекулы могут рассматриваться в качестве перспективных базовых структур для разработки эффективных ингибиторов других онкогенных белков-мишеней. На это предположение указывают полученные нами данные об их противоопухолевой активности по отношению к линии клеток острого промиелоцитарного лейкоза (табл. 4), характеризующегося образованием аномального онкогенного фузионного белка PML-RARalpha [47]. В связи с этим одно из дальнейших направлений развития настоящей работы предполагает исследование механизма действия идентифицированных соединений на in vitro моделях потенциальных белковых мишеней.
Вклад авторов. Королева Е.В., Игнатович Ж.В. и Поткин В.И. выполнили дизайн соединений, спланировали и руководили экспериментами по их синтезу; Андрианов А.М. и Корноушенко Ю.В. провели вычислительные исследования и проанализировали данные компьютерного моделирования; Ермолинская А.Л. синтезировала соединения; Панибрат О.В. выполнила тестирование соединений на противоопухолевую активность; Андрианов А.М. написал первоначальный вариант рукописи; Андрианов А.М., Корноушенко Ю.В., Королева Е.В. и Поткин В.И. отредактировали рукопись. Все авторы прочитали и одобрили статью.
Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Государственной программы научных исследований «Конвергенция-2025» Республики Беларусь (грант № 3.04.1).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Соблюдение этических норм. Настоящая статья не содержит описания каких-либо исследований с участием людей или животных в качестве объектов.
About the authors
E. V. Koroleva
Institute of Chemistry of New Materials of the National Academy of Sciences of Belarus
Email: alexande.andriano@yandex.ru
Belarus, Minsk
A. L. Ermolinskaya
Institute of Chemistry of New Materials of the National Academy of Sciences of Belarus
Email: alexande.andriano@yandex.ru
Belarus, Minsk
Zh. V. Ignatovich
Institute of Chemistry of New Materials of the National Academy of Sciences of Belarus
Email: alexande.andriano@yandex.ru
Belarus, Minsk
Yu. V. Kornoushenko
Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus
Email: alexande.andriano@yandex.ru
Belarus, Minsk
O. V. Panibrat
Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus
Email: alexande.andriano@yandex.ru
Belarus, Minsk
V. I. Potkin
Institute of Physical-Organic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus
Email: alexande.andriano@yandex.ru
Belarus, Minsk
A. M. Andrianov
Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus
Author for correspondence.
Email: alexande.andriano@yandex.ru
Belarus, Minsk
References
- Lugo, T. G., Pendergast, A. M., Muller, A. J., and Witte, O. N. (1990) Tyrosine kinase activity and transformation potency of bcr-abl oncogene products, Science, 247, 1079-1082, https://doi.org/10.1126/science.2408149.
- Deininger, M. W., Vieira, S., Mendiola, R., Schultheis, B., Goldman, J. M., and Melo, J. V. (2000) BCR-ABL tyrosine kinase activity regulates the expression of multiple genes implicated in the pathogenesis of chronic myeloid leukemia, Cancer Res., 60, 2049-2055.
- Quintás-Cardama, A., and Cortes, J. (2009) Molecular biology of bcr-abl1-positive chronic myeloid leukemia, Blood, 113, 1619-1630, https://doi.org/10.1182/blood-2008-03-144790.
- Druker, B. J., Sawyers, C. L., Kantarjian, H., Resta, D. J., Reese, S. F., Ford, J. M., Capdeville, R., and Talpaz, M. (2001) Activity of a specific inhibitor of the BCR-ABL tyrosine kinase in the blast crisis of chronic myeloid leukemia and acute lymphoblastic leukemia with the Philadelphia chromosome, N. Eng. J. Med., 344, 1038-1042, https://doi.org/10.1056/NEJM200104053441402.
- Ottmann, O. G., and Wassmann, B. (2002) Imatinib in the treatment of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukaemia: current status and evolving concepts, Best Pract. Res. Clin. Haematol., 15, 757-769, https://doi.org/10.1053/beha.2002.0233.
- Buchdunger, E., O’Reilley, T., and Wood, J. (2002) Pharmacology of imatinib (STI571), Eur. J. Cancer, 38, S28-S36, https://doi.org/10.1016/s0959-8049(02)80600-1.
- Peng, B., Lloyd, P., and Schran, H. (2005) Clinical pharmacokinetics of imatinib, Clin. Pharmacokinet., 44, 879-894, https://doi.org/10.2165/00003088-200544090-00001.
- Druker, B. J. (2004) Imatinib as a paradigm of targeted therapies, Adv. Cancer Res., 91, 1-30, https://doi.org/10.1016/S0065-230X(04)91001-9.
- Kantarjian, H., Sawyers, C., Hochhaus, A., Guilhot, F., Schiffer, C., Gambacorti-Passerini, C., Niederwieser, D., Resta, D., Capdeville, R., Zoellner, U., Talpaz, M., Druker, B., Goldman, J., O’Brien, S. G., Russell, N., Fischer, T., Ottmann, O., Cony-Makhoul, P., Facon, T., Stone, R., Miller, C., Tallman, M., Brown, R., Schuster, M., Loughran, T., Gratwohl, A., Mandelli, F., Saglio, G., Lazzarino, M., Russo, D., Baccarani, M., Morra, E, and International STI571 CML Study Group (2002) Hematologic and cytogenetic responses to imatinib mesylate in chronic myelogenous leukemia, N. Eng. J. Med., 346, 645-652, https://doi.org/10.1056/NEJMoa011573.
- Druker, B. J., Guilhot, F., O’Brien, S. G., Gathmann, I., Kantarjian, H., Gattermann, N., Deininger, M. W. N., Silver, R. T., Goldman, J. M., Stone, R. M., Cervantes, F., Hochhaus, A., Powell, B. L., Gabrilove, J. L., Rousselot, P., Reiffers, J., Cornelissen, J. J., Hughes, T., Agis, H., Fischer, T., Verhoef, G., Shepherd, J., Saglio, G., Gratwohl, A., Nielsen, J. L., Radich, J. P., Simonsson, B., Taylor, K., Baccarani, M., So, C., Letvak, L., Larson, R. A., and IRIS Investigators (2006) Five-year follow-up of patients receiving imatinib for chronic myeloid leukemia, N. Eng. J. Med., 355, 2408-2417, https://doi.org/10.1056/NEJMoa062867.
- Hochhaus, A., Larson, R. A., Guilhot, F., Radich, J. P., Branford, S., Hughes, T. P., Baccarani, M., Deininger, M. W., Cervantes, F., Fujihara, S., Ortmann, C.-E., Menssen, H. D., Kantarjian, H., O’Brien, S. G., Druker, B. J., and IRIS Investigators (2017) Long-term outcomes of imatinib treatment for chronic myeloid leukemia, N. Eng. J. Med., 376, 917-927, https://doi.org/10.1056/NEJMoa1609324.
- Bhullar, K. S., Lagarón, N. O., McGowan, E. M., Parmar, I., Jha, A., Hubbard, B. P., and Vasantha, R. H. P. (2018) Kinase-targeted cancer therapies: progress, challenges and future directions, Mol. Cancer, 17, 1-20, https://doi.org/ 10.1186/s12943-018-0804-2.
- Patel, A. B., O’Hare, T., and Deininger, M. W. (2017) Mechanisms of resistance to ABL kinase inhibition in chronic myeloid leukemia and the development of next generation ABL kinase inhibitors, Hematol. Oncol. Clin. North Am., 31, 589-612, https://doi.org/10.1016/j.hoc.2017.04.007.
- Liu, J., Zhang, Y., Huang, H., Lei, X., Tang, G., Cao, X., and Peng, J. (2021) Recent advances in Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitors for overriding T315I mutation, Chem. Biol. Drug Des., 97, 649-664, https://doi.org/10.1111/cbdd.13801.
- Koroleva, E. V., Ignatovich, Z. I., Sinyutich, Y. V., and Gusak, K. N. (2016) Aminopyrimidine derivatives as protein kinases inhibitors. Molecular design, synthesis, and biologic activity, Russ. J. Org. Chem., 52, 139-177, https://doi.org/ 10.1134/S1070428016020019.
- Roskoski, R. Jr (2022) Properties of FDA-approved small molecule protein kinase inhibitors: a 2023 update, Pharmacol. Res., 106552, https://doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106552.
- Cortes, J., and Lang, F. (2021) Third-line therapy for chronic myeloid leukemia: current status and future directions, J. Hematol. Oncol., 14, 1-18, https://doi.org/10.1186/s13045-021-01055-9.
- Senapati, J., Sasaki, K., Issa, G. C., Lipton, J. H., Radich, J. P., Jabbour, E., and Kantarjian, H. M. (2023) Management of chronic myeloid leukemia in 2023–common ground and common sense, Blood Cancer J., 13, 58, https://doi.org/10.1038/s41408-023-00823-9.
- Tan, F. H., Putoczki, T. L., Stylli, S. S., and Luwor, R. B. (2019) Ponatinib: a novel multi-tyrosine kinase inhibitor against human malignancies, Onco Targets Ther., 12, 635-645, https://doi.org/10.2147/OTT.S189391.
- Ferguson, F. M., and Gray, N. S. (2018) Kinase inhibitors: the road ahead, Nat. Rev. Drug Discov., 17, 353-377, https://doi.org/10.1038/nrd.2018.21.
- Proschak, E., Stark, H., and Merk, D. (2018) Polypharmacology by design: a medicinal chemist’s perspective on multitargeting compounds, J. Med. Chem., 62, 420-444, https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.8b00760.
- Arya, G. C., Kaur, K., and Jaitak, V. (2021) Isoxazole derivatives as anticancer agent: a review on synthetic strategies, mechanism of action and SAR studies, Eur. J. Med. Chem., 221, 113511, https://doi.org/10.1016/j.ejmech. 2021.113511.
- Köstler, W. J., and Zielinski, C. C. (2015) Targeting Receptor Tyrosine Kinases in Cancer, in Receptor Tyrosine Kinases: Structure, Functions and Role in Human Disease, New York, Spring, pp. 78-225.
- Maurer, G., Tarkowski, B., and Baccarini, M. (2011) Raf kinases in cancer-roles and therapeutic opportunities, Oncogene, 30, 3477-3488, https://doi.org/10.1038/onc.2011.160.
- Schönherr, H., and Cernak, T. (2013) Profound methyl effects in drug discovery and a call for new C–H methylation reactions, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 52, 12256-12267, https://doi.org/10.1002/anie.201303207.
- O’Boyle, N. M., Banck, M., James, C. A., Morley, C., Vandermeersch, T., and Hutchison, G. R. (2011) Open Babel: An open chemical toolbox, J. Cheminform., 3, 1-14, https://doi.org/10.1186/1758-2946-3-33.
- Rappé, A. K., Casewit, C. J., Colwell, K. S., Goddard, W. A., III, and Skiff, W. M. (1992) UFF, a full periodic table force field for molecular mechanics and molecular dynamics simulations, J. Am. Chem. Soc., 114, 10024-10035, https://doi.org/10.1021/ja00051a040.
- Daina, A., Michielin, O., and Zoete, V. (2017) SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules, Sci. Rep., 7, 42717, https://doi.org/10.1038/srep42717.
- Center for Computational Structural Biology. MGL Tools. URL: https://ccsb.scripps.edu/mgltools/, Accessed October 21, 2023.
- Trott, O., and Olson, A. J. (2010) AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading, J. Comput. Chem., 31, 455-461, https://doi.org/10.1002/jcc.21334.
- Pettersen, E. F., Goddard, T. D., Huang, C. C., Couch, G. S., Greenblatt, D. M., Meng, E. C., and Ferrin, T. E. (2004) UCSF Chimera – a visualization system for exploratory research and analysis, J. Comput. Chem., 25, 1605-1612, https://doi.org/10.1002/jcc.20084.
- Shen, C., Hu, Y., Wang, Z., Zhang, X., Zhong, H., Wang, G., Yao, X., Xu, L., Cao, D., and Hou, T. (2021) Can machine learning consistently improve the scoring power of classical scoring functions? Insights into the role of machine learning in scoring functions, Brief. Bioinf., 22, 497-514, https://doi.org/10.1093/bib/bbz173.
- Durrant, J. D., and McCammon, J. A. (2011) NNScore 2.0: A neural-network receptor–ligand scoring function, J. Chem. Inf. Model., 51, 2897-2903, https://doi.org/10.1021/ci2003889.
- Durrant, J. D., and McCammon, J. A. (2011) BINANA: A novel algorithm for ligand-binding characterization, J. Mol. Graph. Model., 29, 888-893, https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2011.01.004.
- Case, D. A., Ben-Shalom, I. Y., Brozell, S. R., Cerutti, D. S., Cheatham, T. E. III, Cruzeiro, V. W. D., Darden, T. A., Duke, R. E., Ghoreishi, D., Gilson, M. K., and Kollman, P. A. (2018) AMBER 2018, University of California.
- Genheden, S., and Ryde, U. (2015) The MM/PBSA and MM/GBSA methods to estimate ligand-binding affinity, Expert Opin. Drug. Discov., 10, 449-461, https://doi.org/10.1517/17460441.2015.1032936.
- Xu, L., Sun, H., Li, Y., Wang, J., and Hou, T. (2013) Assessing the performance of MM/PBSA and MM/GBSA methods. 3. The impact of force fields and ligand charge models, J. Phys. Chem. B, 117, 8408-8421, https://doi.org/10.1021/jp404160y.
- Sun, H., Li, Y., Tian, S., Xu, L., and Hou, T. (2014) Assessing the performance of MM/PBSA and MM/GBSA methods. 4. Accuracies of MM/PBSA and MM/GBSA methodologies evaluated by various simulation protocols using PDBbind data set, Phys. Chem. Chem. Phys., 16, 16719-16729, https://doi.org/10.1039/c4cp01388c.
- Ignatovich, Z. V., Ermolinskaya, A. L., Kletskov, A. V., Potkin, V. I., and Koroleva, E. V. (2018) Synthesis of new amides of isoxazole-and isothiazole-substituted carboxylic acids containing an arylaminopyrimidine fragment, Russ. J. Org. Chem., 54, 1218-1222, https://doi.org/10.1134/S107042801808016X.
- Al-Nasiry, S., Geusens, N., Hanssens, M., Luyten, C., and Pijnenborg, R. (2007) The use of Alamar Blue assay for quantitative analysis of viability, migration and invasion of choriocarcinoma cells, Hum. Reprod., 22, 1304-1309, https://doi.org/10.1093/humrep/dem011.
- Agafonov, R.V., Wilson, C., Otten, R., Buosi, V., and Kern, D. (2014) Energetic dissection of Gleevec’s selectivity toward human tyrosine kinases, Nat. Struct. Mol. Biol., 21, 848-853, https://doi.org/10.1038/nsmb.2891.
- Lipinski, C. A. (2004) Lead- and drug-like compounds: the rule-of-five revolution, Drug Discov. Today Technol., 1, 337-341, https://doi.org/10.1016/j.ddtec.2004.11.007.
- Lipinski, C.A., Lombardo, F., Dominy, B. W., and Feeney, P. J. (2001) Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings, Adv. Drug Deliv. Rev., 46, 3-26, https://doi.org/10.1016/s0169-409x(00)00129-0.
- Banerjee, P., Eckert, A. O., Schrey, A. K., and Preissner, R. (2018) ProTox-II: a webserver for the prediction of toxicity of chemicals, Nucleic Acids Res., 46(W1), W257-W263, https://doi.org/10.1093/nar/gky318.
- Hassan Baig, M., Ahmad, K., Roy, S., Mohammad Ashraf, J., Adil, M., Siddiqui, M. H., Khan, S., Kamal, M. A., Provazník, I., and Choi, I. (2016) Computer aided drug design: success and limitations, Curr. Pharm. Des., 22, 572-581, https://doi.org/10.2174/1381612822666151125000550.
- Desai, P. V. (2016) The integration of computational chemistry during drug discovery to drive decisions: are we there yet? Future Med. Chem., 8, 1717-1720, https://doi.org/10.4155/fmc-2016-0161.
- Jimenez, J. J., Chale, R. S., Abad, A. C., and Schally, A. V. (2020) Acute promyelocytic leukemia (APL): a review of the literature. Oncotarget, 11, 992-1003, https://doi.org/10.18632/oncotarget.27513.
- Parcha, P., Sarvagalla, S., Madhuri, B., Pajaniradje, S., Baskaran, V., Coumar, M. S., and Rajasekaran, B. (2017) Identification of natural inhibitors of Bcr-Abl for the treatment of chronic myeloid leukemia, Chem. Biol. Drug Des., 90, 596-608, https://doi.org/10.1111/cbdd.12983.
- Reddy, E. P., and Aggarwal, A. K. (2012) The ins and outs of bcr-abl inhibition, Genes Cancer, 3, 447-454, https://doi.org/10.1177/1947601912462126.
- Manley, P. W., Cowan-Jacob, S. W., Fendrich, G., and Mestan, J. (2005) Molecular interactions between the highly selective pan-Bcr-Abl inhibitor, AMN107, and the tyrosine kinase domain of Abl, Blood, 106, 3365, https:// doi.org/10.1182/blood.V106.11.3365.3365.
- Sohraby, F., Bagheri, M., Aliyar, M., and Aryapour, H. (2017) In silico drug repurposing of FDA-approved drugs to predict new inhibitors for drug resistant T315I mutant and wild-type BCR-ABL1: a virtual screening and molecular dynamics study, J. Mol. Graph. Model., 74, 234-240, https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2017.04.005.
- İş, Y. S. (2021) Elucidation of ligand/protein interactions between BCR-ABL tyrosine kinase and some commercial anticancer drugs via DFT methods, J. Comput. Biophys. Chem., 20, 433-447, https://doi.org/10.1142/S273741652150023X.
- Hsu, H. H., Hsu, Y. C., Chang, L. J., and Yang, J. M. (2017) An integrated approach with new strategies for QSAR models and lead optimization, BMC Genom., 18 (Suppl 2), 104, https://doi.org/10.1186/s12864-017-3503-2.
- Fu, L., Yang, Z. Y., Yang, Z. J., Yin, M. Z., Lu, A. P., Chen, X., Liu, S., Hou, T. J., and Cao, D. S. (2021) QSAR-assisted-MMPA to expand chemical transformation space for lead optimization, Brief. Bioinform., 22, bbaa374, https://doi.org/10.1093/bib/bbaa374.
- Ayaz, M. S., Bhupal, R., Sharma, P., Sahu, A., Singh, P., Gupta, G. D., and Asati, V. (2023) Recent updates on structural aspects of ALK inhibitors as an anticancer agent, Anti-Cancer Agents Med. Chem., 23, 900-921, https://doi.org/10.2174/1871520623666230110114620.
Supplementary files