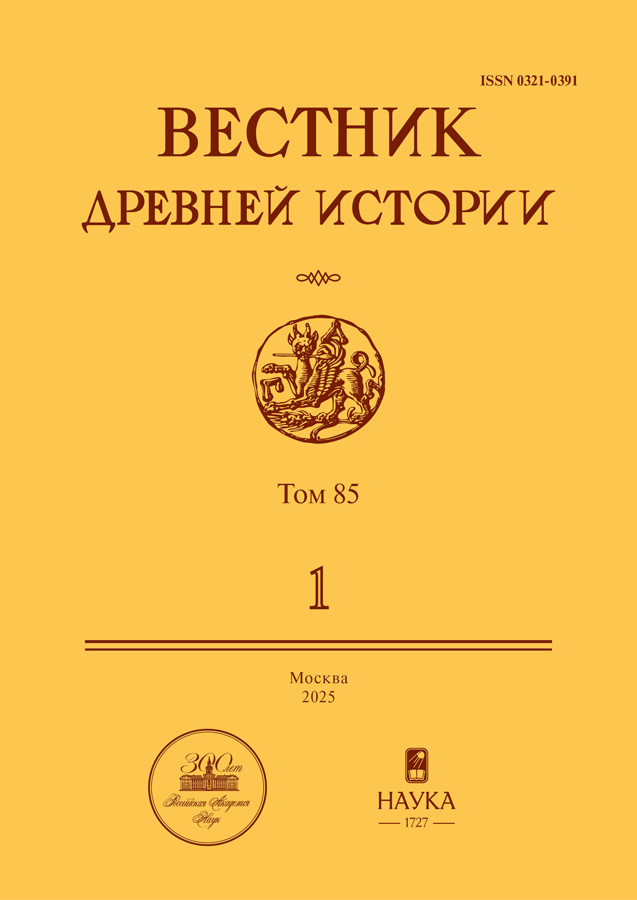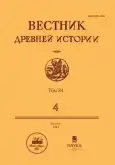G.-P. Schietinger (Hrsg.). Gnaeus Pompeius Magnus. Ausnahmekarrierist, Netzwerker und Machtstratege. Rahden (Westfalen), 2019
- Авторы: Короленков А.В.1, Хрусталёв В.К.2,3
-
Учреждения:
- Государственный академический университет гуманитарных наук
- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
- Псковский государственный университет
- Выпуск: Том 84, № 4 (2024)
- Страницы: 1047-1053
- Раздел: Критика и библиография
- URL: https://journal-vniispk.ru/0321-0391/article/view/288933
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0321039124040102
- ID: 288933
Полный текст
Полный текст
Рецензируемая книга представляет собой сборник докладов, сделанных на посвященной Помпею конференции, состоявшейся в сентябре 2014 г. в Гейдельбергском университете.
Сборник открывается вступительной статьей Георга-Филиппа Шитингера (с. ix–xix), в которой дается общая оценка политической деятельности Помпея. Автор характеризует главного героя книги эпитетами, которые вынесены в заглавие (и которые весьма непросто перевести на русский язык): Machtstratege/ Machtpolitiker («опирающийся на силу стратег/политик»), Ausnahmekarrierist («человек, стремящийся к исключительной карьере») и Netzwerker («организатор сети социальных взаимодействий»). Рассмотрение этих аспектов его деятельности и заявляется как главная цель сборника (с. xiv). Шитингер отмечает, что, хотя в молодости Помпей и участвовал в гражданской войне на стороне Суллы, по своим методам он имел много общего сМарием: итот, идругой использовали для достижения своих целей лояльных себе плебейских трибунов. Однако если Марий никогда не скрывал своих истинных замыслов, Помпей регулярно прибегал к лицемерию и притворству. Несмотря на сходство, Помпея нельзя рассматривать никак «политического наследника» Мария, никак настоящего популяра: используя методы популяров, он всегда имел ввиду отнюдь ненужды государства или плебса, а лишь собственные интересы (с. x–xii). Правда, не очень понятно, какой смысл автор вкладывает в термины «популяры» и «оптиматы», ибо, как хорошо известно, в историографии нет единства по вопросу об их конкретном значении. Весьма спорен и тезис Шитингера, будто Помпей был гораздо более гибким политиком, чем Марий, которому практически всегда приходилось преодолевать сопротивление сената, тогда как Помпей часто действовал при поддержке сенатского большинства и в согласии с ним, например, при получении командования в войне против Сертория или при назначении консулом без коллеги в 52 г.1 (с. xii). В действительности же сопротивление сената Марию сильно преувеличено – достаточно напомнить, что patres год за годом давали ему право избираться консулом в конце 100-х годов, хотя могли бы просто продлевать ему полномочия2, что вряд ли можно себе представить, если бы Марий постоянно преодолевал их противодействие.
Хартмут Блум в статье «Помпей: поражение, которое противоречило всем расчетам» (с. 1–28) анализирует политическую карьеру Помпея, не имевшую прецедентов в истории Республики. Этому анализу предшествует подробное рассмотрение образа Помпея в немецкой литературе – трудах Т. Моммзена, Эд. Мейера, М. Гельцера, К. Криста, Э. Бальтруша (с. 1–6). Историографический обзор можно признать довольно полезным, но приходится сожалеть, что автор ограничился лишь немецкими работами. Блум приходит к выводу, что в своей деятельности Помпей всегда руководствовался несколькими «наставлениями» или «уроками» (Lektionen), которые он извлек из собственного опыта и наблюдений за политической жизнью Поздней республики. На раннем этапе карьеры (до первого консульства в70г. исразу после него) он старался сделать так, чтобы вего распоряжении постоянно находилось готовое к бою войско, – на тот случай, если представится возможность побороться за очередное чрезвычайное командование. После победы над Митридатом VI Помпей через Кв. Цецилия Метелла Непота пытался в 63 г. добиться поручения подавить выступление Катилины (с. 13). Вернувшись с Востока, Помпей продолжал проводить в жизнь свой план, целью которого было упрочение его политических позиций. Для этого он ежегодно в период с 62 по 59 г. старался провести в консулы и в плебейские трибуны по крайней мере одного «своего» человека. Думается, автор несколько переоценивает Помпея, который в его трактовке всегда расчетлив, предусмотрителен и почти не совершает ошибок, а если и совершает, то их можно рационально объяснить и оправдать. Поражение Помпея в гражданской войне, с точки зрения Блума, не было предопределено его предшествующими действиями и являлось в значительной мере исторической случайностью: у войны свои законы, и если дело дошло до применения вооруженной силы, прежние политические достижения в значительной степени теряют свое значение. Между тем чисто военный аспект противостояния Помпея и Цезаря в статье практически не анализируется, поэтому главная идея Блума не выглядит достаточно обоснованной.
В статье «Первый консулат Помпея Магна в 70 г. до н. э.» (с. 29–60) Крешимир Матиевич обсуждает широкий круг вопросов, связанных ссобытиями нетолько консулата Помпея, но и предшествующего года. Он не согласен с Ф. Верватом, вернувшимся к старой точке зрения3, будто полководец оказывал давление насенат с помощью армии, которую не пожелал распустить, – нет никаких признаков того, что сенат чувствовал себя стесненным всвоих решениях из-за скрытой угрозы со стороны Помпея, даже когда речь шла о предоставлении ему права избираться в обход lex Cornelia de magistratibus. Не просматривается и оппозиция большей части сената реформам 70 г. При этом если закон о правах трибунов Помпей предложил сам, то внесение закона о судах он лишь «допустил» (Plut. Pomp. 22. 4), и сказать что-то более конкретное на сей счет мы не можем. Очень вероятна причастность Помпея к восстановлению цензуры, учитывая, что оба цензора, Л. Геллий и Гн. Лентул Клодиан, были связаны с ним. Другое предположение Матиевича весьма спорно: он считает, что цензоры исключили изсената по большей части тех людей, которые снискали себе дурную репутацию в качестве присяжных инаместников провинций, атакже оказывали сопротивление реформам. Первое подтверждается лишь в отношении отдельных лиц, а второе вообще не находит опоры в источниках.
В то же время интересны соображения Матиевича об отношении Помпея к сулланскому порядку. С одной стороны, тот, не будучи даже сенатором, добивался триумфа, помог стать консулом Лепиду4, пощадил многих лепиданцев и серторианцев, провел реформы в 70 г., с другой – обеспечил проведение пышных похорон Суллы5, казнил многих врагов его режима, воевал с теми же Лепидом и Серторием. Можно согласиться с Э.С. Груэном, что Помпей не видел противоречия в том, чтобы бороться с врагами Суллы и в то же время отменять его законы (или добиваться исключения для себя). Политика Помпея не была ни сулланской, ни антисулланской, он просто обеспечивал свои политические интересы, сотрудничая при необходимости и с плебейскими трибунами, ис большинством сената. Тоже можно сказать иодругих политиках того времени. «Твердый» сулланец Кв. Катул высказался в пользу консулата Помпея и низко оценивал работу сулланских судов, хотя в других случаях защищал решения диктатора. Так же мало оснований думать, будто Г. Котта «дезертировал» из сулланской Kerngruppe, проведя в 75 г. закон, разрешавший трибунам продолжать сенаторскую карьеру после отбытия должности. Здесь, полагает автор, полезно провести параллель современем после гибели Цезаря, применительно ккоторому противопоставление «цезарианцев» «помпеянцам» и«республиканцам» лишь мешает понять суть событий. Защита дела почившего диктатора использовалась лишь как весьма удобное средство достижения собственных целей, и то же можно сказать о Помпее.
Статья Шитингера «Несостоявшаяся диктатура. Заметки к возвращению Помпея с Востока в 62 г. до н. э.» (с. 61–91) посвящена рассмотрению обстоятельств возвращения победоносного римского полководца в Италию. По мнению автора, Помпей предвидел те трудности, с которыми он столкнется при реализации двух главных своих целей, – утверждения своих распоряжений на Востоке и обеспечения землей своих ветеранов. Шитингер полагает, что полководец возлагал большие надежды на историю с заговором Катилины, которая давала ему «превосходный предлог, чтобы вкачестве спасителя Италии двинуться сосвоим войском наРим изахватить единоличную власть» (с. 64). Под этим углом зрения автор рассматривает уже упомянутое выше предложение плебейского трибуна Метелла Непота вызвать Помпея в Италию для подавления заговора Катилины, которое он считает попыткой добиться предоставления полководцу диктаторских полномочий (с. 74–82)6. Метелл Непот, который служил на Востоке легатом Помпея7, возвратился в Рим по поручению последнего, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах в плебейские трибуны. Из изложения не совсем ясно, поставилли Помпей, по мнению Шитингера, перед своим шурином такую задачу изначально, отправляя его на родину, или же данный план возник позже – а это вопрос немаловажный. Автор пишет, что Метелл Непот возвратился вРим в конце 63 г. (с. 63), из чего может создаться впечатление, будто он склоняется кпервому варианту. Однако это выглядит маловероятным: насколько мы можем судить наосновании имеющихся отрывочных данных, впериод Поздней республики выборы плебейских трибунов обычно проходили в июле8. Поэтому Метелл Непот, скорее всего, приехал с Востока в первой половине 63 г., еще до консульских выборов на 62 г. и возникновения заговора Катилины. После того как попытка Непота провалилась, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением многих сенаторов (прежде всего М. Катона), Помпей, по мнению Шитингера, не решился использовать для поддержки своих притязаний военную силу, так как это привело бы к падению его авторитета и утрате возможности сотрудничать ссенатом, без чего он едвали мог надеяться надолго закрепить достигнутые успехи (с. 86–89).
В статье Кристиана Роллингера «Маленькие друзья большого Помпея. Amicitiae иближний круг политика в Поздней республике» (с. 93–137) рассматриваются «дружеские связи» Помпея (в специфически римском понимании дружбы как отношений, основанных навзаимных услугах иобязательствах). Главное место Роллингер уделяет взаимоотношениям римского полководца со своими бывшими легатами (с. 105–110), а также его выступлениям в суде в поддержку своих amici в качестве защитника, advocatus или laudator (с. 112–126). Автор отмечает, что Помпей далеко не всем своим «друзьям» приходил на помощь в случае нужды: например, в 59 г. он не стал поддерживать на суде своего бывшего легата Л. Валерия Флакка; в 58 г. не захотел даже попытаться спасти от изгнания Цицерона; в 51 г. оставил на произвол судьбы обвиненного в насильственных действиях (de vi) Кв. Помпея Руфа, который в свой плебейский трибунат в 52 г. проводил дружественную по отношению к нему политику и т.д. (с. 118–123). Тем самым Помпей нередко нарушал негласные правила римской amicitia, полагаясь на свое «высокое положение» в государстве (с. 132). Эти особенности поведения Помпея автор связывает с его происхождением и воспитанием: тот был выходцем из незнатной семьи, не имел знаменитых предков, юность и бóльшую часть взрослой жизни провел в военном лагере. Он не прошел социализации, которую проходили отпрыски аристократических семейств, и не имел возможности прочно усвоить понятия и правила поведения, принятые в кругу римской правящей элиты (с. 130–131).
Нильс Штеффенсен в статье «Помпей и принципат. Толкование Веллеем Патеркулом перемен вполитической системе» (с.139–177) рассматривает образ Помпея в труде этого римского историка, сравнивая его с образом Тиберия. В историографии тех лет, где изложение событий все чаще начиналось с конца Республики, этот труд, формально являвшийся всемирной историей, выглядел скорее исключением. Его цель – показать контраст между хаосом гражданских войн и восстановлением порядка при принципате. Веллей избегает идеологизации политики, событийная история сосредоточивается на интересах и конфликтах разных лиц, в чьих поступках лишь изредка дает о себе знать идеологическая мотивация. Особое место среди героев труда Веллея занимает Помпей, о поведении и целях которого он рассуждает больше, чем о комлибо другом. Во многих аспектах изображение Помпея позитивно, но это во многом дезавуируется оценкой Помпея как Machtpolitiker. Он, как подчеркивает Веллей, не мог вынести, чтобы кто-то сравнялся с ним в dignitas (II. 29. 4), причем даже в стилистическом оформлении этого тезиса чувствуется влияние Цезаря (BC. I. 4. 4). Борьба за dignitas, честь и признание в обществе, как считалось, привела Рим к мировому господству, однако со временем эта борьба приобрела чрезмерные масштабы. Помпей с его амбициями в глазах Веллея – один из тех нобилей, которые своим соперничеством подрывали устои свободного общества. Подчеркивается, вчастности, что он устранял конкурентов сомнительными маневрами и незаконными средствами. Парадокс, однако, в том, что «не с революционными и криминальными элементами во внутренней политике [Рима] начиная со 146 г. до н. э., а с защитником сената в гражданской войне связывает Веллей кризис Республики. Поэтому портрет Помпея имеет программно-дидактическое, ключевое значение для его труда» (с. 153).
При полностью изменившихся исторических условиях антиподом Помпея у Веллея выступает Тиберий, чей принципат вопреки господствующему мнению Штеффенсен считает новым этапом римской истории, а не продолжением истории восстановленной Республики. Разногласия, сопровождавшие его вступление во власть, писатель изображает как опасное возвращение к кризису Республики. Смерть Августа показала, насколько зыбок фундамент, на котором покоилось государство, и после нее возник страх перед новыми потрясениями. Не Тиберий ограничил свободу или положил ей конец, а нобилитет, когда просил его принять власть. Тиберий становится принцепсом только в силу случайных исторических обстоятельств, учитывая политическую необходимость. Он оказывается последним, хотя и неудачливым защитником res publica libera, без него, по Веллею, римская держава погибла бы. Вовременаже Поздней республики, наоборот, шла борьба за принципат во зло государству. Помпей у Веллея – пример тенденции, которая, начавшись при восхождении Рима к мировому господству, привела к установлению принципата. Однако даже Августу не удалось добиться настоящей стабильности, которая наступила лишь при Тиберии, компенсируя утрату гражданского равенства и свободы. Тиберий у Веллея борется с последствиями того развития, которое наиболее ярко воплощал амбициозный Помпей.
Выкладки Штеффенсена весьма интересны и по-своему логичны, но у них есть один изъян: сам Веллей нигде сравнения между Помпеем и Тиберием не проводит, что превращает изложенную версию в умозрительную конструкцию, хотя, бесспорно, не лишенную ценных наблюдений. Думается, ученый несколько преувеличивает отрицательные черты в образе Помпея у Веллея, забывая, что в 52 г. тот включил деда историка вчисло 360 судей вуголовных комиссиях – несомненная честь для человека из италийской фамилии, впервые занявшего должность в Городе9. Возможно, именно этим объясняется сугубый интерес Веллея к полководцу, о котором он пишет гораздо больше, чем даже о Цезаре.
Завершает сборник очерк Хильмара Клинкотта «Помпей и его “архитектура власти”» (с. 179–207). В центре внимания автора стоит строительная деятельность Помпея, которую тот развернул после своего возвращения с Востока. Полководец воздвиг целый комплекс зданий на принадлежавшем ему огромном участке земли на Марсовом поле, который с самого начала задумывался как единое целое. В центре его находился знаменитый театр Помпея, увенчанный храмом Венеры Победительницы и освященный осенью 55 г., – первое в Риме стационарное здание для театральных представлений. Театр должен был стать памятником самому Помпею и его победам. К этому зданию примыкал портик Помпея, как и театр, украшенный статуями и другими выдающимися произведениями искусства, которые были размещены таким образом, чтобы напоминать о подвигах полководца. С южной стороны площадь замыкал роскошный портик, известный под разными названиями (Hekatostylon, Porticus Lentulorum, Porticus ad Nationes), который воздвигли офицеры Помпея П. Корнелий Лентул Спинтер иЛ. Корнелий Лентул Крус. С востока кпортику Помпея была пристроена курия Помпея – почти квадратное в плане здание, предназначенное для заседаний сената. В непосредственной близости Помпей воздвиг для себя новый роскошный дом. Эта строительная программа не имела в Риме прецедентов и напоминала об эллинистических царских резиденциях – Александрии и Пергаме. Построенный Помпеем комплекс, который стал предшественником императорских форумов эпохи Принципата, должен был стать новым политическим центром Рима.
Общее заключение к сборнику отсутствует, и завершается он указателями имен, понятий и источников.
Подводя итог, отметим, что на фоне повышенного внимания к институциональным вопросам интерес к роли личности несколько снизился, и потому само обращение к такой фигуре римской истории, как Помпей, можно только приветствовать. Думается, однако, что авторам не так легко удается открыть новые грани вего деятельности, поскольку многие их тезисы, направленные наэто, далеко не всегда выглядят убедительно. Тем не менее и сами такие попытки, и многие конкретные наблюдения участников сборника представляют несомненную ценность, и книга, бесспорно, привлечет внимание тех, кто интересуется историей Поздней римской республики и фигурой Помпея.
1 Все даты, относящиеся кантичности, – до н. э.
2 См. Meier 1988, 314.
3 Матиевич указывает на недостаточное знание Верватом историографии, но при этом и сам упускает из виду весьма важные работы (см. Rossi 1965; Dzino 2002; Ferrary 1975).
4 Весьма вероятно, однако, что Помпей не столько обеспечил избрание Лепида (Plut. Pomp. 15. 1–2), сколько поддержал сильнейшего (Rosenblitt 2019, 35–36).
5 Думается, Плутарх (Pomp. 15. 4), какив случае с выборами Лепида, преувеличил здесь роль Помпея в событиях. Тот не был сенатором и участвовать в публичном обсуждении вопроса не мог (Gelzer 1973, 45 – применительно к чуть более поздней ситуации), и непонятно, как он мог оказать неформальное давление на Лепида. Как не без остроумия замечает Б. Тваймен, Плутарх «приписывает Помпею роль Катула» (Twyman 1972, 839, n. 109).
6 Здесь Шитингер полемизирует с К. Майером, по мнению которого Помпей пытался при помощи Метелла Непота добиться разрешения в свое отсутствие избираться консулом на 61 г. (Meier 1962, 105–106, 110–111).
7 Кроме того, Метелл Непот был шурином Помпея, который был тогда женат на его сводной сестре Муции Терции.
8 Mommsen 1887, 585.
9 Vell. II. 76. 1; Woodman 1983, 185.
Об авторах
Антон Викторович Короленков
Государственный академический университет гуманитарных наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: sallust@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-3628-2754
кандидат исторических наук, доцент
Россия, МоскваВячеслав Константинович Хрусталёв
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; Псковский государственный университет
Email: vyacheslav2511@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-3174-9028
кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории института истории и социальных наук; научный сотрудник лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности»
Россия, Санкт-Петербург; ПсковСписок литературы
- Dzino, D. 2002: Annus Mirabilis: 70 BC Re-examined. Ancient History 32/2, 99–117.
- Ferrary, J.-L. 1975: Cicéron et la loi judiciaire de Cotta (70 av. J.-C.). Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité 87/1, 321–348.
- Gelzer, M. 1973: Pompeius. München.
- Meier, Chr. 1962: Pompeius’ Rückkehr aus dem Mithridatischen Kriege und die Catilinarische Verschwörung. Athenaeum 40, 103–125.
- Meier, Chr. 1988: Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik. 2. Aufl. Wiesbaden.
- Mommsen, T. 1887: Römisches Staatsrecht. 3. Aufl. Leipzig.
- Rosenblitt, A. 2019: Roma after Sulla. London–Oxford.
- Rossi, R.F. 1965: Sulla lotta politica in Roma dopo la morte di Silla. Parola del Passato 21, 133–152.
- Twyman, B. 1972: The Metelli, Pompeius and Prosopography. In: H. Temporini, W. Haase (Hrsg.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Bd. I. Politische Geschichte. Berlin–Boston, 816–874.
- Woodman, A.J. 1983: Velleius Paterculus. The Caesarian and Augustan Narrative (2. 41–93). Cambridge.