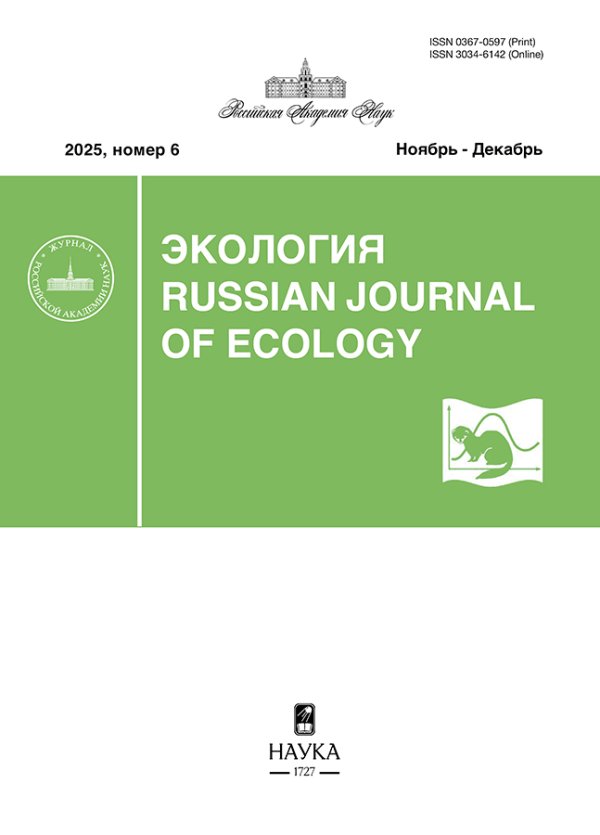Relic populations of Ranunculus kamtschaticus DC. (Ranunculaceae) in the Urals
- Authors: Teteryuk L.V.1, Bobrov Y.A.2, Kirsanova OF.3
-
Affiliations:
- Institute of Biology, Federal Research Center Komi Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
- Syktyvkar State University
- Pechora-Ilychsky Nature Reserve
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 14-21
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-0597/article/view/259432
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367059724010026
- EDN: https://elibrary.ru/XIIUOG
- ID: 259432
Cite item
Full Text
Abstract
In the context of global climate change, it is of great interest to assess the adaptive capabilities of the glacial relics of the Urals and the prospects for their conservation. Ranunculus kamtschaticus DC. has a high degree of ecological specialization for high mountain conditions and extremely low plasticity. It is preserved in the midlands of the Urals on individual peaks. The life form of R. kamtschaticus in the Ural fragment of its range is a brush-rooted non-turf polycarpic grass with erect assimilating shoots of a non-succulent type. The variability of the development of its shoots and shoot systems under the influence of climatic and weather conditions is shown, the preferential development of shoots with an incomplete development cycle is noted. Irregular fruiting, a long period of germination, and rapid loss of seed germination reduce the competitiveness of R. kamtschaticus in the Urals and its ability to colonize new territories. Threat assessment according to IUCN criteria showed that populations of the species in the Komi Republic and Sverdlovsk region are in critical condition.
Full Text
Изменения климата оказывают выраженное воздействие на горные экосистемы, приводят к смещению границ высотных поясов, изменению флористического состава и структуры сообществ [1, 2]. Особенно большое влияние повышение температуры может оказать на высокогорные виды с ограниченным ареалом обитания, в том числе эндемиков и гляциальных реликтов [3, 4]. Основой выявления индивидуальных реакций у высокогорных растений на изменение климата [5] является изучение их биологических особенностей.
В горах Урала сохранилась целая группа гляциальных реликтов арктогенного и альпигенного происхождения [6, 7]. Как правило, ареал их фрагментирован, виды представлены рядом реликтовых популяций на отдельных массивах, хребтах или вершинах. В связи с трансформацией растительного покрова Урала под влиянием изменений климата [8–10] большой интерес представляет оценка их адаптационных возможностей и перспектив сохранения.
Одним из представителей этой группы на Урале является Ranunculus kamtschaticus DC. [syn. Oxygraphis glacialis (Fisch. ex DC.) Bunge, Oxygraphis kamchatica (DC.) R. R. Stewart, Ficaria glacialis Fisch. ex DC.] из сем. Ranunculaceae. Его ареал охватывает арктические районы Сибири, горы Сибири, Средней Азии и Северной Монголии, Тибет, Гималаи, запад Аляски и Алеутские острова. В основной части ареала является диагностическим видом сообществ класса Rhodioletea quadrifidae Hilbig 2000 и порядка Rhodioletalia quadrifidae Hilbig 2000, приуроченных к каменистым участкам высокогорий [11]. Реликтовые популяции R. kamtschaticus сохранились на Среднем Урале – массив Денежкин Камень [12], Приполярном Урале – гора Баркова (выявлен А. Н. Лащенковой в 1978 г.) и в верховьях р. Хулги [13], на Полярном Урале [14]. Oxygraphis glacialis занесен в Красные книги Республики Коми [15], Свердловской области [16], Ханты-Мансийского автономного округа и Югры [17], Ямало-Ненецкого автономного округа [14] как исчезающий (статус 1) или сокращающий свою численность (2). Его ограниченное распространение и редкость на Урале связаны с высокой степенью экологической специализации вида к условиям высокогорий и крайне низкой пластичностью [18, 19].
Цель настоящей работы – изучить биоморфологические особенности и структуру реликтовых популяций R. kamtschaticus в среднегорьях Урала, оценить перспективы их сохранения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследованы две наиболее южные реликтовые популяции R. kamtschaticus на Урале, находящиеся на расстоянии 530 км друг от друга.
- Средний Урал, восточный макросклон, горный массив (г. м.) Денежкин Камень, седловина перевала Сорокинские ворота (60.4229° с. ш., 59.5354° в. д., высота 1180 м над ур. м.). Каменистая (щебнистая) горная тундра, разреженные травяно-кустарничковые группировки. Мохово-лишайниковый покров слабо развит, проективное покрытие (ПП) трав и кустарничков до 20%. В нем единично или с малым обилием представлены 24 вида, в том числе эндемики среднегорий Урала (Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub, Gypsophila uralensis Less., Lagotis uralensis Schischk., Saussurea × uralensis Lipsch.), представители арктической и аркто-альпийской широтных групп (включая Androsace lehmanniana Spreng, Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr., Carex glacialis, Diapensia lapponica L., Dryas octopetala L., Gagea serotina (L.) Ker Gawl., Rhodiola quadrifida Fisch. et C. A. Mey) и др. Заложена пробная площадь 10×10 м с учетными площадками 1 м2. Наблюдения проведены в 2000, 2001, 2004, 2007 гг., разово в период массового отцветания растений (середина июля).
- Приполярный Урал, гора Баркова (65.2081° с. ш., 60.3161° в. д., высота 1320 м над ур. м.). Плоская вершина горы, каменистая тундра. Вид встречается преимущественно по краям пятен-медальонов, на участках с развитым мохово-лишайниковым покровом (ПП = 50%, образован 34 видами). Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса до 15%. В его составе отмечены 20 видов, среди которых преобладают виды арктической и аркто-альпийской широтных групп, включая Cardamine bellidifolia L., Crepis chrysantha (Ledeb.) , Dryas octopetala L., Gagea serotina (L.) Ker Gawl., Lagotis minor (Willd.) Standl., Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr., Rhodiola quadrifida Fisch. et C. A. Mey, Silene acaulis (L.) Jacq. и др. Наибольшее обилие отмечено для Carex bigelowii subsp. arctisibirica (Jurtzev) Á. Löve & D. Löve. Использован метод трансект с учетными площадками 1 м2. Наблюдения проведены в 2012 и 2013 гг., разово в период массового плодоношения растений (конец июля).
Жизненную форму определяли в соответствии с системой биоморф И.Г. Серебрякова [20, 21]. Морфологический анализ проведен сравнительно-морфологическим методом. Для выявления поливариантности развития проанализированы 900 побегов в обеих локальных популяциях за весь период исследований.
При изучении популяций использованы подходы и методы популяционной биологии растений [22, 23]. Счетной единицей популяционных исследований на ранних этапах развития R. kamtschaticus была принята особь, позднее – ее часть (надземная часть вегетативного или вегетативно-генеративного одноосного побега). Выделены следующие условные возрастные группы: ювенильная (j) – молодые особи и вегетативные побеги с одним листом; имматурная (im) – молодые особи и вегетативные побеги с двумя листьями; виргинильная (v) – молодые особи и вегетативные побеги с тремя–четырьмя (v1) или пятью–девятью (v2) листьями (включая временно нецветущие); генеративная (g1) – вегетативно-генеративные побеги с цветком и тремя–четырьмя (g1) или пятью–десятью (g2) листьями.
При изучении семенной продуктивности использованы методы репродуктивной биологии растений [24, 25]. Для определения лабораторной всхожести семена (по 10–30 шт.) проращивали в чашках Петри в трехкратной повторности при температуре 20°C и 12-часовом световом дне, увлажняли дистиллированной водой. Варианты проращивания: свежесобранные семена; после 8 и 20 мес. сухого хранения при комнатной температуре; после 8 мес. сухого хранения и стратификации методом снегования в течение 30 дней.
Названия растений приведены по базе данных WFO Plant List [26]. Климатические характеристики местоположения модельных популяций (табл. 1) приведены по литературным данным [27, 28], показатели температуры и осадков на г. Баркова за период 2011–2013 гг. – по данным Коми ЦГМС.
Таблица 1. Климатические и погодные условия мест произрастания модельных популяций Ranunculus kamtschaticus
Параметры | Места проведения наблюдений | |
Средний Урал, массив Денежкин Камень | Приполярный Урал, г. Баркова | |
Средняя годовая температура воздуха, °C | 0.0–1.0 | –6.0–7.0 |
Среднемесячная температура воздуха января и июля, °C | –19/+15.0 | –21.0/+13.0 |
Продолжительность вегетационного (выше 5 °C) периода, сут. | 110–120 | 70–80 |
Продолжительность безморозного периода, сут. (возможность летних заморозков) | 70–80 (+) | 50–60 (+) |
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом, сут. | 180–190 | 240–250 |
Годовое количество осадков, мм | 900 | 1100 |
Отклонение среднемесячных летних температур от нормы (июнь/июль/август), °C: 2011 г. 2012 г. 2013 г. | нет данных | +6 / –2.5 / –3 +7 / +2.3 / –1 +3.8 / +6.0 / +1.6 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Биоморфология. Жизненная форма R. kamtschaticus в уральском фрагменте ареала – кистекорневая недерновая поликарпическая трава с прямостоячими ассимилирующими побегами несуккулентного типа. Слабая вегетативная подвижность, редкое ветвление и быстрая морфологическая дезинтеграция приводят к формированию клонов, напоминающих дерновинки.
Взрослое генеративное растение R. kamtschaticus состоит из побеговой и корневой частей. Корневая система вторичная гоморизная. Корни появляются в год активного роста побега и отмирают вместе с ним через несколько лет. Их масса достигает 60% от общей массы растений R. kamtschaticus [29]. Побеговая часть обычно представлена симподиальной системой побегов. В основе побеговой системы R. kamtschaticus лежит олиственный подземно-надземный ортотропный нижнерозеточный полициклический дву- или малолетний вегетативно-генеративный одноосный побег, структурно состоящий из нескольких элементарных побегов (как правило, двух пар розеточных вегетативных и удлиненных генеративных разного возраста и ритма развития) (рис. 1). Развитие такого одноосного побега обычно начинается из пазушной почки верхнего листа такого же материнского побега и заканчивается формированием верхушечной генеративной почки. Из нее к концу вегетационного сезона формируется генеративный побег длиной до 1.0 см, с полностью сформированным бутоном на верхушке. В начале следующего сезона побег достигает длины до 3.0 см, на его верхушке развивается одиночный цветок. После обсеменения генеративный побег отмирает, и его резид входит в состав отмирающей с основания многолетней побеговой системы.
Рис. 1. Схема развития побеговой системы Ranunculus kamtschaticus: 1 – часть растения весной условно первого года, 2 – осенью условно первого года, 3 – весной условно второго года, 4 – осенью условно второго года, 5 – весной условно третьего года развития; а – многолетняя часть побеговой системы (придаточные корни опущены); b – резид условно первого монокарпического побега; c – резид условно второго монокарпического побега; d – часть побега текущего года с листьями; e – верхушка побега текущего года с вегетативной верхушечной почкой; f – верхушка побега текущего года с вегетативной верхушечной почкой и почкой дочернего побега в пазухе верхнего листа; g – верхушка побега с генеративной почкой; h – цветущий генеративный побег; k – отцветший генеративный побег; l – отмерший генеративный побег.
Описанная схема развития вегетативно-генеративного побега характерна для хорошо развитых растений в благоприятных условиях. В иных случаях перехода к цветению не происходит, и формируются побеги с неполным циклом развития: одноосные олиственные подземно-надземно-ортотропные розеточные, одно- или малоциклические, одно- или двулетние вегетативные побеги. Они так же, как и вегетативно-генеративные побеги, способны к ветвлению за счет почек регулярного возобновления. Выявлено, что в обследованных популяциях R. kamtschaticus на Урале преобладают именно такие вегетативные побеги с неполным циклом развития (рис. 2). Доля цветущих побегов за годы наблюдений на массиве Денежкин Камень не превышала 15%, на г. Баркова – 28%.
Рис. 2. Распределение вегетативных (v) и вегетативно-генеративных (v-g) побегов в популяциях Ranunculus kamtschaticus на массиве Денежкин Камень (А) и г. Баркова (Б): 1–10 – число листьев на годичном побеге.
Способность R. kamtschaticus к формированию развитых генеративных почек в конце вегетационного сезона позволила проследить вариабельность развития его побегов под воздействием погодных условий (табл. 2). На Приполярном Урале (г. Баркова) в 2012 г. доля вегетативно-генеративных побегов, сформировавшихся в холодный 2011 г. и отцветших в 2012 г., составляла 21% (табл. 1, 2). Часть из них к осени вновь сформировали на верхушке цветочную почку, а другая часть продолжила развитие побега по пути неполного цикла развития. Полициклические вегетативные побеги в 2012 г. составляли 79% популяции. Из них 22% к осени 2012 г. сформировали верхушечную генеративную почку, остальные продолжали развиваться по пути неполного цикла. Таким образом, в популяции были одновременно представлены побеги с нормальными и замедленными темпами развития.
Таблица 2. Вариабельность развития побегов Ranunculus kamtschaticus (v – вегетативные, v-g – вегетативно-генеративные) на Приполярном Урале (г. Баркова, 2012 г.)
Показатели | Варианты переходов и темпы их развития | |||
v-g → v-g | v-g → v | v → v | v → v-g | |
Доля,% | 6 | 15 | 57 | 22 |
Число листьев на годичном приросте, шт. | 6–8 | 5–6 (3–8) | 2–5 (2–6) | 5–8 |
Темпы развития | Нормальные | Замедленные | Нормальные или замедленные | |
Состояние популяций. Наиболее южная на Урале локальная популяция R. kamtschaticus на Денежкином Камне занимает площадь около 600 м2, численность ее за период наблюдений колебалась в пределах 1800–2500 шт. На г. Баркова R. kamtschaticus встречается на площади около 1500 м2, образуя несколько локусов общей численностью до 1000–1500 шт. Размещение растений по площади сообществ неравномерное – от отдельных особей до скоплений в несколько десятков. По положению максимума онтогенетический спектр обследованных популяций R. kamtschaticus левосторонний, с доминированием группы вегетирующих побегов (рис. 3).
Рис. 3. Усредненные онтогенетические спектры реликтовых популяций Ranunculus kamtschaticus на Среднем Урале (1 – горный массив Денежкин Камень) и Приполярном Урале (2 – г. Баркова). Обозначения онтогенетических групп: j – ювенильная, im – имматурная, v – виргинильная, g – генеративная. Планки погрешностей отражают ошибку среднего значения.
Самоподдержание популяций R. kamtschaticus осуществляется за счет семенного и вегетативного размножения. Плод R. kamtschaticus – многоорешек, семена со слабо дифференцированным и очень маленьким зародышем [30]. Длина орешков на Приполярном Урале достигает 2.20 ± 0.044 мм (от 1.79 до 2.68 мм, CV=11%), ширина 0.78±0.024 мм (от 0.59 до 1.04 мм, CV=18%). Условно-реальная продуктивность семян на побег R. kamtschaticus на Приполярном Урале в 2013 г. составляла 52.4±2.42 (от 33 до 89, CV=28%), урожай семян в скоплениях вида – 690.4 шт./м2. Семена, формирующиеся в условиях среднегорий Урала, разнокачественные, доля нормальных выполненных семян в 2013 г. составляла около 60%. Показатели лабораторной всхожести и сохранения жизнеспособности семян R. kamtschaticus отличаются в зависимости от года формирования (табл. 4). Для них характерен длительный период набухания и проклевывания (у свежих и стратифицированных семян от 16 до 22 дней) и растянутый до 5–6 мес. период прорастания. Стратификация способствовала увеличению всхожести семян урожая 2012 г. на 35%, 2013 г. – на 16%.
Таблица 3. Характеристика локальных популяций Ranunculus kamtschaticus
Параметры | Средний Урал, массив Денежкин Камень | Приполярный Урал, г. Баркова | ||||
Год наблюдений | 2000 | 2001 | 2004 | 2007 | 2012 | 2013 |
Наличие проростков (плотность), шт./м2 | + (–) | + (1.6) | ||||
Плотность, шт./м2 | 6.7–15.1 | 46.0–51.0 | ||||
Возрастность (Δ) | – | – | 0.2036 | 0.2236 | 0.2229 | 0.2532 |
Энергетическая эффективность (ω) | – | – | 0.4438 | 0.3894 | 0.5168 | 0.5530 |
Высота генеративных побегов, мм (среднее±ошибка среднего, min–max, CV,%) | 25.7±2.5 17–38 30 | 20.4±1.2 10–49 38 | 20.0±1.3 10–50 43 | 10.7±0.9 5–20 37 | 26.5±0.9 15–40 23 | 24.2±0.8 15–37 21 |
Таблица 4. Лабораторная всхожесть семян Ranunculus kamtschaticus (Приполярный Урал, г. Баркова)
Варианты проращивания | Урожай семян 2012 г. | Урожай семян 2013 г. | ||
Среднее ± ошибка среднего,% | CV,% | Среднее ± ошибка среднего,% | CV,% | |
Свежесобранные | 9±5 | 93 | 20±10 | 87 |
После 8 мес. сухого хранения | 4±4 | 173 | 60±7 | 21 |
После 8 мес. сухого хранения и стратификации | 39±7 | 33 | 76±8 | 18 |
После 20 мес. сухого хранения | Потеря всхожести | 7±4 | 100 | |
ОБСУЖДЕНИЕ
Сохранение R. kamtschaticus в виде небольших реликтовых популяций лишь на отдельных горных вершинах Урала связано со стенобионтностью этого высокогорного азиатского вида. Миниатюрность растений R. kamtschaticus за счет формирования укороченных малометамерных побегов, компактной «розетки» листьев вегетативного побега с чертами суккулентности, редукции генеративной части до одного цветка, превышение массы корневой части над побеговой, перенос начала внепочечной фазы роста побегов на конец вегетационного сезона предыдущего года являются успешными адаптациями для произрастания вида в высокогорьях. Все это уменьшает транспирацию и помогает избежать механического повреждения растений снегом и ветром, позволяет развиваться на бедных и подвижных субстратах, использовать короткий вегетационный период.
В среднегорьях Урала к морфологическим адаптациям R. kamtschaticus можно отнести вариабельность развития побегов и побеговых систем под воздействием климатических условий. В реликтовых местонахождениях на Среднем и Приполярном Урале для обследованных популяций R. kamtschaticus характерно доминирование вегетативных побегов с неполным циклом развития (рис. 2). Причем их доля значительно выше в популяции вида на массиве Денежкин Камень, которая находится на 530 км южнее и на 140 м ниже по высоте, чем популяция на г. Баркова. В этой наиболее южной на Урале популяции R. kamtschaticus увеличена доля молодых вегетативных побегов с небольшим числом листьев на годичном приросте, что можно связать с активностью ветвления побегов и их замедленным (полициклическим) развитием. Активное вегетативное разрастание при потеплении характерно для многих арктических и аркто-альпийских растений, особенно в условиях низких высот или широт Арктики [31].
Особенности развития R. kamtschaticus в среднегорьях Урала отражаются на структуре и функционировании его популяций. Обе популяции по классификации Л. А. Животовского [23] можно отнести к «молодым». Доля генеративной группы и показатели индекса энергетической эффективности популяции R. kamtschaticus ниже на Среднем Урале (см. табл. 3, рис. 3).
Для сохранения изолированных реликтовых популяций важны процессы поддержания численности. Вегетативное размножение R. kamtschaticus осуществляется за счет взрослой партикуляции особей без омоложения партикул. Однако в условиях меняющегося климата более значимо семенное размножение, которое определяет потенциал сохранения популяции и распространения вида.
Особенности развития побегов R. kamtschaticus в модельных популяциях ограничивают активность их семенного возобновления. В период исследований на массиве Денежкин Камень доля вегетативно-генеративных побегов составляла всего около 10%, в то время как в популяции на Приполярном Урале цвело около 25% побегов (см. рис. 3). Эти показатели могут изменяться в зависимости от погодных условий, поскольку летние температуры оказывают активное влияние на развитие генеративных органов у альпийских растений [32]. Так, на Приполярном Урале в год с пониженными температурными показателями июля – августа доля побегов, сформировавших цветочную почку, составила 21%, а в теплый – 28%.
Полученные нами показатели лабораторной всхожести семян R. kamtschaticus (табл. 4) крайне вариабельны. Чтобы не нанести урон возобновлению популяции охраняемого вида, мы могли собрать не более 10% от урожая семян. Учитывая малые размеры популяции и низкий урожай семян из-за преобладания вегетативных побегов с неполным циклом развития, собрать необходимое количество семян для проращивания согласно методическим рекомендациям и статистической обработке не представляется возможным. Однако, несмотря на высокую вариабельность показателей, полученные результаты позволяют проследить некоторые закономерности.
На качество формирующихся семян влияют погодные условия. В 2013 г., наиболее теплом за период наблюдений, всхожесть семян была выше. Проращивание свежесобранных семян показало, что осенью, без периода покоя, может прорасти лишь небольшая часть семян (9–20%). Основная же масса семян R. kamtschaticus на Приполярном Урале способна к прорастанию после перезимовки – после 8 мес. хранения и стратификации их всхожесть в лабораторных условиях была максимальна (см. табл. 4). Однако растянутый до 5–6 месяцев период их прорастания, скорее всего, не позволяет полностью реализовать эту возможность в природных условиях из-за короткого вегетационного сезона (см. табл. 1). Для сравнения: по данным В. В. Вихиревой-Василевской [30], семена R. kamtschaticus, сформировавшиеся в арктической тундре (бухта Тикси), при весеннем посеве проклевывались в лабораторных условиях на 6–7-й день, а основная их масса прорастала в течение 1.5 мес. (76% из 83%). После 20 мес. хранения семена R. kamtschaticus значительно снижают/теряют свою всхожесть (см. табл. 4).
Важным фактором для оценки потенциала выживания вида является способ распространения его семян. Учитывая отсутствие специальных приспособлений у семян R. kamtschaticus, а также малую высоту его вегетативно-генеративных побегов (см. табл. 3), площадь осыпания и рассеивания семязачатков вокруг материнского растения крайне мала.
Таким образом, к рискам для семенного размножения в реликтовых популяциях можно отнести нерегулярность семяобразования из-за летних заморозков (см. табл. 1), низкую долю вегетативно-генеративных побегов в популяциях, разнокачественность формирующихся семян, увеличение длительности периода их прорастания в среднегорьях Урала и быструю потерю всхожести. Малочисленность популяций и способ распространения семян R. kamtschaticus (осыпание вблизи материнского растения) также ограничивают способность вида к колонизации новых местообитаний и территорий [33], что увеличивает угрозу вымирания при изменениях климата. Оценка рисков и угроз по критериям IUCN [34] показала, что Ranunculus kamchaticus находится на грани полного исчезновения (CR: B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)) на территории Республики Коми и Свердловской области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жизненная форма R. kamtschaticus в уральском фрагменте ареала – кистекорневая недерновая поликарпическая трава с прямостоячими ассимилирующими побегами несуккулентного типа. Показана вариабельность развития побегов в реликтовых популяциях под воздействием климатических и погодных условий. В среднегорьях Урала отмечено преимущественное развитие побегов с неполным циклом развития, что проявляется на популяционном уровне в снижении доли вегетативно-генеративных побегов. Нерегулярность плодоношения, длительный период прорастания и быстрая потеря всхожести семян снижают конкурентоспособность R. kamtschaticus на Урале и его способность к колонизации новых территорий.
Обследованные популяции R. kamchaticus находятся в критическом состоянии. Для их сохранения, помимо юридической и территориальной охраны, необходим мониторинг вида, создание межрегионального генетического банка семян, при необходимости – реконструкция природных популяций методом прямого посева семян в подходящие микросайты.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института биологии Коми НЦ УрО РАН № 122040600026-9. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
L. V. Teteryuk
Institute of Biology, Federal Research Center Komi Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: teteryuk@ib.komisc.ru
Russian Federation, 167982, Syktyvkar
Yu. A. Bobrov
Syktyvkar State University
Email: teteryuk@ib.komisc.ru
Russian Federation, 167001, Syktyvkar
O F. Kirsanova
Pechora-Ilychsky Nature Reserve
Email: teteryuk@ib.komisc.ru
Russian Federation, 169436, Komi Republic, Troitsko-Pechorsky district, Yaksha village
References
- Gottfried M., Pauli H., Futschik A. et al. Continent-wide response of mountain vegetation to climate change // Nature Climate Change. 2012. № 2. P. 111–115.
- Mountain Research Initiative EDW Working Group. Elevation-dependent warming in mountain regions of the world // Nature Climate Change. 2015. № 5. P. 424–430. https://doi: 10.1038/nclimate2563
- Dirnböck T., Essl F., Rabitsch W. Disproportional risk for habitat loss of high‐altitude endemic species under climate change // Global Change Biology. 2011. V. 17. № 2. P. 990–996. https://doi: 10.1111/j.1365–2486.2010.02266.x
- Kulonen A., Imboden R.A., Rixen C. et al. Enough space in a warmer world? Microhabitat diversity and small-scale distribution of alpine plants on mountain summits // Diversity and Distributions. 2018. V. 24. № 2. P. 252–261. https://doi: 10.1111/ddi.12673
- Alexander J.M., Chalmandrier L., Lenoir J. et al. Lags in the response of mountain plant communities to climate change // Global Change Biology. 2018. V. 24. № 2. P. 563–579. https://doi: 10.1111/gcb.13976
- Горчаковский П.Л. Основные проблемы исторической фитогеографии Урала // Труды Института экологии растений и животных УФАН СССР. Свердловск: Урал. фил. АН СССР, 1969. Вып. 66. 286 с.
- Куликов П.В. Особенности и структура генезиса высокогорной флоры массива Денежкин Камень (Северный Урал) // Труды государственного заповедника «Денежкин Камень». Екатеринбург: Изд-во «Академкнига», 2003. Вып. 2. С. 102–113.
- Шиятов С.Г. Динамика древесной и кустарниковой растительности в горах Полярного Урала под влиянием современных изменений климата. Екатеринбург: Уральское отделение РАН, 2009. 216 с.
- Григорьев А.А., Моисеев П.А., Нагимов З.Я. Динамика верхней границы древесной растительности в высокогорьях Приполярного Урала под влиянием современного изменения климата // Экология. 2013. № 4. С. 284–295. https://doi: 10.7868/S0367059713040069
- Дэви Н.М., Кукарских В.В., Галимова А.А. и др. Современная динамика высокогорных лесов на Северном Урале: основные тенденции // Журнал Сибирского федерального ун-та. Биология. 2018. Т. 11. № 3. С. 248–259. https://doi: 10.17516/1997–1389–0069
- Hilbig W. Kommentierte Ubersicht uber die Planzengesellschaften und ihre hӧheren Syntaxa in der Mongolei // Feddes Repertorium. V. 111. № 1–2. P. 75–120.
- Сарапульцев И.Е., Куликов П.В., Кирсанова О.Ф. О находках новых и редких растений в заповеднике «Денежкин Камень» // Исследования эталонных природных комплексов Урала: Мат-лы научной конференции. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2001. С. 189–190.
- Игошина К.Н. Флора равнинных и горных тундр и редколесий Урала // Растительность Крайнего Севера СССР и ее освоение. М.; Л.: Наука, 1966. Вып. 6. С. 135–223.
- Морозова Л.М. Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge. // Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Изд-во «Баско», 2010. С. 135.
- Мартыненко В.А., Тетерюк Л.В. Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge. // Красная книга Республики Коми. Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2019. С. 543.
- Золотарева Н.В. Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge. // Красная книга Свердловской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург: ООО «Мир», 2018. С. 311.
- Васина А.Л. Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge // Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Изд-во “Баско”, 2013. С. 131.
- Юдин С. И. Результаты интродукции растений Алтая в Киеве // Бюлл. Главного бот. сада. 2001. № 182. С. 25–30.
- Ачимова А.А., Буглова Л.В., Васильева О.Ю. Растения Горного Алтая для ландшафтной архитектуры Сибири (семейство Ranunculaceae) // Успехи современной науки. 2016. Т. 7. № 4. С. 110–114.
- Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. М.: Высшая школа, 1962. 379 с.
- Серебряков И. Г. Жизненные формы высших растений // Полевая геоботаника. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1964. Т. 3. С. 164–205.
- Ценопопуляции растений: основные понятия и структура. М.: Наука, 1976. 215 с.
- Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология. 2001. № 1. С. 3–7.
- Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений. Обзор проблемы. М.: Наука, 1981. 96 с.
- Ишмуратова М.М., Ткаченко К.Г. Семена травянистых растений: особенности латентного периода, использование в интродукции и размножении in vitro. Уфа: Гилем, 2009. 116 с.
- WFO Plant List. http://www.wfoplantlist.org (Accessed 07.06.2023).
- Свердловская область. Атлас: учеб. пос. / Ред. Капустин В.Г., Корнев И.Н. Екатеринбург: ФГУП «Уральская картографическая фабрика», 2003. 24 с.
- Атлас Республики Коми по климату и гидрологии. М.: Дрофа; Дик, 1997. 116 с.
- Семихатова О.А., Иванова Т.И., Кирпичникова О.В. Растения Севера: дыхание и его связь с продукционным процессом // Физиология растений. 2009. Т. 56. № 3. С. 340–350.
- Вихирева-Василевская В.В. О прорастании семян некоторых арктических растений // Ботан. журн. 1958. Т. 43. № 7. С. 1024–1029.
- Arft M., Walker M. D., Gurevitch J. et al. Responses of tundra plants to experimental warming: meta-analysis of the international tundra experiment // Ecological Monographs. 1999. V. 69. № 4. P. 491–511.
- Abeli T., Rossi G., Gentili R. et al. Response of alpine plant flower production to temperature and snow cover fluctuation at the species range boundary // Plant Ecology. 2012. V. 213. P. 1–13.
- Engler R., Randin C. F., Vittoz P. et al. Predicting future distributions of mountain plants under climate change: does dispersal capacity matter? // Ecography. 2009. V. 32. P. 34–45. https://doi: 10.1111/j.1600–0587.2009.05789.x
- IUCN Standards and Petitions Committee. 2019. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 14. Prepared by the Standards and Petitions Committee. Downloadable from http://www.iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf.
Supplementary files