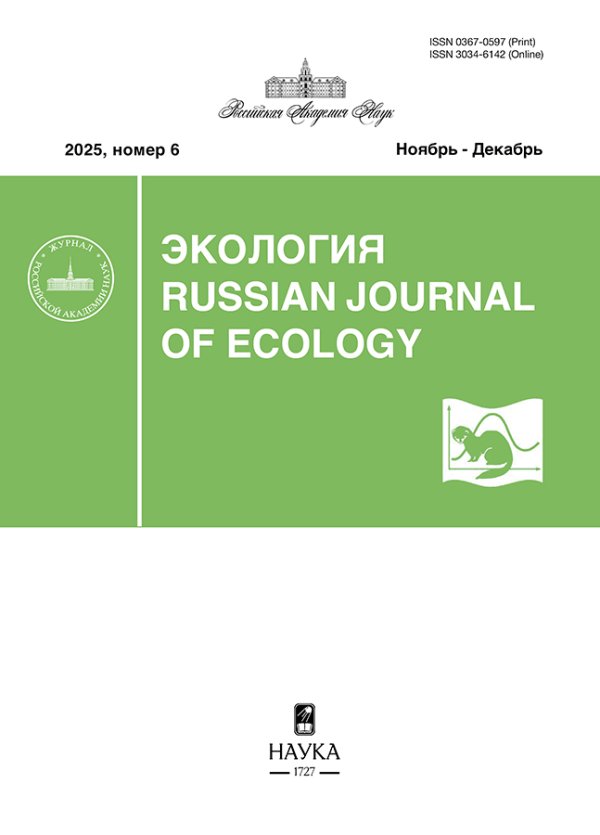Radial growth of Pinus sylvestris L. in island bores of Northern Kazakhstan in the context of climate and geomorphological conditions
- Authors: Gurskaya M.A.1, Agafonov L.I.1, Kukarskih V.V.1, Surkov A.Y.1, Chen F.2
-
Affiliations:
- Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
- Yunnan University
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 390-406
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-0597/article/view/272027
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367059724050056
- EDN: https://elibrary.ru/WCAKWW
- ID: 272027
Cite item
Full Text
Abstract
Tree-ring chronologies based on the width of the annual ring of Scots pine (Pinus sylvestris L.) were studied at 8 test sites in island forests in the north of the Republic of Kazakhstan from the Turgai trough to the eastern part of the Kazakh small hills. An analysis of the relationships between the radial growth of pine and climate showed that the climate signal in chronologies can change depending on geomorphological conditions determined by the edaphic factor, relief and absolute elevations. These features must be taken into account when using tree-ring chronologies for spatiotemporal climate reconstructions.
Full Text
Древесно-кольцевые хронологии (ДКХ) из Центральной Азии показывают высокую чувствительность радиального прироста сосны к аридному климату и достоверность дендроклиматических реконструкций [1–4]. Дендроклиматические исследования в аридном климате России выполняются на Алтае и Южном Урале [5–10], на юге Красноярского края и в Забайкалье [11–14]. В работе [15] анализировали изменчивость отклика радиального прироста сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на климат в лесостепи Южной Сибири по мере усиления его континентальности с запада на восток на 4900-километровой трансекте. Однако такие южные территории, как северная часть Республики Казахстан, еще недостаточно изучены дендрохронологами.
В Казахстане, как и на всей территории Евразии, отмечают современное изменение климата. Здесь за последние 100 лет температура повысилась на 0.8–1.3оС с темпами роста с 1950-х годов на 0.3оС за десятилетие, в северной части страны наблюдается увеличение количества осадков, включая зимний период [16, 17]. Повышение температуры воздуха в Казахстане влияет на засушливость климата, которая, как ожидается, будет усиливаться [18]. Более высокая температура поверхности приводит к повышенному испарению и снижению влажности почвы, особенно в засушливые летние месяцы, что увеличивает риск засухи [19, 20].
Обзор дендроклиматических исследований для Казахстана приведен в работе [21]. Однако отметим, что наибольшее число работ выполнено в горах на юге и юго-востоке страны, а также в горах Казахского Алтая [21–23], где основными объектами изучения были ель Шренка (Picea shrenkiana Fisch.) и лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.). На севере Казахстана ДКХ сосны исследовали в национальном парке “Бурабай” [24, 25, 26], на северо-востоке и юго-западной оконечности Алтайских ленточных боров [26]. Для северных территорий в работе [4] отмечено увеличение радиального прироста сосны при повышении температуры воздуха и росте количества атмосферных осадков в регионе. Авторы указывают на пространственные различия в реакции прироста сосны на климатические факторы между субрегионами, отмечая, что для радиального прироста сосны в восточной части летние осадки имеют большее значение по сравнению с западным и центральным регионами.
Островные массивы сосновых лесов на севере Казахстана протянулись более чем на 1500 км с запада на восток от южной оконечности Уральских гор до Алтая, и сосна произрастает здесь в различных климатических подзонах и геоморфологических условиях [27, 28]. Различия отмечаются в ландшафтах и высотных отметках над уровнем моря, подстилающих породах и почвенных условиях. Однако в основном исследовали связи прироста с климатическими факторами (температурой воздуха, атмосферными осадками, засухами) без учета других природно-экологических факторов, в частности геоморфологических особенностей территорий, на которых выполнялись работы.
В 2010–2018 гг. нами были собраны керны сосны обыкновенной на долготной трансекте протяженностью от Наурзумского государственного природного заповедника (51о29’с.ш., 64о18’в.д.) на западе до Каркаралинского государственного национального природного парка на востоке (49о25’с.ш., 75о25’в.д.). Поскольку эта территория в дендроклиматическом аспекте остается малоизученной, наше исследование на начальном этапе имело две основные задачи: 1) изучить отклик радиального прироста сосны в различных геоморфологических и климатических условиях на территории Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областей Республики Казахстан; 2) оценить дендроклиматический потенциал ДКХ сосны обыкновенной на этой протяженной территории.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Район исследований представлен тремя геоморфологическими регионами – Тургайским прогибом, Северо-Казахстанской равниной и Казахским мелкосопочником, и расположен между крупными равнинами – Западно-Сибирской на севере и Туранской низменностью на западе, а на востоке примыкает к долине р. Обь. Внутриконтинентальное положение района обусловливает резко континентальный засушливый климат, где ~75% территории чувствительны к аридизации и подвержены периодическим засухам [19, 29, 30].
Леса Казахстана характеризуются очень неравномерным распространением и занимают лишь 4.7% его территории [31]. В структуре лесов на хвойные виды приходится ~14%, при этом ~80% площади хвойных лесов расположены на севере и северо-востоке Казахстана [17]. Важно, что лесорастительные условия обусловлены здесь не только климатом, но и комплексом геоморфологических структур и литологическими особенностями ландшафта [32]. Предполагается [33–35], что леса Северного Казахстана – это реликтовые леса, сохранившиеся со времени позднего плейстоцена, когда они могли быть распространены полосой от Южного Урала до Алтая.
Исследования проводили на 8 тест-полигонах (ТП), где с живых деревьев сосны обыкновенной были собраны керны. Расстояние между крайними ТП по прямой >800 км (рис. 1). Сведения о природных условиях районов исследования приведены в табл. 1. Для характеристики климата ТП использовали агроклиматическое районирование, предложенное С.С. Байшолановым с соавт. [27].
Рис. 1. Географическое расположение дендрохронологических тест-полигонов (1–8) в Северном Казахстане.
Таблица 1. Природные условия дендроклиматических тест-полигонов
№ тест-полигона | Название | Территория1 | Широта | Долгота | Высота над ур.м., м | Природная зона | Климат2 | ΣT>10°C3 | ВС, дни4 | Годовые осадки, мм | Эдафические условия |
1 | Аман-Карагай | ТПр | 52° 48’ | 64° 06’ | 140 | Степь | III-б | 2600 | 145–150 | 309 | Песчаные почвы |
2 | Наурзум | ТПр | 51° 53’ | 64° 47’ | 125 | Степь | III-б | 2600 | 145–150 | 309 | Песчаные почвы |
3 | Рощинское | СКр | 54° 04’ | 69° 14’ | 120 | Степь | I | 2300 | 135–140 | 352 | Супесь |
4 | Сандыктау | KMц | 52° 57’ | 68° 88 | 425 | Лесостепь | I | 2200 | 135–140 | 308 | Выходы гранитов |
5 | Малые Тюкты | KMц | 52° 83’ | 69° 49’ | 480 | Лесостепь | I | 2200 | 135–140 | 308 | Выходы гранитов |
6 | Бурабай | KMц | 53°00’ | 70° 16’ | 450 | Лесостепь | I | 2200 | 135–140 | 308 | Выходы гранитов |
7 | Баянаул | КМюв | 50° 74’ | 75° 63’ | 600 | Лесостепь | III-б | 2500 | 150–155 | 323 | Выходы гранитов |
8 | Каркаралы | КМюв | 49° 45’ | 75° 35’ | 880 | Лесостепь | III-б | 2500 | 150–155 | 323 | Выходы гранитов |
Примечание. 1 – территория: ТПр – Тургайский прогиб, СКр – Северо-Казахстанская равнина, KMц – Казахский мелкосопочник, центральная часть, КМюв – Казахский мелкосопочник, юго-восточная часть; 2 – климат по [27]: I – умеренно влажный умеренно теплый, III-б – слабо засушливый теплый; 3 – сумма эффективных температур по [27]; 4 – продолжительность вегетационного сезона по [27].
ТП 1 (Аман-Карагай) и ТП 2 (Наурзум) располагаются в зоне Тургайского прогиба, рассекающего Туранскую низменность с севера на юг. Это эрозионно-тектоническая форма рельефа протяженностью более 600 км с высотами 100–120 м над ур.м., что значительно ниже поверхности Туранской низменности на 100–200 м. По геоботанической классификации это Южно-Притобольская умеренно сухая степь Тобол-Убаганской провинции равнинной степи с песчаными почвами, которые подвержены интенсивной дефляции [28]. ТП 1 – лесной массив, который частично используется в хозяйственной деятельности [36], а ТП 2 – Наурзумский государственный заповедник, который входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Сары-Арка–степи и озера Северного Казахстана» (https://whc.unesco.org/en/list/). Оба ТП – небольшие массивы сосновых лесов среди степи на песчаных возвышенностях и дюнах.
На Северо-Казахстанской равнине в умеренно засушливой степи Ишимо-Иртышской провинции с высотами до 120 м над ур. м. [28] на супесчаных почвах располагается ТП 3 (Рощинское) – это самый северный ТП (см. табл. 1).
ТП 4 (Сандыктау), 5 (Малые Тюкты), 6 (Бурабай), 7 (Баянаул) и 8 (Каркаралы) располагаются в гористой части Казахского мелкосопочника (см. рис. 1 и табл. 1), одного из самых больших геоморфологических регионов Казахстана (700 тыс. км2) – с запада на восток его протяженность почти 1500 км (61–85о в.д.). Диапазон высот над уровнем моря изменяется от 200 м на западе до 1500 м на востоке. Горные породы представлены сильно метаморфизированными докембрийскими и палеозойскими толщами с гранитными интрузиями разного возраста [28]. Атмосферные осадки в этот регион поступают преимущественно с атлантическим и арктическим переносом воздушных масс. ТП 4, 5 и 6 располагаются в северо-западной части Казахского мелкосопочника. Резкая континентальность климата смягчается здесь орографическими поднятиями и сильной расчлененностью рельефа: чем более расчлененный рельеф, тем больше выпадает осадков [28]. Леса произрастают преимущественно на выходах гранитов. ТП 7 и 8 (см. рис. 1 и табл. 1) располагаются в восточной, более высокогорной части Казахского мелкосопочника – это Ерементау-Каркаралы горно-мелкосопочная умеренно сухая степь с высотами до 1350 м над ур.м. Горные массивы сложены преимущественно гранитами, на которых произрастает сосна [28]. Обе территории имеют статус национальных парков.
Древесно-кольцевые хронологии. Керны сосны обыкновенной отбирали на высоте ствола 0.3–0.4 м от поверхности почвы. Такой подход был использован, чтобы получить наиболее однородные по возрасту и максимальные по длительности ряды индивидуальных ДКХ, поскольку сосна на гранитах растет медленнее, чем на песчаных и супесчаных почвах, и достигает возраста на высоте 1.3 м в более позднем возрасте. В исследовании использовали керны с 208 деревьев.
При подготовке и анализе образцов руководствовались методикой [37]. Общую ширину годичных колец измеряли на LINTAB 5 в программном пакете TSAP Measuring System (Rinntech, Germany). Перекрестное датирование и проверку качества измерений проводили в программах TSAP [38] и COFECHA [39]. Программу ARSTAN [40] использовали для построения обобщенных ДКХ и стандартизации с целью устранения возрастного тренда в радиальном приросте, а также влияния на прирост местных факторов неклиматического характера. Для этих целей применялся кубический сглаживающий сплайн 67% от длины индивидуальных ДКХ.
Все полученные ДКХ имели высокий коэффициент автокорреляции. Повышенная автокорреляция предполагает более частое появление относительно высокой, но ложной статистики при выполнении климатических реконструкций, в связи с этим в последующем анализе связи радиального прироста с климатическими факторами мы использовали хронологии остатков (residuals), в которых автокорреляция устранена [40].
Для определения дендроклиматически однородных географических областей были использованы факторный анализ хронологий методом главных компонент и кластерный анализ. В программе Statistica 8.0 выполнена иерархическая классификация с объединением по методу единственной связи, выбранная мера близости – евклидово расстояние.
Климатические данные. Все климатические данные взяты с сайта Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI) Climate Explorer (http://climexp.knmi.nl/). Для анализа климата использовали среднемесячные значения осадков и температуры воздуха CRU TS 4.04 [41] в координатной сетке 0.5 × 0.5о (49–54о с.ш., 64–76о в.д.) за период 1901–2019 гг. Сравниваемые в работе 30-летние подпериоды 1901–1930 и 1990–2019 гг. выбраны как наиболее удаленные во времени. Оценку значимости различий между подпериодами рассчитывали методом дисперсионного анализа в пакете ANOVA. С помощью стандартной самокалибрующейся процедуры CRU PDSI 1901–2017 0.5о Global 3.26 были рассчитаны индексы суровости засух Палмера (scPDSI) для периода с мая по июль.
Согласно литературным данным [42, 43], на формирование годичных колец влияют не только климатические условия текущего, но и условия предшествующего года. В связи с этим мы использовали различные комбинации ежемесячных климатических данных от предыдущего до текущего года для выявления связи между шириной годичных колец и климатом.
Связи радиальный прирост – климат. Корреляционный (парные коэффициенты корреляции Пирсона) и регрессионный анализы были проведены для оценки климатического отклика хронологий. Постоянство/стабильность климатического сигнала (температура, осадки, индекс суровости засух Палмера scPDSI) в ДКХ во времени [44] оценивали бутстрап анализом в программе Dendroclim2002 [45] для всех ТП за 1901–2011 гг., в «окне» 40 лет с шагом 1 год. Корреляция между хронологиями и климатическими переменными (температура воздуха, осадки) была рассчитана для сезонов: апрель–июль, май–июль, май–июнь, июнь–июль, октябрь–апрель. Сравнение полученных коэффициентов регрессии выполняли в пакете ANOVA.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Особенности климата. Средняя годовая температура на ТП варьирует от +1.3оС (ТП 3 и ТП 6) до +3.7оС (ТП 2), средняя температура января от –16.0оС (ТП 7 и 8; рис. 2а) до –17.5оС (ТП 4 и 5), а в июле от +19оС (ТП 8; рис. 2б) до +22.7оС (ТП 2). Наибольшая амплитуда годовых температур характерна для западной части территории (ТП 2), а наименьшая – на юго-востоке (ТП 7 и 8). Наибольшие различия температуры характерны для летнего периода (см. рис. 2б). Различия в холодный период года (октябрь – март) наименее выражены. Максимальная разница летних температур наблюдается в июле (3.7оС) между западным ТП 2 и восточным ТП 8 (см. рис. 2б).
Рис. 2. Климатические данные для исследованных тест-полигонов. Средние значения для 1901–2019 гг. (по CRU TS 4.04): среднегодовая температура (а); средняя температура сезона вегетации (б); годовые осадки (в); осадки сезона вегетации (г).
В районе исследования осадки варьируют в достаточно широком диапазоне и ~50% из них приходится на период с мая по август (рис. 2в и 2 г). В мае–июле наблюдается выраженный тренд увеличения количества осадков с запада на восток (см. рис. 2в). Однако при сохраняющемся тренде увеличения количества осадков на всех ТП в июле–августе на ТП 7 и 8 их меньше, чем на соседних ТП 5 и 6. Наибольшее количество осадков летнего периода характерно для ТП 3 и 6, а минимальное – для ТП 2 (см. рис. 2г).
Сравнение отклонений температуры и осадков в течение года и за май–июль в период 1990–2019 гг. относительно 1901–1930 гг. показало, что годовой ход температуры хорошо согласовывается между ТП, при этом в 1990–2019 гг. произошло увеличение температуры всех месяцев, кроме июля (рис. 3а). Наибольший рост отмечается в феврале, марте и апреле. В марте температура повысилась на ~4оС на всех ТП. В первой половине сезона вегетации температура выросла в среднем на 1.2оС в мае и 0.8оС в июне, а в июле за период 1990–2019 гг. почти не изменилась по сравнению с 1901–1930 гг. В августе–декабре температура также повысилась, особенно в западной части – на территории ТП 1 и 2.
Рис. 3. Отклонения температуры воздуха в течение года (а) и в мае–сентябре (б) и атмосферных осадков (в, г) на тест-полигонах в период 1990–2019 гг. относительно 1901–1930 гг. Значимые изменения (p < 0.05) отмечены знаком *. Цветовое обозначение тест-полигонов см. на рис. 2.
Изменение количества осадков не имеет явной синхронности на всех ТП, за исключением июня и июля (рис. 3в). В целом на большинстве ТП в 1990–2019 гг. они уменьшились по сравнению с 1901–1930 гг. Особенно резкое и синхронное уменьшение осадков произошло в июне 1990–2019 гг. на всех ТП, а наибольшее снижение наблюдалось на ТП 3, 4, 5 и 6. Напротив, в июле произошло резкое и синхронное увеличение осадков на всех ТП, за исключением ТП 1 и 2, где их количество было сопоставимо с периодом 1901–1930 гг. (рис. 3в, г).
Древесно-кольцевые хронологии и их группировка. Полученные результаты свидетельствуют о том, что максимальный возраст деревьев не зависит от природно-климатической зоны, скорее, статус территории влияет на их возраст. На территории природных парков старые деревья встречаются чаще, чем в лесах без охранного статуса. Наиболее длительная хронология составила 273 года на ТП 8 (табл. 2).
Таблица 2. Характеристики индексированных стандартных древесно-кольцевых хронологий
Тест-полигон | Статус территории1 | Число деревьев | Период ДКХ, годы | Длительность хронологии, лет | Число годичных колец | Выпадающие кольца, % | МКК2 | КЧ3 | СШГК ± СО4, мм | МШ5, мм | АК16 |
1 | БС | 29 | 1863–2010 | 148 | 3709 | 0.08 | 0.69 | 0.27 | 1.77 ± 1.13 | 8.75 | 0.79 |
2 | ГЗ | 26 | 1806–2010 | 205 | 4450 | 0.02 | 0.61 | 0.18 | 1.64 ± 1.11 | 10.24 | 0.80 |
3 | БС | 23 | 1851–2010 | 160 | 2928 | 0.54 | 0.69 | 0.35 | 1.41 ± 1.16 | 10.26 | 0.81 |
4 | БС | 26 | 1764–2010 | 247 | 4657 | 0.17 | 0.74 | 0.32 | 0.79 ± 0.55 | 6.43 | 0.74 |
5 | БС | 19 | 1866–2018 | 152 | 2586 | 0.62 | 0.72 | 0.32 | 1.11 ± 0.78 | 6.36 | 0.66 |
6 | НП | 31 | 1805–2018 | 214 | 5492 | 0.22 | 0.81 | 0.35 | 0.62 ± 0.41 | 3.61 | 0.61 |
7 | НП | 25 | 1829–2011 | 183 | 3574 | 0.26 | 0.71 | 0.32 | 0.93 ± 0.6 | 6.77 | 0.54 |
8 | НП | 29 | 1739–2011 | 273 | 5788 | 0.16 | 0.75 | 0.29 | 0.68 ± 0.60 | 5.78 | 0.73 |
Примечание. 1: БС – без статуса, ГЗ – государственный заповедник, НП – национальный парк; 2 – межсерийный коэффициент корреляции; 3 – коэффициент чувствительности; 4 – средняя ширина годичного кольца и стандартное отклонение; 5 – максимальная ширина годичного кольца; 6 – автокорреляция первого порядка.
Количество выпадающих колец в хронологиях варьирует от 0.02 до 0.62% и не зависит от природно-климатических условий, хотя деревья на ТП 1 и 2 имеют наименьшее количество выпадающих колец, а на ТП 3 и 5 – наибольшее (см. табл. 2). На общем для всех деревьев интервале 1866–2010 гг. часто выпадающие кольца отмечены в 1878, 1900, 1911, 1931, 1955, 1963, 1977, 1991, 1998 и 2004 гг. Для всех хронологий характерны высокие межсерийные коэффициенты корреляции, которые варьируют от 0.61 до 0.81. Более высокие коэффициенты отмечаются у ДКХ Казахского мелкосопочника (ТП 4–8), где деревья произрастают на гранитах. За исключением ТП 2, все хронологии имеют высокий коэффициент чувствительности (см. табл. 2), что указывает на выраженное влияние климатических условий. Средняя ширина годичных колец на ТП 1–3 несколько выше, чем на остальных ТП (табл. 2, рис. 4).
Рис. 4. Измеренные обобщенные хронологии ТП 1–8: черная линия соответствует средним значениям радиального прироста в мм, серым цветом показаны стандартные отклонения.
Все стандартные индексированные хронологии имеют высокий коэффициент автокорреляции первого порядка (АК1), что означает зависимость величины радиального прироста от погодно-климатических условий предшествующего года [42, 43]. По величине АК1 можно заметить, что наиболее высокие значения характерны для ТП 1, 2 и 3, где АК1 варьирует от 0.79 до 0.81, и эти ТП расположены на равнинах с песчаными почвами (см. табл. 2). На остальных ТП величина АК1 варьирует от 0.61 до 0.7 – это ТП Казахского мелкосопочника, подстилаемые гранитами.
Географически близкие ТП показывают более высокие значения коэффициентов корреляции между ДКХ и разделяются на 3 группы (табл. 3). Самые низкие коэффициенты – между крайними группами ТП (1–3 против 7–8). Сравнение по критерию коэффициентов корреляций указывает на разделение ТП на группы со сходными геоморфологическими условиями.
Таблица 3. Матрица коэффициентов корреляций Пирсона (p < 0.05) для индексированных хронологий между тест-полигонами (ТП) на общем интервале времени 1866–2010 гг.
ТП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 0.57 | ||||||
3 | 0.42 | 0.45 | |||||
4 | 0.44 | 0.35 | 0.48 | ||||
5 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.71 | |||
6 | 0.38 | 0.27 | 0.41 | 0.73 | 0.63 | ||
7 | 0.22 | 0.10* | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | |
8 | 0.26 | 0.17* | 0.37 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.71 |
* Незначимые коэффициенты корреляции. Заливкой выделены группы, объединяемые по сходным геоморфологическим условиям и наиболее высоким коэффициентам корреляции.
Факторный анализ хронологий методом главных компонент выявил два основных фактора, объясняющих до 68% изменчивости прироста в ДКХ: первый фактор определяет 51% изменчивости, второй – 17%. Выделяются две группы ТП благодаря различию знаков факторов 1 и 2 (рис. 5): первая группа – ТП 1, 2 и 3, во вторую группу вошли ТП 4–8. Однако вторую группу ТП можно представить двумя подгруппами – ТП 4–6 и ТП 7–8.
Рис. 5. Факторный анализ древесно-кольцевых хронологий с тест-полигонов 1 – 8 по методу главных компонент.
Кластерный анализ хронологий также показал разделение всех ТП на группы. Восточные ТП 7 и 8 образуют отдельный кластер (рис. 6), аналогично обособляются центральные ТП 4–6 и западные ТП 1 и 2, к которым тяготеет ТП 3. Заметим, что при этом ТП также группируются в соответствии с геоморфологическими условиями.
Рис. 6. Результаты кластерного анализа хронологий исследованных тест-полигонов – диаграмма евклидовых расстояний.
Связи радиальный прирост – климат. На всех ТП связь радиального прироста сосны с температурой и осадками имеет классический вид, характерный для внутриконтинентальных областей Евразии с аридным и семиаридным климатом: отрицательная – с температурой и положительная – с осадками в сезон вегетации (рис. 7). Такой характер связи отмечается для Южного Урала [5, 10, 46], Северного Казахстана [2, 4, 25], Алтая [6–8], Хакассии и Тувы [10–13]. Поскольку значимых связей прироста ранее сентября предшествующего года не выявлено, на рис. 7 анализируемый интервал времени представлен с сентября предшествующего года.
Рис. 7. Коэффициенты корреляции между обобщенными индексированными хронологиями тест-полигонов и температурой воздуха (а) и осадками (б). Горизонтальная линия – уровень значимости (p < 0.05). Цветовое обозначение тест-полигонов см. на рис. 2.
В мае–июле хронологии на всех ТП различаются в отклике на температуру. Наибольшие различия наблюдаются в мае и июле (рис. 7а). У хронологий с ТП 1, 2 и 5 нет значимой связи с температурой мая, тогда как на ТП 3, 4, 6, 7 и 8 отмечается значимая (особенно на ТП 6, 7 и 8) отрицательная связь с температурой этого месяца, при этом на ТП 7 и 8 влияние температуры максимально значимо в сезон. Температура июня оказывает значимое отрицательное влияние на ширину годичных колец сосны на всех ТП, причем на ТП 1–4 и ТП 6 это максимальные коэффициенты за сезон. В июле значимая связь ДКХ с температурой проявляется только на ТП 1–3 и ТП 7, а на ТП 4–6 и 8 влияние температуры незначимо.
Отметим некоторые выявленные особенности связи ДКХ с температурой. Для ТП 1–4 и ТП 6 наблюдается тенденция усиления связи от мая к июню и последующее ее ослабление в июле. На ТП 7 и 8 максимальное влияние температуры на прирост отмечается в мае и ослабевает в последующие месяцы.
Связь ДКХ с осадками имеет положительный знак практически для всех ТП в течение года (см. рис. 7б). Значимое влияние осадков на прирост наблюдается уже с апреля на ТП 6–8 и становится максимальным в июне, сохраняя свою значимость в июле на ТП 7. В мае, июне и июле связь ДКХ с осадками значима на ТП 1–3, а на ТП 4–5 только в мае и июне. Отметим тенденцию усиления значимой связи ДКХ с осадками от апреля к июлю для ТП 6–8 и для ТП 1 от мая к июлю. На остальных ТП видимые тенденции связи хронологий с осадками не проявляются.
Множественный линейный регрессионный анализ показал, что на калибровочном интервале 1911–2015 гг. в текущий сезон вегетации осадки объясняют изменчивость ДКХ на всех ТП в большей степени, чем температура (табл. 4). Вклад температуры в изменчивость прироста варьирует от 30% (ТП 2) до 57% (ТП 3), медиана для всех ТП равна 45%. Вклад осадков в изменчивость прироста варьирует от 42% (ТП 7) до 64% (ТП 1), медиана – 51.5%. Данные табл. 4 показывают, что изменчивость прироста, обусловленная температурой, на ТП 3, 4, 6–8 начинает проявляться с начала мая, а на ТП 1, 2 и 5 позднее – с июня. Изменчивость прироста, обусловленная осадками, начинает проявляться еще раньше – с апреля на восточных ТП 6–8 и с мая – на более западных ТП 1–5. При этом модель, основанная только на осадках, описывает меньшую изменчивость прироста на восточных ТП 5–8 по сравнению с западными ТП 1, 3, 4. Совместное влияние температуры и осадков еще более усиливает изменчивость прироста на всех ТП (см. табл. 4). Следует отметить, что влияние осадков за период с мая предшествующего года по июль текущего имеет низкую значимость, а связь с температурой воздуха за этот же период отсутствует.
Таблица 4. Изменчивость радиального прироста сосны на тест-полигонах (ТП), обусловленная влиянием температуры воздуха и атмосферных осадков за период 1911–2015 гг. (жирный шрифт – значимые коэффициенты (р ≤ 0.05), «п» – предшествующий год)
ТП | Температура | Осадки | Температура и осадки текущего сезона вегетации | ||||
Месяцы | Изменчивость, % | Месяцы | Изменчивость, % | Месяцы | Изменчивость, % | Изменчивость, % | |
1 | 6−7 | 46 | 5−7 | 64 | 5п-7 | 22 | 66 |
2 | 6–7 | 30 | 5−7 | 49 | 5п-7 | 14 | 50 |
3 | 5−7 | 57 | 5−7 | 57 | 5п-7 | 30 | 66 |
4 | 5−6 | 48 | 5−6 | 58 | 5п-7 | 18 | 52 |
5 | 6 | 35 | 5−6 | 50 | 5п-7 | 17 | 57 |
6 | 5−6 | 44 | 4−6 | 53 | 5п-7 | 19 | 57 |
7 | 5−7 | 48 | 4−7 | 42 | 5п-7 | 19 | 53 |
8 | 5–6 | 39 | 4−6 | 46 | 5п-7 | 15 | 53 |
Постоянство связи прироста с климатом во времени. Результаты анализа показали, что связь прироста с температурой вегетационного сезона не всегда постоянно значима во времени (рис. 8а). С 1960-х гг. прослеживается общая для всех ТП тенденция усиления постоянства значимости связи прироста с температурой мая. Однако только на ТП 8 эта связь значима на всем интервале 1901–2018 гг. В июне связь прироста с температурой значимо постоянна только на ТП 3–6, при этом общая тенденция изменений не выражена. Постоянство значимой связи прироста с температурой июля 1901–2018 гг. выявлено только на ТП 1 и 3, остальные ТП не проходят этот тест.
Рис. 8. Анализ стабильности связи прироста сосны на исследованных тест-полигонах за период май–июль (5, 6, 7 соответственно) с температурой воздуха (а), атмосферными осадками (б) и индексом суровости засух Палмера (в). Горизонтальные линии соответствуют уровню значимости p < 0.05. Цветовые обозначения тест-полигонов соответствуют рис. 2.
Кривые постоянства значимой связи прироста на всех ТП с осадками мая–июля не показывают каких-либо общих тенденций (рис. 8б). Тест показал значимую связь прироста с осадками мая на ТП 1, 4, 6, 8. В июне значимо постоянная связь прироста с осадками выявлена на ТП 1–3, 5, 8. Все ДКХ (исключение ТП 1) не показали значимо постоянной связи прироста с осадками июля.
Тест на постоянство значимой связи прироста с индексом scPDSI для периода май–июль проходят все ТП, за исключением ТП 6, для которого нет значимой связи в мае и июле (рис. 8в).
ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты показывают, что климатические условия между западными (ТП 1 и 2) и восточными (ТП 8) районами исследования различаются. Для ТП 1 и 2 характерны наиболее высокие температуры воздуха в сезон активного формирования годичных колец сосны (май–июль), что обусловлено частым вторжением сухих воздушных масс из Средней Азии [47], тогда как для восточных ТП 7 и 8 температура ниже из-за высоты над уровнем моря более 600 м. Остальные ТП имеют схожие поля температуры мая–августа. Таким образом, температурные различия между ТП обусловлены географическим положением и высотой над уровнем моря.
К востоку температура сезона май–июль понижается. Небольшие различия температуры между ТП 4–7 можно объяснить гористым ландшафтом, который сглаживает градиент изменений. Возможно, в условиях равнинного ландшафта градиент температуры был бы более выраженным. Самый северный ТП 3, как и ТП 1–2, расположен в равнинной местности и на него влияют погодно-климатические условия Западной Сибири, к южной части которой этот ТП относится географически [48]. Климатические условия ТП 3 схожи с более южными, но гористыми ТП 4–6 Казахского мелкосопочника. Согласно [27], эти районы (ТП 3–6) входят в одну климатическую область, что объясняет отсутствие выраженного градиента температуры между ними.
Для осадков мая–августа характерен тренд увеличения с запада на восток (см. рис. 2). Эта особенность территории не соответствует представлению о континентальности климата Евразии, согласно которому количество осадков должно уменьшаться при движении с запада к центру континента. Вероятно, этот феномен объясняется рельефом: увеличение высоты с запада на восток от 120 до 880 м над ур. м. (см. табл. 1) вызывает рост количества осадков. Исключением из этой тенденции являются восточные ТП 7 и 8, где количество осадков уменьшается. Полагаем, что это снижение обусловлено расположением ТП в барьерной тени наиболее высоких хребтов (> 1000 м над ур.м.), которые задерживают осадки при движении воздушных масс с запада на восток.
Сравнение двух тридцатилетних периодов (1901–1930 и 1990–2019 гг.) показывает повышение температуры воздуха и снижение количества осадков во втором периоде для большинства ТП в течение года (см. рис. 3в), что можно интерпретировать как усиление аридизации климата в регионе, отмеченное ранее [19, 29, 30]. Однако для июля характерно резкое увеличение осадков (исключение – западная часть, ТП 1 и 2). На данный момент мы затрудняемся объяснить этот феномен.
Вслед за изменениями климата с запада на восток изменяется климатический сигнал в ДКХ между ТП. Разделение ТП на 3 группы мы объясняем геоморфологическими различиями и климатическими особенностями территории. Несмотря на некоторые климатические различия, в первую группу объединяются ТП 1–3, которые расположены на Тургайском прогибе и Западно-Сибирской равнине. Объединить эти ТП в одну группу позволяет эдафический фактор – песчаные и супесчаные почвы, для которых характерены глубокий вертикальный профиль и наличие горизонта грунтовых вод.
Корневая система сосны способна прорастать в глубинные горизонты таких почв на несколько метров и достигать уровня грунтовых вод. Это позволяет деревьям получать дополнительную влагу, помимо атмосферных осадков мая–июля. Дополнительной почвенной влагой можно объяснить более высокие годичные приросты деревьев на ТП 1–3 и низкие коэффициенты чувствительности на ТП 1 и 2 по сравнению с ТП 4–8 (см. рис. 4 и табл. 2), где почвенный профиль маломощный, а проникновение корней сосны ограничено монолитными горными породами, без аккумулирования влаги в почвенном профиле. Корневая система сосны здесь имеет поверхностное распространение и использует преимущественно атмосферные осадки текущего месяца.
Высокие коэффициенты автокорреляции на ТП 1–3 по сравнению с другими ТП также могут быть обусловлены аккумуляцией и медленной динамикой изменений глубинной влаги в почве от года к году, тогда как на каменистом субстрате межгодовая аккумуляция почвенной влаги не выражена. Косвенно на это указывает значимая положительная связь ДКХ с осадками в течение сезона (май–июль) активного роста годичных колец (см. рис. 7б).
Вторая группа ТП (4–6) расположена в центральной части территории исследования, в гористых условиях Казахского мелкосопочника – на 300 км восточнее ТП 1 и 2 и на ~120 км южнее ТП 3. Расстояние с запада на восток между крайними ТП 4 и 6 около 250 км. Деревья здесь растут на маломощных почвах, подстилаемых гранитами. Эти ТП расположены по абсолютной высоте выше на 200–250 м, чем первая группа. Благодаря гористому рельефу поле температуры на территории в течение года достаточно однородное (см. рис. 2а). Негативная значимая связь ДКХ с температурой усиливается в данной группе ТП от мая к июню и становится незначимой в июле (см. рис. 7а).
Как отмечалось выше, характерная особенность территории второй группы – градиент увеличения количества осадков с запада на восток от ТП 4 к ТП 6 (см. рис. 2б). Соответственно повышается значимость связи между ДКХ и осадками с апреля по июнь (см. рис. 7б). При этом осадки апреля незначимы для хронологий ТП 4 и 5, а в мае связь хронологий ТП 4 с осадками достигает максимума. На ТП 5 и 6 максимально значимая связь ДКХ с осадками наблюдается в июне, а в июле связи становятся незначимыми на всех ТП группы. Возможно, это связано с тем, что в июле осадки достигают сезонного максимума, и их количество не оказывает значимого влияния на ДКХ. Полагаем, что своеобразие локальных условий роста деревьев в гористой местности сглаживает влияние региональных климатических условий, и это проявляется в особенностях связи ДКХ с климатом.
Третья группа ТП (7, 8) также расположена в гористой местности на маломощных почвах, подстилаемых гранитами, но отличается еще большей абсолютной высотой, которая здесь достигает 880 м над ур.м. Связь ДКХ с температурой на этих ТП значима на протяжении мая–июля: максимально значимая связь наблюдается в мае и ослабевает к июлю (см. рис. 7а). Значимая связь ДКХ с осадками наблюдается с апреля по июнь, достигая в июне максимальных сезонных значений. При этом на ТП 7 значимое влияние осадков сохраняется и в июле. Отметим тренд усиления связи ДКХ с осадками от апреля к июню, который согласуется с сезонным трендом увеличения их количества. Поскольку это гористая местность, разнообразие условий роста деревьев здесь также может быть обусловлено локальными условиями. Известно, что выходы горных пород могут создавать благоприятный микроклимат за счет снижения средней температуры и повышения средней влажности воздуха. Здесь снижается амплитуда суточных изменений температуры и влажности воздуха, что способствует дополнительному снабжению деревьев влагой, образующейся на скалах в результате конденсации в ночное время [49, 50]. Названные особенности сближают условия на ТП 7 и 8.
Результаты сравнения двух климатических периодов (1901–1930 и 1990–2019 гг.) и теста на постоянство связи ДКХ с климатическими переменными согласуются с современным усилением аридизации климата Казахстана [19, 25, 29, 30]. Действительно, с конца 1980-х гг. наблюдается усиление негативного влияния температуры мая на радиальный прирост сосны на всех ТП (см. рис. 8а), которое сохраняется и в июне. Повышение температуры мая – июня происходило на фоне снижения количества осадков 1990–2019 гг., особенно в июне (см. рис. 3б), что приводило к увеличению влияния осадков на прирост: значимость связи прироста с осадками июня возросла в 1970–1990-х гг.
Температура июля в 1990–2019 гг. практически сохранилась на уровне 1901–1930 гг. (см. рис. 3а), а количество осадков заметно увеличилось (см. рис. 3в). Соответственно постоянство связи ДКХ с температурой на большинстве ТП сохранялось на всем исследуемом интервале времени (см. рис. 8а), а связь с осадками после 1980-х гг. перестала быть значимой на всех ТП, за исключением ТП 1 (см. рис. 8б).
Индекс scPDSI показывает, хотя и незначимые, тенденции аридизации климата в мае–июне на большинстве ТП (см. рис. 8в). Увеличение осадков в июле не ослабляет связь этого индекса с ДКХ (за исключением ТП 6) и сохраняет свою значимость на всех ТП на протяжении сезона май–июль.
Связи ДКХ с климатическими переменными также можно рассматривать в контексте геоморфологических особенностей территорий. Связь с осадками апреля на ТП 6–8 можно объяснить ранним прогреванием склонов скальных пород, на которых растут деревья, и соответственно ранним началом сезонного роста, когда наличие влаги является необходимым условием данного процесса. При этом температура воздуха не достигает критических значений, чтобы негативно сказываться на формировании клеточных структур годичного кольца (см. рис. 2а). Нагрев почвы в мае–июне и увеличение физического испарения влаги с поверхности обусловливают негативное влияние температуры на радиальный прирост сосны. Особенно это проявляется в мае, поскольку количество осадков меньше, чем в июне и июле (см. рис. 2г и 7а). Небольшое увеличение осадков в июне усиливает их положительную роль в формировании годичного прироста на всех ТП (см. рис. 7б).
Для равнинных ТП на песках и супесях (ТП 1–3) связь прироста с температурой и осадками апреля отсутствует. Возможно, радиальный прирост деревьев здесь еще не начался из-за более позднего прогрева почвенного профиля по сравнению с горными склонами. Негативное влияние температуры в мае, связанное с эвапотранспирацией, также незначимо по той причине, что на песчаных почвах деревья формируют глубокую корневую систему, обеспечены глубинными запасами почвенной влаги, и в этом случае высокие температуры воздуха не вызывают водного стресса.
Влияние осадков и температуры остается значимым для ДКХ на ТП 1–3 и 7 в июле (см. рис. 7). На первых трех равнинных ТП с песчаными и супесчаными почвами, на которых при увеличении температуры (см. рис. 2б) и количества осадков июля (см. рис. 2г) сохраняется значимое влияние обоих факторов, осадки пополняют запас почвенной влаги (положительный эффект), а повышение температуры увеличивает эвапотранспирацию (негативное влияние). На ТП 4–6 и 8 отсутствие значимой связи ДКХ с температурой и осадками июля может быть объяснено благоприятным микроклиматом – снижением средней температуры и повышением средней влажности воздуха в гористой местности, а также дополнительным обеспечением конденсационной влагой на скалах в ночное время [49]. Из этого контекста выпадает ТП 7, что, вероятно, связано с его особенностями орографии и/или почвенных условий. При этом модель линейной регрессии, основанная только на осадках, описывает меньшую изменчивость прироста на восточных ТП 6–8 (в среднем 47%, см. табл. 4) в сравнении с западными равнинными ТП 1–3 (56.7%). Вероятно, это обусловлено более высокими температурами и меньшим количеством осадков на западных ТП по сравнению с восточными.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования показали, что в направлении от Тургайского прогиба на западе до восточной части Казахского мелкосопочника происходит увеличение количества осадков, обусловленное повышением высоты над уровнем моря в этом направлении.
При сравнении двух климатических периодов – 1901–1930 и 1990–2019 гг. – обнаружено, что во втором периоде произошло синхронное увеличение температуры воздуха на всех исследуемых ТП. Количество осадков в 1990–2019 гг. на большинстве ТП снизилось без выраженной синхронности, за исключением июня и июля: в июне количество осадков резко снизилось на всех ТП, тогда как в июле резко и синхронно увеличилось. Общее снижение количества осадков подтверждает отмеченную ранее тенденцию аридизации климата Республики Казахстан.
Тест на постоянство климатического сигнала в ДКХ выявил, что не все ТП и хронологии могут быть использованы для реконструкции температуры или осадков, поскольку климатический сигнал в них непостоянен. По результатам исследования только связь ДКХ с индексом суровости засух Палмера (PDSI) сохраняла значимую стабильность во времени на всех ТП.
Все исследованные ТП разделяются на три группы в соответствии с почвенными условиями и высотой над уровнем моря. Основное разделение – на равнинные ТП на песчаных почвах и ТП в гористых условиях на маломощных почвах, подстилаемых горными породами. Последние в свою очередь подразделяются на две группы в зависимости от высоты над уровнем моря. Полагаем, что геоморфологические и почвенные условия могут в большей степени обусловливать различия в отклике радиального прироста годичных колец сосны между ТП, чем климатические различия территорий. Эту особенность необходимо учитывать при выполнении пространственно-временных реконструкций климата на основе древесно-кольцевых хронологий. В целом островные боры северного Казахстана имеют достаточно высокий дендроклиматический потенциал и могут быть использованы для анализа климатических условий территории и выполнения климатических реконструкций.
Финансирование и благодарности
Работа выполнена по государственному заданию № 122021000093-6 в лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН. Авторы благодарят двух анонимных рецензентов за высказанные замечания, что позволило улучшить понимание и восприятие статьи.
Соблюдение этических стандартов
Настоящая статья не содержит исследований с участием людей или животных.
Конфликт интересов
Авторы подтверждают отсутствие конфликта интересов.
About the authors
M. A. Gurskaya
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: marina_gurskaya@mail.ru
Russian Federation, 620144, Ekaterinburg
L. I. Agafonov
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
Email: lagafonovc@ipae.uran.ru
Russian Federation, 620144, Ekaterinburg
V. V. Kukarskih
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
Email: marina_gurskaya@mail.ru
Russian Federation, 620144, Ekaterinburg
A. Y. Surkov
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences
Email: marina_gurskaya@mail.ru
Russian Federation, 620144, Ekaterinburg
Feng Chen
Yunnan University
Email: marina_gurskaya@mail.ru
Institute of Transboundary River Basins and Ecological Security
China, 650500, Kunming YunnanReferences
- Davi N.K., D’Arrigo R., Jacoby G.C. et al. A long-term context (931–2005 C.E.) for rapid warming over Central Asia // Quaternary Science Reviews. 2015. V. 121. P. 89–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.05.020
- Akkemik U., Köse N., Kopabayeva A., Mazarzhanova K. October to July precipitation reconstruction for Burabai region (Kazakhstan) since 1744 // Int. J. Biometeorol. 2020. V. 64. P. 803–813. https://doi.org/10.1007/s00484-020-01870-8
- Ljungqvist F.C., Piermattei A., Seim A. et al. Ranking of tree-ring based hydroclimate reconstructions of the past millennium // Quaternary Science Reviews. 2020. V. 230. Art. 106074. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.106074
- Zhao X., Chen F., Seim A. et al. Global warming leads to growth increase in Pinus sylvestris in the Kazakh steppe // Forest Ecology and Management. 2024. V. 553. Art. 121635. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121635
- Кучеров С.Е. Реконструкция летних осадков на Южном Урале за последние 375 лет на основе анализа радиального прироста лиственницы Сукачева // Экология. 2010. № 4. С. 248–256. [Kucherov S.E. Reconstruction of summer precipitation in the Southern Urals over the last 375 years based on analysis of radial increment in the Siberian larch // Russ. J. of Ecology. 2010. V. 41. № 4. С. 284–292. doi: 10.1134/S1067413610040028]
- Рыгалова Н.В., Быков Н.И. Пространственно-временная изменчивость климатического сигнала древесно-кольцевых хронологий ленточных и Приобских боров // Журнал Сибирского федерального ун-та. Сер. биол. 2015. Т. 8. № 4. С. 394–409. https://doi.org/10.17516/1997-1389-2015-8-4-394-409
- Taynik A.V., Barinov V.V., Myglan V.S. et al. Growth coherency and climate sensitivity of Larix sibirica at the upper treeline in the Russian Altai-Sayan mountains // Dendrochronologia. 2016. V. 39. P. 10–16. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2015.12.003
- Баринов В.В., Мыглан В.С., Тайник А.В. Экстремальные климатические события в Центральном Алтае за последние 1500 лет по данным древесно-кольцевой хронологии JELO // Изв. РАН. Сер. географическая. 2017. № 1. С. 91–102. https://doi.org/10.15356/0373-2444-2017-1-91-102
- Баринов В.В., Мыглан В.С., Тайник А.В. и др. Экстремальные климатические события в Алтае-Саянском регионе как индикатор сильных вулканических извержений // Геофизические процессы и биосфера. 2018. Т. 17. № 3. С. 45–61. https://doi.org/10.21455/GPB2018.3-3
- Агафонов Л.И., Гурская М.А., Кукарских В.В. и др. Островные боры Южного Урала и ленточные боры Алтая как объекты дендроклиматических исследований // Экология. 2021. № 5. С. 325–334. doi: 10.31857/S0367059721050036 [Agafonov L.I., Gurskaya M.A., Kukarskih V.V. et al. Insular pine forests of the Southern Urals and ribbon pine forests of the Altai as objects of dendroclimatic research // Russ. J. Ecol. 2021. V. 52. P. 349–357.] https://doi.org/10.1134/S1067413621050039
- Babushkina E.A., Zhirnova D.F., Belokopytova L.V. et al. Response of four tree species to changing climate in a moisture-limited area of South Siberia // Forests. 2019. V. 10. № 11. 999. https://doi.org/10.3390/f10110999
- Белокопытова Л.В., Бабушкина Е.А., Жирнова Д.Ф. и др. Климатический отклик радиального прироста хвойных лесостепи юга Сибири: сравнение трех подходов // Сибирский экологич. журн. 2018. Т. 25. № 4. С. 411–424. doi: 10.15372/SEJ20180403 [Belokopytova L.V., Babushkina E.A., Zhirnova D.F. et al. Climatic response of conifer radial growth in forest-steppe of South Siberia: comparison of three approaches // Contemporary Problems of Ecology. 2018. V. 11. № 4. P. 366–376.] https://doi.org/10.1134/S1995425518040030
- Kostyakova T.V., Babushkina E.A., Belokopytova L.V., Touchan R. Precipitation reconstruction for the Khakassia region, Siberia, from tree rings // The Holocene. V. 28. P. 377–385. https://doi.org/10.1177/0959683617729450
- Zhirnova D.F., Belokopytova L.V., Meko D.M. et al. Climate change and tree growth in the Khakass-Minusinsk Depression (South Siberia) impacted by large water reservoirs // Scientific Reports. 2021. V. 11. 14266. https://doi.org/10.1038/s41598-021-93745-0
- Tabakova M.A, Arzac A., Martinez E., Kirdyanov A.V. Climatic factors controlling Pinus sylvestris radial growth along a transect of increasing continentality in southern Siberia // Dendrochronologia. 2020. V. 62. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2020.125709
- Climate Change in Central Asia. A visual synthesis // Zoi Environment Network. 2009. 80 p.
- Kazakhstan’s Second National Communication to the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Ministry of Environment Protection, Astana, 2009. 164 p.
- Farooq I., Shah A.R., Salik K.M., Mujtaba I. Annual, seasonal and monthly trend analysis of temperature in Kazakhstan during 1970-2017 using non-parametric statistical methods and GIS technologies // Earth Systems and Environment. 2021. V. 5. P. 575–595. https://doi.org/10.1007/s41748-021-00244-3
- Hu Y., Han Y., Zhang Y. Land desertification and its influencing factors in Kazakhstan // Journal of Arid Environments. 2020. V. 180. Art. 104203. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2020.104203
- Zhang P., Jeong J.-H., Yoon J.-H. et al. Abrupt shift to hotter and drier climate over inner East Asia beyond the tipping point // Science. 2020. V. 370. P. 1095–1099. https://doi.org/10.1126/science.abb3368
- Zubairov B., Lentschke J., Schroder H. Dendroclimatology in Kazakhstan // Dendrochronologia. 2019. V. 56. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2019.05.006
- Jiang S., Zhang T., Yuan Y. et al. Drought reconstruction based on tree-ring earlywood of Picea obovata Ledeb. for the southern Altay Mountains // Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. 2020. V. 102. P. 267–286. doi: 10.1080/04353676.2020.1773060
- Zhang R., Qin l., Shang H. et al. Climatic change in southern Kazakhstan since 1850 C.E. inferred from tree rings // Int. J. Biometeorol. 2020. V. 64. P. 841–851. https://doi.org/10.1007/s00484-020-01873-5
- Kopabayeva A., Mazarzhanova K., Kose N., Akkemik U. Tree-ring chronologies of Pinus sylvestris from Burabai Region (Kazakhstan) and their response to climate change // Dendrobiology. 2017. V. 78. P. 96–110. https://doi.org/10.12657/denbio.078.010.
- Mazarzhanova K., Kopabaeva A., Kose N., Akkemik U. The first forest fire history of the Burabai Region (Kazakhstan) from tree rings of Pinus sylvestris // Turk. J. Agric. For. 2017. V. 41. P. 165–174. http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/
- Mapitov N.B., Belokopytova L.V., Zhirnova D.F. et al. Factors limiting radial growth of conifers on their semiarid borders across Kazakhstan // Biology. 2023. V. 12. Art. 604. https://doi.org/10.3390/biology12040604
- Байшоланов С.С., Павлова В.Н., Жакиева А.Р. и др. Агроклиматические ресурсы Северного Казахстана // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2018. № 1. С. 168–184. https://elibrary.ru/item.asp?id=35138146
- Казахстан. Природные условия и естественные ресурсы СССР. Т. 7. / Ред. И.П. Герасимов. М.: Наука, 1969. 482 с.
- Deng H., Yin Y., Xiang Han. Vulnerability of vegetation activities to drought in Central Asia // Environ. Res. Lett. 2020. V. 15. Art. 084005. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab93fa
- Lopez Fernandez M.L., Zhumabayev D., Garcia R.M. et al. Assessment of bioclimatic change in Kazakhstan, end 20th – middle 21st centuries, according to the PRECIS prediction // PloS One. 2020. V. 15. Art. e0239514. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239514
- The Sixth National report on biological diversity in the Republic of Kazakhstan. Astana, 2018. 226 p.
- Бирюков В.Н., Маланьин А.Н. Генетическая классификация лесов Северного, Центрального и Южного Казахстана // Эколого-географические и генетические принципы изучения лесов / Ред. Зубарева Р.С., Фильрозе Е.М. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. С. 69–74.
- Гордягин А.Я. Материалы для познания почв и растительности Западной Сибири. Казань, 1900–1901. 382 с. (Тр. Об-ва естествоиспытателей при Казан. ун-те. Т. 34. Вып. 3).
- Крашенинников И.М. Основные пути развития растительности Южного Урала в связи с палеогеографией Северной Евразии в плейстоцене и голоцене // Сов. ботаника. 1939. № 67. С. 67–99.
- Грибанов Л.Н. К истории степных боров Западной Сибири и Северного Казахстана // Ботан. журн. 1957. Т. 42. № 4. С. 556–570.
- Usoltsev V.A., Vanclay J.K. Stand biomass dynamics of pine plantations and natural forests on dry steppe in Kazakhstan // Scandinavian Journal of Forest Research. 1995. V. 10. № 1-4. P. 305–312. https://doi.org/10.1080/02827589509382897
- Stokes M.A., Smiley T.L. An introduction to tree-ring dating. Chiсago: The University of Chicago Press, 1968. 73 p.
- Rinn F. TSAP. Reference Manual. Version 3.0. Heidelberg, 1996. 263 p.
- Holmes R.L. Computer-assisted quality control in treering dating and measurement // Tree-Ring Bull. 1983. V. 43. № 3. P. 69–78.
- Cook E.R., Krusic P.J. Program ARSTAN: a tree-ring standardization program based on detrending and autoregressive time series modeling, with interactive graphics. Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, Palisades, N.Y., 2005.
- Harris I., Osborn T.J., Jones P., Lister D. Version 4 of the CRU TS monthly high-resolution gridded multivariate climate dataset // Sci. Data. 2020. V. 7. https://doi.org/10.1038/s41597-020-0453-323.
- Fritts H. Tree rings and climate. London; N.Y.; San Francisco: Academic Press, 1976. 567 p.
- Esper J., Schneider L., Smerdon J.E. et al. Signals and memory in tree-ring width and density data // Dendrochronologia. 2015. V. 35. P. 62–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.dendro.2015.07.001
- Wilmking M., van der Maaten-Theunissen M., van der Maaten E. et al. Global assessment of relationships between climate and tree growth // Glob. Change Biol. 2020. V. 26. P. 3212–3220. https://doi.org/10.1111/gcb.15057
- Biondi F., Waikul K. DENDROCLIM2002: A C++ program for statistical calibration of climate signals in tree-ring chronologies // Computers & Geosciences. 2004. V. 30. № 3. P. 303–311. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2003.11.004
- Агафонов Л.И., Кукарских В.В. Изменения климата прошлого столетия и радиальный прирост сосны в степи Южного Урала // Экология. 2008. № 3. С. 173–180. https://elibrary.ru/item.asp?id=9976741 [Agafonov L.I., Kukarskih V.V. Climate changes in the past century and radial increment of pine in the Southern Ural Steppe // Russ. J. of Ecology. 2008. V. 39. №3. P. 160–167. doi: 10.1134/S1067413608030028]
- Борисов A.A. Климаты СССР. М.: Просвещение, 1959. 280 с.
- Гвоздецкий Н.А. Физико-географическое районирование СССР. М.: Изд-во МГУ, 1968. 578 с.
- Locosselli G.M., Cardim R.H., Ceccantini G. Rock outcrops reduce temperature-induced stress for tropical conifer by decoupling regional climate in the semiarid environment // Int. J. Biometeorol. 2016. V. 60. P. 639–649. https://doi.org/10.1007/s00484-015-1058-y
- Hartl C., Düthorn E., Tejedor E. et al. Micro-site conditions affect Fennoscandian forest growth // Dendrochronologia. 2021. V. 65. Art. 125787. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2020.125787
Supplementary files