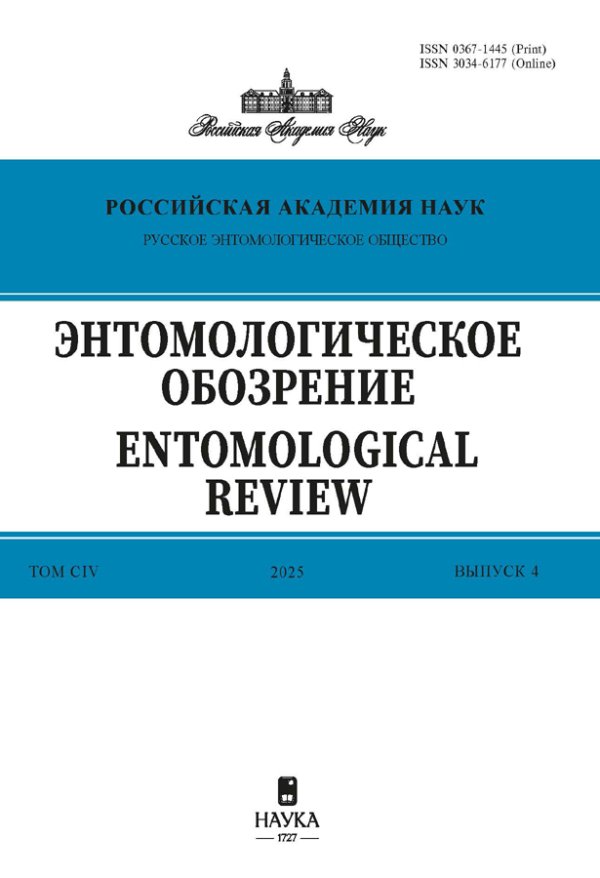Ecologo-geographic modelling of distribution of abundant acridid species (Orthoptera, Acrididae) over South Siberia and adjacent regions
- Authors: Sergeev M.G.1,2, Molodtsov V.V.1, Baturina N.S.1, Efremova O.V.1, Zharkov V.D.1, Popova K.V.1, Storozhenko S.Y.3, Shamychkova A.A.1
-
Affiliations:
- Новосибирский государственный университет
- Институт систематики и экологии животных СО РАН
- Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН
- Issue: Vol 103, No 2 (2024)
- Pages: 271-286
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-1445/article/view/270744
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367144524020126
- EDN: https://elibrary.ru/NIRPIO
- ID: 270744
Cite item
Full Text
Abstract
Two abundant acridid species (Chorthippus apricarius and Locusta migratoria) are widely distributed over South Siberia. Estimations of suitability conditions on the basis of the MaxEnt algorithm well correspond to the known localities of each species for the contemporary period. The main bioclimatic variables explaining these species distribution are associated with temperatures, especially those of the cold season. Predicted distribution patterns for 2021–2040 and 2041–2060 and for the scenarios of the high levels of the greenhouse gas emission show serious significant differences between the two model species. These forecasts demonstrate the explicit worsening of conditions for Chorthippus apricarius in South Siberia, and the significant expansion of territories applicable for Locusta migratoria in the southern parts of West Siberia and in Northern Kazakhstan. This trend looks like enhancing in the second half of the 21st century. The optimal areas for the migratory locust may cover the huge territories between 50° and 62° N and between the Ural Mts. and the north-western parts of the Altai-Sayan Mts. where a new area of possible outbreaks of L. migratoria may emerge. In the adjacent regions, the areas with suitable conditions for this species can expand significantly as well, including Primorskii Territory. Hence, the general continuation of global warming will most likely lead to some significant shifts in the distribution of some possible acridid pests across South Siberia.
Full Text
Эколого-географическое моделирование распределения массовых видов саранчовых (Orthoptera, Acrididae) на юге Сибири и в сопредельных регионах1
Саранчовые (Acrididae) – один из самых заметных и ключевых компонентов населения травянистых ландшафтов. Будучи главным образом фитофагами, они служат важным звеном на путях перераспределения питательных веществ и энергии, при этом их экскременты можно рассматривать как своего рода естественное удобрение (Stebaev et al., 1968; Stebaev, 1972), а сами они служат пищей для разнообразных консументов (Лачининский и др., 2002; Сергеев и др., 2022). Более того, умеренное обгрызание трав саранчовыми даже стимулирует рост растений (Olfert, Mukerji, 1983). Вместе с тем многие их виды известны как опаснейшие вредители экономически важных сельскохозяйственных культур (Uvarov, 1977; Сергеев, Лачининский, 2007; Le Gall et al., 2019; Zhang et al., 2019). Их отличает способность время от времени размножаться в массе и наносить огромный ущерб полям, пастбищам и сенокосам.
Саранчовые относятся к ведущим группам насекомых и в травянистых ландшафтах Южной Сибири, обширной области внетропической Азии с резко континентальным климатом и ярко выраженной природной зональностью, при которой на равнинах и в межгорных котловинах южная тайга и мелколиственные леса сменяются лесостепными, степными и даже пустынными ландшафтами, а в Алтае-Саянской горной системе выражена также высотная поясность. Такое многообразие ландшафтов создает благоприятные условия для обитания нестадных саранчовых, численность и биомасса которых могут быть очень большими (Сергеев, 1989; Sergeev, 2021). Кроме того, здесь неоднократно отмечались массовые размножения стадных видов, прежде всего итальянского пруса Calliptamus italicus (L.), а также залеты стай перелетной азиатской саранчи Locusta migratoria migratoria (L.) (Бережков, 1956; Сергеев, 2010, 2017; Сергеев и др., 2022). Есть в этом регионе и редкие виды саранчовых (Sergeev, 1998, 2010).
В последние десятилетия климатические изменения создают возможность расселения разных видов саранчовых за пределы ранее известных границ их ареалов (Sergeev, 2010; Лачининский и др., 2015). В этой связи важно оценить общее направление и скорость ожидаемых изменений, причем особенно актуальна эта проблема для потенциальных вредителей. Традиционно такие задачи решались «вручную» методом картографирования популяций, анализом их состояния и прогнозом динамики с учетом изменений гидрометеорологических данных. С конца XX в. возможности исследователей существенно расширились, в первую очередь благодаря использованию персональных компьютеров, вычислительный потенциал которых быстро увеличивался, а также появлению доступных портативных ресиверов систем глобальной навигации, развитию интернет-технологий и новых подходов к математическому моделированию. Появился весьма разнообразный и обширный класс моделей: модели распределения видов (Species Distribution Models — SDMs) (Araújo, Guisan, 2006; Zimmerman et al., 2010; Hijmans, Elith, 2021), в том числе так называемые модели экологических ниш (ENM) и модели пригодности местообитаний (HSM) (Warren, 2012; Kindt, 2018). Подобные модели в общем виде можно разделить на два подкласса (Koch, 2021): механистические, основанные на информации о биолого-экологических особенностях видов (например, CLIMEX), и корреляционные, базирующиеся преимущественно на данных о точках нахождения (MaxEnt, Random Forest, Ellipsoid Envelope и др.). Кроме того, появилась возможность использования результатов прогнозного моделирования глобальных климатических изменений (Fick, Hijmans, 2017).
Для массовых видов саранчовых подобных моделей пока создано немного. Механистическая модель разработана для широко распространенного североамериканского Melanoplus sanguinipes (F.) (Olfert et al., 2011). Для анализа закономерностей распределения вымерших и существующих популяций ширококрылой трещотки Bryodemella tuberculata (F.) создана модель многомерной экологической ниши (Dey et al., 2021). Для пустынной саранчи Schistocerca gregaria (Forskål) разработан набор региональных моделей для Северной и Восточной Африки (Kimathi et al., 2020) и Юго-Западной Азии (Zhu et al., 2021). Еще несколько моделей, характеризующих оптимальность местообитаний в отдельных регионах, созданы для трех стадных видов, популяции которых существуют в Казахстане, а именно мароккской саранчи Dociostaurus maroccanus (Thunberg) (Malakhov, Zlatanov, 2020), азиатской саранчи (Malakhov et al., 2018) и итальянского пруса (Klein et al., 2022). Подобные модели опубликованы также для отдельных частей ареала массовых степных видов, таких как чернополосая кобылка Oedaleus decorus (Germar) (Popova et al., 2022; Sun et al., 2023) и усатый булавоус Dasyhippus barbipes (Fischer de Waldheim) (Zhang et al., 2023), а также для комплекса хозяйственно важных видов в фауне Анатолии (Çıplak, Uluar, 2024) и двух редких видов саранчовых, обитающих на юге Сибири (Сергеев и др., 2023).
Задача данного исследования — создать модели распространения нескольких массовых видов саранчовых на юге Сибири по данным о точках их нахождения, современным и прогнозным биоклиматическим данным и на основе сопоставления таких моделей выявить основные тренды возможных смещений границ ареалов и оптимальных для изученных видов районов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Публикация основана на оригинальных данных о распределении видов в разнообразных степных и лесостепных местообитаниях юга Сибири и сопредельных регионов, полученных в основном в 1976–2023 гг. с помощью методов, позволяющих оценить численность саранчовых: количественные учеты стандартным энтомологическим сачком за определенный промежуток времени с пересчетом на 1 ч (Gause, 1930; Сергеев, 1986; Sergeev, 2021) и определение плотности саранчовых на сериях площадок с разделением по видам (Бей-Биенко, 1932; Пшеницына и др., 1993). Для более полного анализа таксоценов подобные учеты обычно сопровождаются визуальными обследованиями местообитаний и качественными сборами. Для каждой точки определялись географические координаты, абсолютные высоты, описывалось состояние растительного покрова и почв. Проанализированы также материалы коллекционных фондов Новосибирского государственного университета, Института систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск), Зоологического института РАН (С.-Петербург) и Горно-Алтайского государственного университета (Горно-Алтайск), а также доступные публикации. Для определения географических координат точек учетов, проведенных до 2000 г., использовали пакеты Google Earth Pro 7.3.3 и ArcGIS Explore с уточнением при необходимости по доступным топографическим картам, последующей валидацией и переводом в десятичную форму.
В качестве модельных объектов выбраны два широко распространенных на юге Сибири массовых вида: перелетная саранча (L. migratoria migratoria), северо-восточные окраины ареала которой заходят в исследуемый регион (Сергеев, 2017), и бурый конек (Chorthippus apricarius (L.)), встречающийся по всему югу Сибири (Сергеев, 1986; Sergeev et al., 2020). Для первого вида использованы данные о нахождении в 82 точках, в которых, как правило, были выявлены либо поселения, существующие на протяжении ряда лет, либо личинки или недавно отродившиеся имаго, а плотность имаго не превышала 1 особь/м2. Соответственно, из анализа исключены местонахождения, явно связанные с залетами стай саранчи из более южных районов (Бережков, 1956) или сопряженные с массовым размножением вида. Модели распространения бурого конька построены по 345 точкам обнаружения.
Эколого-географическое распределение видов моделировалось на основе подхода максимальной энтропии (пакет MaxEnt 3.4.4) (Phillips et al., 2006; Morales et al., 2017; Лисовский, Дудов, 2020). В качестве параметров моделей использованы данные по климатическим показателям (19 так называемых биоклиматических переменных) для 1970–2000 гг. с разрешением 30 угловых секунд (Fick, Hijmans, 2017). Пакет MaxEnt (3.4.4) отличается высоким уровнем стандартизации, довольно широкими возможностями пользовательских настроек и дружелюбным интерфейсом. Такие модели генерировались с кросс-валидацией (25 повторностей) и оценивались с помощью теста на надежность (по площади под кривой отклика — AUC). Значимость переменных определялась по учтенной дисперсии и с помощью теста складного ножа. Использованы прогнозные климатические оценки, рассчитанные по модели CNRM-ESM2-1 (Séférian et al., 2019) и предсказанию дальнейшего увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере по пути социально-экономического развития 3-7.0 (Meinshausen et al., 2020). Базовая карта создана в равноугольной конической проекции Ламберта, а сами карты распространения построены с помощью пакета QGIS 3.18.3.
Особенности распространения и экологии модельных видов
Бурый конек — нестадный вид саранчовых с широким ареалом от европейского побережья Атлантического океана до Якутии и Большого Хингана (Мищенко, 1972; Сергеев, 1986) (рис. 1). Он нетребователен к условиям обитания, заселяет широкий спектр стаций, предпочитая участки с достаточно высоким и сомкнутым травостоем, за исключением переувлажненных (Бережков, 1956). Конек обычен на приколóчных лугах, лесных полянах и вырубках, залежах различного типа и в других трансформированных экосистемах. В горах юга Сибири его можно встретить даже в горных тундрах. Этот вид часто доминирует в сообществах прямокрылых. В луговых степях юга Сибири в комплексе с Chorthippus parallelus (Zetterstedt), Glyptobothrus biguttulus (Linnaeus) и Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier) конек Ch. apricarius может давать вспышки массового размножения, нанося ущерб злаковым культурам (Бережков, 1956; Мищенко, 1972; Лачининский и др., 2002). Сопоставление данных о распространении бурого конька на юге Сибири до 1961 г. и в период 1961–2023 гг. не позволяет говорить о каких-то существенных сдвигах границ его ареала, так как обнаружение во второй половине прошлого века данного вида в подзонах южной и даже средней тайги, скорее, отражает лишь недостаточную изученность последних.
Рис. 1. Распространение Chorthippus apricarius (L.) на юге Сибири и в сопредельных регионах
Перелетная саранча — один из самых известных стадных вредителей-фитофагов, имеет наибольший ареал среди саранчовых, охватывающий все материки Восточного полушария (Uvarov, 1921, 1977; Цыпленков, 1970; Сергеев, Лачининский, 2007; Ma et al., 2012; Сергеев, 2017; Zhang et al., 2019). Одиночная форма перелетной саранчи достоверно, но, как правило, локально встречается в южной половине внетропической Евразии, достигая в Европе 60° с. ш. (Uvarov, 1921; Waloff, 1940). Известны залеты стай и отдельных стадных особей гораздо севернее, даже до 63° с. ш. (Уваров, 1925; Филипьев, 1926; Бей-Биенко, 1932), однако полное развитие личинок одиночной фазы может завершаться только в районах, лежащих южнее 56–57° с. ш. (Предтеченский и др., 1935).
Весьма специфичны основные местообитания перелетной саранчи. Как правило, это плавни — массивы тростниковых зарослей по берегам озер и рек (Цыпленков, 1970; Лачининский и др., 2002). В благоприятные годы в период массового отрождения L. migratoria способен формировать кулиги плотностью до 80 000 особей/м2. При недостатке корма саранча может переходить на питание другими, в том числе имеющими хозяйственное значение культурами. Ближайшим к рассматриваемой территории очагом постоянного размножения L. migratoria является Балхаш-Алакольское гнездилище в Восточном Казахстане (Лачининский и др., 2002; Malakhov, Zlatanov, 2020). Залеты перелетной саранчи в степные и даже лесостепные районы Западной Сибири отмечались неоднократно (Бережков, 1956). Вместе с тем на рассматриваемой территории есть постоянные, хотя и разреженные популяции вида, в которых при определенных условиях могут произойти вспышки массового размножения (Бережков, 1956; Сергеев, 2017) (рис. 2).
Рис. 2. Распространение Locusta migratoria (L.) на юге Сибири и в сопредельных регионах (без учета точек, зафиксированных во время подъемов численности или связанных с залетами вида)
Модели распространения видов
Для бурого конька важны (в порядке значимости) минимальная температура самого холодного месяца, среднегодовая температура и суточный диапазон температур, а также явно коррелирующие друг с другом количества осадков в самом засушливом квартале и самом засушливом месяце (табл. 1). Тест складного ножа позволяет добавить к ним еще и средние температуры самого засушливого, самого теплого и самого холодного кварталов. Таким образом, для этого вида значимы в первую очередь показатели, связанные с теплообеспеченностью, в том числе в зимний период, что, несомненно, существенно для Сибири, где низкие температуры холодного сезона могут приводить к глубокому промерзанию почв. Прослеживается и сопряженность с выраженностью периода летней засухи, что, очевидно, связано с деградацией растительного покрова в это время.
Таблица 1. Вклад биоклиматических переменных (в процентах) в построение моделей
Биоклиматическая переменная | Chorthippus apricarius (L.) | Locusta migratoria (L.) | ||
Вклад в построение моделей | Оценка вклада переменной при случайном изменении ее значений | Вклад в построение моделей | Оценка вклада переменной при случайном изменении ее значений | |
bio1 – cреднегодовая температура | 11.3 | 21.6 | 11.9 | 0.5 |
bio2 – средний суточный диапазон температур (помесячно) | 11.3 | 5.9 | 3.7 | 4.3 |
bio3 – изотермичность | 5.8 | 6 | 0.2 | 0.6 |
bio4 – сезонное варьирование температуры | 1.4 | 12.3 | 3 | 5.6 |
bio5 – максимальная температура самого теплого месяца | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 4.6 |
bio6 – минимальная температура самого холодного месяца | 21.7 | 0.9 | 9.2 | 0.4 |
bio7 – абсолютная амплитуда годовых температур | 3.5 | 6.5 | 0.7 | 1.8 |
bio8 – средняя температура самого влажного квартала | 2.5 | 1.3 | 41.2 | 34.3 |
bio9 – средняя температура самого засушливого квартала | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 3.6 |
bio10 – средняя температура самого теплого квартала | 2.7 | 4 | 0.2 | 0 |
bio11 – средняя температура самого холодного квартала | 0.1 | 0 | 6.1 | 4.6 |
bio12 – годовая сумма осадков | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
bio13 – количество осадков в самом влажном месяце | 0.2 | 3.9 | 1 | 0.2 |
bio14 – количество осадков в самом засушливом месяце | 9.1 | 2.6 | 1.2 | 13.9 |
bio15 – сезонное варьирование количества осадков | 7 | 2.4 | 10.5 | 14.2 |
bio16 – количество осадков в самом влажном квартале | 7.8 | 10.8 | 1.2 | 0.2 |
bio17 – количество осадков в самом засушливом квартале | 10 | 1.2 | 0.5 | 2.4 |
bio18 – количество осадков в самом теплом квартале | 4.6 | 7.4 | 3.1 | 4.7 |
bio19 – количество осадков в самом холодном квартале | 0.5 | 8.4 | 2.9 | 3.8 |
Примечание. Для каждого вида полужирным шрифтом выделены пять наиболее значимых переменных.
Для азиатской саранчи среди биоклиматических факторов на первое место выходят средняя температура самого влажного квартала, среднегодовая температура, сезонное варьирование осадков и минимальная температура самого холодного месяца (см. табл. 1), а по тесту складного ножа — еще и средние температуры самого засушливого и самого теплого кварталов. Соответственно, явно заметна роль низких зимних температур, ограничивающих возможность появления постоянных популяций этого вида на обширных пространствах Сибири и Дальнего Востока (Предтеченский и др., 1935; Сергеев, 2017). Проявляется также и значимость летних температур, вероятно, существенных для полной реализации в регионе онтогенеза вида.
Уровень статистической поддержки моделей, созданных для Ch. apricarius, высок (AUC = 0.927). Это, видимо, отражает не только включение в анализ большого числа точек нахождения вида в азиатской части ареала, но и его высокую экологическую пластичность, широкое распространение на юге Сибири и наличие оптимальных для вида местообитаний в зоне лесостепи. Модели, построенные для L. migratoria, характеризуются более низкой статистической поддержкой (AUC = 0.848). Очевидно, это определяется сравнительно небольшим числом точек нахождения постоянно существующих популяций вида на юге Сибири и в сопредельных регионах, а также и тем, что основной ареал перелетной саранчи охватывает преимущественно тропические и субтропические регионы.
Карта распределения пригодных для бурого конька местообитаний, составленная по биоклиматическим показателям 1970–2000 гг., показывает, что в Сибири они простираются от Урала до Байкала между 50° и 60° с. ш. (рис. 3, (1)). Самые подходящие для вида территории охватывают лесостепные районы, тянущиеся сплошной полосой вдоль линии Курган–Новосибирск–Кемерово. Упираясь в горную систему Алтая и Саян, эта полоса разделяется надвое; одна часть огибает Кузнецкий Алатау и заходит на юг Красноярского края и в Хакасию, другая уходит в Восточный Казахстан. Менее пригодны для вида на юге равнинной части ареала аридизированные степные районы северных и центральных частей Казахстана, а также Кулундинской степи, на севере — подзоны подтайги и южной тайги. Оптимальные для вида места обитания занимают также значительные площади в горах Тарбагатая, Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Кроме того, модель показывает, что бурый конек может обитать в районах, расположенных за пределами его современного ареала: на юге Дальнего Востока России и в Северном Китае.
Рис. 3. Оценка пригодности местообитаний Chorthippus apricarius (L.) (1) и Locusta migratoria (L.) (2) на юге Сибири и в сопредельных регионах (все биоклиматические переменные для периода 1970–2000 гг.; средние по пикселям по 25 повторностям с кросс-валидацией)
По прогнозам до 2060 г., основанным на сохранении высокого уровня эмиссии парниковых газов и соответствующем продолжении потепления, на юге Западной Сибири условия для бурого конька станут не такими благоприятными, как сейчас (рис. 4 (1), рис. 5 (1)). Зато оптимальными окажутся предгорья и низкогорья Восточного Саяна, а также некоторые районы Прибайкалья. Весьма подходящие для вида условия сохранятся в горах Алтая, Тарбагатая и Тянь-Шаня, а также на севере Памиро-Алая. Благоприятные для вида участки останутся и на юге Дальнего Востока, но положение их будет иным: на самом юге, юго-западнее Владивостока и севернее нижнего течения Амура. Особенно заметным этот тренд будет, вероятно, в середине XXI в. (см. рис. 5 (1)).
Рис. 4. Оценка пригодности местообитаний Chorthippus apricarius (L.) (1) и Locusta migratoria (L.) (2) по всем данным о распространении каждого вида и прогнозным биоклиматическим переменным для 2021–2040 гг. по глобальной климатической модели CNRM-ESM2-1 (средние по пикселям по 25 повторностям с кросс-валидацией) и по сценарию социально-экономического развития 3–7.0 (высокий уровень эмиссии парниковых газов)
Рис. 5. Оценка пригодности местообитаний Chorthippus apricarius (L.) (1) и Locusta migratoria (L.) (2) по всем данным о распространении каждого вида и прогнозным биоклиматическим переменным для 2041–2060 гг. по глобальной климатической модели CNRM-ESM2-1 (средние по пикселям по 25 повторностям с кросс-валидацией) и по сценарию социально-экономического развития 3–7.0 (высокий уровень эмиссии парниковых газов)
Модель распространения перелетной саранчи, сгенерированная для современных условий, показывает, что собственно юг Сибири для саранчи менее благоприятен, чем для бурого конька (см. рис. 3 (2)). Оптимальными для L. migratoria оказываются южнолесостепные и степные регионы самого юга Западной Сибири и севера Казахстана. Весьма подходящие для вида (точнее, для его разреженных популяций, в которых, как правило, отсутствуют стадные особи) обширные территории включают Северо-Западный, Северный и Восточный Китай, а также частично Юго-Восточный Казахстан, юг Монголии, Северо-Восточный Китай и Японские острова.
Прогнозы для перелетной саранчи резко отличаются от таковых для бурого конька. Уже в ближайшие десятилетия при сохранении трендов климатических изменений можно ожидать резкого расширения зоны наиболее благоприятных местообитаний перелетной саранчи на юге Западной Сибири и севере Казахстана (см. рис. 4 (2)). Есть вероятность того, что данная тенденция станет еще более заметной во второй половине XXI в. Оптимальная для вида область может охватить обширную территорию между 50° и 62° с. ш. и между Уралом и северо-западными окраинами Алтае-Саянской горной системы. Фактически это означает высокую вероятность появления новой области формирования массовых размножений L. migratoria. В сопредельных регионах, главным образом между горными массивами Тянь-Шаня и Памиро-Алая на западе и Тихим океаном, площадь территорий, пригодных для перелетной саранчи, также может значительно увеличиться, в том числе и охватить западные части Приморского края (см. рис. 5 (2)).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнительный анализ распространения на юге Сибири двух массовых видов саранчовых, принадлежащих к числу потенциальных вредителей, а именно бурого конька Chorthippus apricarius и перелетной саранчи Locusta migratoria, показывает значительные различия между ними. Ареал первого вида не выходит за пределы Палеарктики, а его стациальные предпочтения (луга и луговые степи) определяют возможность довольно глубокого проникновения в таежную зону на юге Сибири, а также в среднегорья и даже высокогорья Средней Азии. Перелетная саранча, широко распространенная в тропиках и субтропиках Старого Света, явно более теплолюбива. На юге Сибири (главным образом Западной) пока известны лишь немногочисленные ее популяции, тогда как южнее (в том числе в пределах аридных областей, но в долинах местных рек и озерных котловинах, главным образом в плавнях) обычны так называемые гнездилища этого вида (Цыпленков, 1970).
Результаты эколого-географического моделирования распространения этих двух видов, основанного на усредненных биоклиматических переменных (1970–2000 гг.), в целом соответствуют известной картине их расселения. Однако для Ch. apricarius удается выявить подходящие районы обитания далеко за пределами его ареала, тогда как для L. migratoria сгенерированная модель не позволяет выделить хорошо известные гнездилища данного вида в Восточном и Юго-Восточном Казахстане, в первую очередь Балхаш-Алакольское. Очевидно, это результат исключения на предварительном этапе исследования данных о точках нахождения, связанных с массовыми размножениями перелетной саранчи.
Прогнозные модели для 2021–2040 и 2041–2060 гг. показывают ярко выраженные, но разнонаправленные тренды возможных изменений в пространственном распределении оптимальных местообитаний двух сравниваемых видов. Для бурого конька условия в целом будут ухудшаться, несмотря на предполагаемое дальнейшее потепление, а вот для L. migratoria обстановка в некоторых частях региона может оказаться очень благоприятной, особенно в начале второй половины XXI в. В результате на юге Западной Сибири и Дальнего Востока, а также в Северном и Северо-Восточном Китае вероятно появление не просто популяций перелетной саранчи, а ее постоянных гнездилищ.
Таким образом, общее сохранение тренда глобального потепления с большой вероятностью приведет к существенному изменению расселения потенциальных вредителей на юге Сибири и в сопредельных регионах, а само создание эколого-географических моделей дает возможность оценить перспективы освоения новых районов потенциально вредными видами саранчовых. Вместе с тем адекватность эколого-географических моделей распространения видов во многом определяется качеством исходных данных: включение в массив данных точек нахождения, связанных с залетами (Saha et al., 2021), или точек, основанных на непроверенных определениях, может привести к значительным искажениям картины как современного, так и прогнозного распространения вида. Важно и то, что возможность создания моделей не заменяет необходимости постоянного мониторинга популяций и населения саранчовых в известных районах их вероятных массовых размножений (Sergeev et al., 2000; Сергеев и др., 2022; Лачининский, Сергеев, 2023; Лачининский и др., 2023).
БЛАГОДАРНОСТИ
Мы искренне признательны всем коллегам, особенно участникам многочисленных экспедиций, в первую очередь О. В. Денисовой, В. В. Дубатолову, О. В. Ермолаевой, И. Г. Казаковой, Ю. О. Кашинской, А. И. Ли, Г. И. Сергеевой, Д. А. Штолю, а также студентам и водителям экспедиционного транспорта, за разнообразную помощь в сборе исходных данных. Наша работа в коллекционных фондах Зоологического института РАН (С.-Петербург) была бы невозможной без постоянной поддержки покойного Л. Л. Мищенко и А. В. Горохова.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда № 22-66-00031 (https://rscf.ru/project/22-66-00031). Значительная часть исходных данных о точках нахождения видов (до 2022 г.) собрана благодаря поддержке других программ, в том числе уже завершенных грантов Российского фонда фундаментальных исследований (№ 16-04-00706) и его совместных с Правительством Новосибирской области грантов № 18-416-540001 и № 20-416-540004.
1 Статья подготовлена на основе материалов доклада, представленного на XVI Съезде Русского энтомологического общества (Москва, 2022 г.).
About the authors
M. G. Sergeev
Новосибирский государственный университет; Институт систематики и экологии животных СО РАН
Email: mgs@fen.nsu.ru
Russian Federation, Новосибирск; Новосибирск
V. V. Molodtsov
Новосибирский государственный университет
Email: vv@fen.nsu.ru
Russian Federation, Новосибирск
N. S. Baturina
Новосибирский государственный университет
Email: natalya.s.baturina@gmail.com
Russian Federation, Новосибирск
O. V. Efremova
Новосибирский государственный университет
Email: oxana@fen.nsu.ru
Russian Federation, Новосибирск
V. D. Zharkov
Новосибирский государственный университет
Email: arthropodae01@gmail.com
Russian Federation, Новосибирск
K. V. Popova
Новосибирский государственный университет
Email: kristin_belle@mail.ru
Russian Federation, Новосибирск
S. Yu. Storozhenko
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН
Email: storozhenko@biosoil.ru
Russian Federation, Владивосток
A. A. Shamychkova
Новосибирский государственный университет
Author for correspondence.
Email: a.shamychkova@g.nsu.ru
Russian Federation, Новосибирск
References
- Бей-Биенко Г. Я. 1932. Руководство по учету саранчовых. Л.: Всесоюзное государственное объединение по борьбе с вредителями и болезнями в сельском и лесном хозяйстве, 195 с.
- Бережков Р. П. 1956. Саранчовые Западной Сибири. Томск: Издательство Томского университета, 175 с.
- Лачининский А. В., Коканова Э. О., Гаппаров Ф. А., Чильдебаев М. К., Темрешев И. И. 2015. Вредные саранчовые и изменения климата. Вестник КазНУ, серия экологическая, 44 (2/2): 641–648.
- Лачининский А. В., Сергеев М. Г. 2023. Вредные саранчовые России и сопредельных стран: проблемы мониторинга популяций. Защита и карантин растений 9: 23–31. https://doi.org/10.47528/1026-8634_2023_9_23
- Лачининский А. В., Сергеев М. Г., Федотова А. А., Чильдебаев М. К., Темрешев И. И., Гаппаров Ф. А., Коканова Э. О. 2023. Мароккская саранча Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815). Морфология, распространение, экология, управление популяциями. Рим: ФАО, xxviii + 561 с. https://doi.org/10.4060/cc7159ru
- Лачининский А. В., Сергеев М. Г., Чильдебаев М. К., Черняховский М. Е., Локвуд Дж. А., Камбулин В. Е., Гаппаров Ф. А. 2002. Саранчовые Казахстана, Средней Азии и сопредельных территорий. Ларами: Университет Вайоминга и Международная ассоциация прикладной акридологии, vi + 387 с.
- Лисовский А. А., Дудов С. В. 2020. Преимущества и ограничения методов экологического моделирования ареалов. 2. MAXENT. Журнал общей биологии 81 (2): 135–146. https://doi.org/10.31857/S0044459620020049
- Мищенко Л. Л. 1972. Отряд Orthoptera (Saltatoria) – прямокрылые (прыгающие прямокрылые). В кн.: О. Л. Крыжановский, Е. М. Данциг (ред.). Насекомые и клещи — вредители сельскохозяйственных культур. Т. 1. Насекомые с неполным превращением. Л.: Наука, с. 16–115.
- Предтеченский С. А., Жданов С. П., Попова А. А. 1935. Вредные саранчовые в СССР (обзор за 1925–1933 гг.). Труды по защите растений, 1-я сер. 18: 1–168.
- Пшеницына Л. Б., Резникова Ж. И., Сергеев М. Г. 1993. Количественные методы исследования экологии насекомых. Новосибирск: Издательство Новосибирского государственного университета, 76 с.
- Сергеев М. Г. 1986. Закономерности распространения прямокрылых насекомых Северной Азии. Новосибирск: Наука, 237 с.
- Сергеев М. Г. 1989. Зонально-ландшафтное распределение зоомассы прямокрылых насекомых в Срединном регионе СССР. География и природные ресурсы 2: 89–93.
- Сергеев М. Г. 2010. Вредные саранчовые России и сопредельных регионов: прошлое, настоящее, будущее. Защита и карантин растений 1: 16–22.
- Сергеев М. Г. 2017. Перелетная саранча Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) у края ареала: юг Сибири как область возможных массовых размножений. Евразиатский энтомологический журнал 16 (5): 407–415. https://doi.org/10.15298/euroasentj.16.5.02
- Сергеев М. Г., Ким-Кашменская М. Н., Молодцов В. В., Ефремова О. В., Попова К. В., Соколова (Батурина) Н. С. 2023. Картографирование и экомоделирование распространения редких видов насекомых на юге Сибири и в сопредельных регионах (на примере надсемейства саранчовых). География и природные ресурсы 5: 128–134. https://doi.org/10.15372/gipr20230516
- Сергеев М. Г., Лачининский А. В. 2007. Вредные саранчовые: мировой обзор. Защита и карантин растений 11: 24–28.
- Сергеев М. Г., Чильдебаев М. К., Ванькова И. А., Гаппаров Ф. А., Камбулин В. Е., Коканова Э. О., Лачининский А. В., Пшеницына Л. Б., Темрешев И. И., Черняховский М. Е., Соболев Н. Н., Молодцов В. В. 2022. Итальянская саранча Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758). Морфология, экология, распространение, управление популяциями. Рим: ФАО, xviii + 333 c. https://doi.org/10.4060/cb7921ru
- Уваров Б. П. 1925. Саранчовые Европейской части СССР и Западной Сибири. Москва: Новая деревня, 120 с.
- Филипьев И. Н. 1926. Вредители общего значения. Саранчовые. Acridiodea. Труды по прикладной энтомологии 13 (2): 57–176.
- Цыпленков Е. П. 1970. Вредные саранчовые насекомые в СССР. Л.: Колос, 272 с.
- Araújo M. B., Guisan A. 2006. Five (or so) challenges for species distribution modelling. Journal of Biogeography 33: 1677–1688. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2006.01584.x
- Çıplak B., Uluar O. 2024. Anatolian short-horned grasshoppers unveiled: integrating biogeography and pest potential. Insects 15 (1): 55. https://doi.org/10.3390/insects15010055
- Dey L. S., Simões M. V. P., Hawlitschek O., Sergeev M. G., Xu S.-Q., Lkhagvasuren D., Husemann M. 2021. Analysis of geographic centrality and genetic diversity in the declining grasshopper species Bryodemella tuberculata (Orthoptera: Oedipodinae). Biodiversity and Conservation 30: 2773–2796. https://doi.org/10.1007/s10531-021-02221-8
- Fick S. E., Hijmans R. J. 2017. WorldClim 2: new 1 km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 37 (12): 4302–4315. https://doi.org/10.1002/joc.5086
- Gause G. F. 1930. Studies on the ecology of the Orthoptera. Ecology 11 (2): 307–325. https://doi.org/10.2307/1930266
- Hijmans R. J., Elith J. 2021. Spatial Distribution Models. 96 p. URL: https://rspatial.org/raster/sdm/SDM.pdf (дата обращения 12 февраля 2024 г.).
- Kimathi E., Tonnang H. E. Z., Subramanian S., Cressman K., Abdel-Rahman E.-M., Tesfayohannes M., Niassy S., Torto B., Dubois T., Tanga C. M., Kassie M., Ekesi S., Mwangi D., Kelemu S. 2020. Prediction of breeding regions for the desert locust Schistocerca gregaria in East Africa. Scientific Reports 10, Article number: 11937. https://doi.org/10.1038/s41598-020-68895-2
- Kindt R. 2018. Ensemble species distribution modelling with transformed suitability values. Environmental Modelling & Software 100: 136–145. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.11.009
- Klein I., van der Woude S., Schwarzenbacher F., Muratova N., Slagter B., Malakhov D., Oppelt N., Kuenzer C. 2022. Predicting suitable breeding areas for different locust species — A multi-scale approach accounting for environmental conditions and current land cover situation. International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation 107: 102672. https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102672
- Koch F. H. 2021. Considerations regarding species distribution models for forest insects. Agricultural and Forest Entomology 23: 393–399. https://doi.org/10.1111/afe.12458
- Le Gall M., Overson R., Cease A. 2019. A global review on locusts (Orthoptera: Acrididae) and their interactions with livestock grazing practices. Frontiers in Ecology and Evolution 7, Article 263. https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00263
- Ma C., Yang P., Jiang F., Chapuis M.-P., Shali Y., Sword G. A., Kang L. 2012. Mitochondrial genomes reveal the global phylogeography and dispersal routes of the migratory locust. Molecular Ecology 21: 4344–4358.
- Malakhov D. V., Tsychuyeva N. Yu., Kambulin V. E. 2018. Ecological modeling of Locusta migratoria L. breeding conditions in South-Eastern Kazakhstan. Russian Journal of Ecosystem Ecology 3 (1). https://doi.org/10.21685/2500-0578-2018-1-5
- Malakhov D. V., Zlatanov B. V. 2020. An ecological niche model for Dociostaurus maroсcanus, Thunberg, 1815 (Orthoptera, Acrididae): the nesting environment and survival of egg-pods. Biosis: Biological Systems 1 (1): 8–24. https://doi.org/10.37819/biosis.v1i1.48
- Meinshausen M., Nicholls Z. R. J., Lewis J., Gidden M. J., Vogel E., Freund M., Beyerle U., Gessner C., Nauels A., Bauer N., Canadell J. G., Daniel J. S., John A., Krummel P. B., Luderer G., Meinshausen N., Montzka S. A., Rayner P. J., Reimann S., Smith S. J., van den Berg M., Velders G. J. M., Vollmer M. K., Wang R. H. J. 2020. The shared socio-economic pathway (SSP) greenhouse gas concentrations and their extensions to 2500. Geoscientific Model Development 13: 3571–3605. https://doi.org/10.5194/gmd-13-3571-2020
- Morales N. S., Fernándex I. C., Baca-González V. 2017. MaxEnts’s parameter configuration and small samples: are we paying attention to recommendations? A systematic review. PeerJ 5, e3093. https://doi.org/10.7717/peerj.3093
- Olfert O. O., Mukerji M. K. 1983. Effects of acute simulated and acute grasshopper (Orthoptera: Acrididae) damage on growth rates and yield of spring wheat (Triticum aestivum). Canadian Entomologist 115 (6): 629–636.
- Olfert O., Weiss R. M., Kriticos D. 2011. Application of general circulation models to assess the potential impact of climate change on potential distribution and relative abundance of Melanoplus sanguinipes (Fabricius) (Orthoptera: Acrididae) in North America. Psyche: A Journal of Entomology 2011, Article ID: 980372. https://doi.org/10.1155/2011/980372
- Phillips S. J., Anderson R. P., Schapire R. E. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling 190: 231–259. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026
- Popova K. V., Baturina N. S., Molodtsov V. V., Yefremova O. V., Zharkov V. D., Sergeev M. G. 2022. The handsome cross grasshopper Oedaleus decorus (Germar, 1825) (Orthoptera: Acrididae) as a neglected pest in the south-eastern part of West Siberian Plain. Insects 13 (1), 49. https://doi.org/10.3390/insects13010049
- Saha A., Rahman S., Alamc S. 2021. Modeling current and future potential distributions of desert locust Schistocerca gregaria (Forskål) under climate change scenarios using MaxEnt. Journal of Asia-Pacific Biodiversity 14: 399–409. https://doi.org/10.1016/j.japb.2021.05.001
- Séférian R., Nabat P., Michou M., Saint‐Martin D., Voldoire A., Colin J., Decharme B., Delire C., Berthet S., Chevallier M., Sénési S., Franchisteguy L., Vial J., Mallet M., Joetzjer E., Geoffroy O., Guérémy J.-F., Moine M.-P., Msadek R., Ribes A., Rocher M., Roehrig R., Salas‐y‐Mélia D., Sanchez E., Terray L., Valcke S., Waldman R., Aumont O., Bopp L., Deshayes J., Éthé C., Madec G. 2019. Evaluation of CNRM Earth‐System model, CNRM‐ESM2‐1: Role of Earth system processes in present‐day and future climate. Journal of Advances in Modeling Earth Systems 11: 4182–4227. https://doi.org/10.1029/2019MS001791
- Sergeev M. G. 1998. Conservation of orthopteran biological diversity relative to landscape change in temperate Eurasia. Journal of Insect Conservation 2 (3/4): 247–252. https://doi.org/10.1023/A:1009620519058
- Sergeev M. G. 2010. Concepts of classic and modern biogeography: contribution of Russian entomologists. Entomological Review 90 (3): 311–332. https://doi.org/10.1134/S0013873810030036
- Sergeev M. G. 2021. Distribution patterns of grasshoppers and their kin over the Eurasian steppes. Insects 12 (1), 77. https://doi.org/10.3390/insects12010077
- Sergeev M. G., Denisova O. V., Vanjkova I. A. 2000. How do spatial population structures affect grasshopper and locust management? In: J. A. Lockwood, A. V. Latchininsky, M. G. Sergeev (eds). Grasshoppers and Grassland Health. Dordrecht et al.: Kluwer Academic Publishers, p. 71–87. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4337-0_5
- Sergeev M. G., Storozhenko S. Yu., Benediktov A. A. 2020. An annotated check-list of Orthoptera of Tuva and adjacent regions. Part 3. Suborder Caelifera (Acrididae: Gomphocerinae: Gomphocerini; Locustinae). Far Eastern Entomologist 402: 1–36. https://doi.org/10.25221/fee.402.1
- Stebaev I. V. 1972. Periodic changes in the ecological distribution of grasshoppers in the temperate and the extreme continental steppe regions, and their importance for the local ecosystems. In: C. F. Hemming, T. H. C. Taylor (eds). Proceedings of the International Study Conference on the Current and Future Problems of Acridology. London: Centre of Overseas Pest Research, p. 207–218.
- Stebaev I. V., Naplekova N. N., Volkovincer V. V. 1968. Epigäische Zoo-Mikrobionten-Komplexe mit Orthopteren und Tenebrioniden im Südöstlichen Altaj-Gebirge und ihre Beziehungen zu bodenbildenden Prozessen. Pedobiologia 8: 345–386.
- Sun Z., Ye H., Huang W., Qimuge E., Bai H., Nie C., Lu L., Qian B., Wu B. 2023. Assessment on potential suitable habitats of the grasshopper Oedaleus decorus asiaticus in North China based on MaxEnt modeling and remote sensing data. Insects 14 (2), 138. https://doi.org/10.3390/insects14020138
- Uvarov B. P. 1921. A revision of the genus Locusta L. (= Pachytylus Fieb.) with a new theory as to periodicity and migrations of locusts. Bulletin of Entomological Research 12: 135–163.
- Uvarov B. P. 1977. Grasshoppers and Locusts. Vol. 2. London: Centre for Overseas Pest Research, 613 p.
- Waloff Z. V. 1940. The distribution and migrations of Locusta in Europe. Bulletin of Entomological Research 31 (3): 211–246.
- Warren D. L. 2012. In defense of ‘niche modeling’. Trends in Ecology and Evolution 27 (9): 497–500. http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2012.03.010
- Zhang L., Lecoq M., Latchininsky A., Hunter D. 2019. Locust and grasshopper management. Annual Review of Entomology 64: 15–34. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-011118-112500
- Zhang X., Huang W., Ye H., Lu L. 2023. Study on the identification of habitat suitability areas for the dominant locust species Dasyhippus barbipes in Inner Mongolia. Remote Sensing 15 (6), 1718. https://doi.org/10.3390/rs15061718
- Zhu G., Men Y., Han X. 2021. Potential distribution of Schistocerca gregaria gregaria in southwestern Asia. Agricultural and Forest Entomology 23: 388–391. https://doi.org/10.1111/afe.12440
- Zimmermann N. E., Edwards T. C. Jr., Graham C. H., Pearman P. B., Svenning J.-C. 2010. New trends in species distribution modelling. Ecography 33: 985–989. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2010.06953.x
Supplementary files