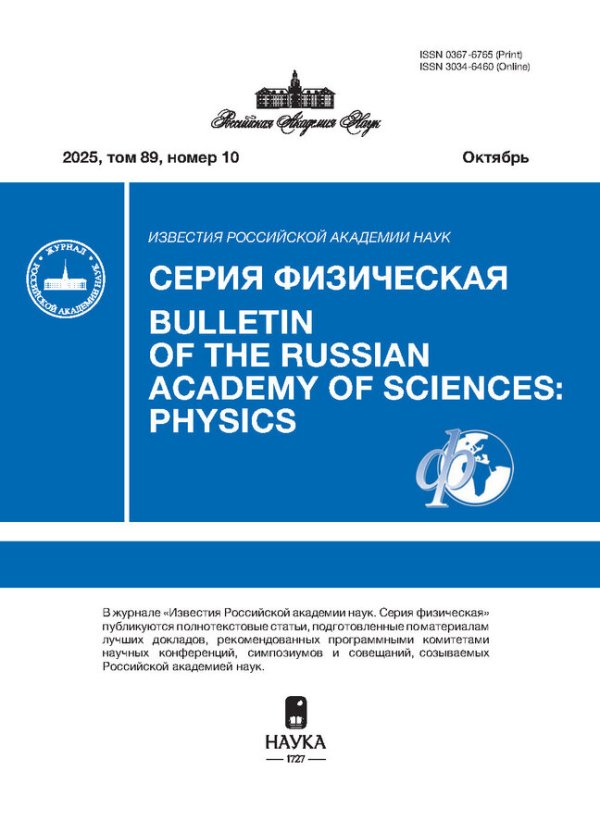Limits of laser cooling of light alkaline metals in polychromatic light field
- Authors: Ilenkov R.Y.1, Prudnikov O.N.1,2, Taichenachev A.V.1,2, Yudin V.I.1,2
-
Affiliations:
- Institute of Laser Physics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Novosibirsk National Research State University Novosibirsk
- Issue: Vol 88, No 7 (2024)
- Pages: 1025-1032
- Section: Luminescence and Laser Physics
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-6765/article/view/279444
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524070043
- EDN: https://elibrary.ru/PCURUO
- ID: 279444
Cite item
Full Text
Abstract
A model has been developed for laser cooling of alkali atoms in a polychromatic field, considering the real structure of atomic levels. The model was tested on the example of the 6Li atom. The minimum achievable temperatures of laser cooling of light alkali atoms are studied for different polarizations of the light field components, and the possibility of cooling below the Doppler limit is shown.
Keywords
Full Text
Введение
Лазерное охлаждение атомов в настоящее время используется для широкого спектра современных научных исследований: для создания современных оптических стандартов частоты [1-3], для получения конденсатов Бозе-Эйнштейна [4, 5] и вырожденных ферми-газов [6], для создания квантовых сенсоров на основе волн материи ультрахолодных атомов [7, 8]. Ультрахолодные атомы в оптических ловушках являются перспективной платформой для физической реализации квантовых вычислений [9] и квантовых симуляций, и находят широкое применение как для фундаментальных исследований для измерения мировых констант, проверки ОТО, СТО и др., измерения геопотенциала, так и прикладных задач, например, в области построения современных навигационных систем [10]. Для решения данных задач требуется развитие эффективных методов глубокого лазерного охлаждения атомов.
Несмотря на то, что проблема лазерного охлаждения достаточно хорошо изучена [11, 13], задача выбора оптимальных параметров и конфигураций светового поля для достижения глубокого лазерного охлаждения остается открытой для конкретных экспериментальных реализаций. В рамках квазиклассической теории [11, 12, 14-17] было установлено, что температура лазерного охлаждения в полях малой интенсивности может быть меньше доплеровского предела TD = γ/2kb (где γ - естественная ширина линии оптического перехода, kb - постоянная Больцмана) и составлять несколько энергий отдачи (wR = 2k2/2M - энергия получаемая атомом массой M в результате единичного акта поглощения или излучения фотона с волновым вектором k). Однако детальный анализ кинетики атомов, проведенный в работе [18], показал, что известная картина субдоплеровского охлаждения выполняется только для атомов с предельно малыми значениями параметра отдачи εR = wR/γ < 0.01.
При этом для атомов с не очень малым параметром отдачи εR ~ 0.001-0.1 [18-20], эффекты субдоплеровского охлаждения становятся менее эффективны [18], особенно для σ+ - σ - поляризационной конфигурации поля, которую обычно используют в магнитооптических ловушках.
Немаловажным также является то, что стационарное решение для импульсного распределения легких атомов не соответствует гауссовому, следовательно, не может быть описано в терминах температуры [21]. Приближенно распределение может быть охарактеризовано в рамках двухтемпературного распределения атомов, имеющих холодную и горячую фракции [22].
Среди щелочных металлов атом лития являются перспективным кандидатом для исследования квантовых эффектов, возникающих при экстремально низких температурах, так как он является наиболее лёгким в этой группе, среди подходящих для лазерного охлаждения. Литий также идеален для работ с вырожденными Бозе- [23], Ферми- [24] газами, так как он имеет стабильные изотопы как с целыми, так и с полуцелыми ядерными спинами: 6Li (I = 1, 7.5\%) и 7Li (I = 3/2, 92.5\%).
Для атомов Li сверхтонкое расщепление уровней возбужденного состояния сравнимо с их естественной шириной (γ ~ 5.8 МГц) рис. 1. Поэтому для лазерного охлаждения нельзя использовать замкнутый переход, поскольку вероятность выйти из цикла взаимодействия в результате спонтанных распадов высока, в отличие от атомов Cs и Rb. Это приводит к тому, что вероятности переходов, индуцированные охлаждающим лазерным полем и полем накачки, используемым для возврата атомов в цикл охлаждения, оказываются сравнимы, как и их кинетические эффекты.
Рис. 1. Атомная структура атомов 6Li.
Эти факторы не позволяют использовать для анализа кинетики атомов лития ранее развитые теории и модели лазерного охлаждения двухуровневого атома с вырождением уровней в монохроматическом световом поле. Анализ лазерного охлаждения атомов лития требует построения полной модели, учитывающей сложную реальную структуру энергетических уровней 6Li, в том числе зеемановское вырождение, а также неоднородную пространственную поляризацию компонент бихроматического светового поля. Построение такой модели позволит определить оптимальные поляризационные конфигурации и параметры бихроматического лазерного поля для достижения глубокого лазерного охлаждения. Отметим, что литий относится к атомам с недостаточно малым значением параметра εR = 1/80, что согласно работе [18] затрудняет достижение субдоплеровских температур. Также отметим, что в экспериментах по лазерному охлаждению атомов лития на первой стадии охлаждения не достигаются даже значения доплеровского предела TD ≈ 140 мкК [25-27].
Для эффективного лазерного охлаждения за один этап, необходимо, наличие одновременно как субдоплеровских механизмов охлаждения, приводящих к достижению малых температур лазерного охлаждения, а также эффективных доплеровских сил, позволяющих захватывать и охлаждать атомы из горячей фракции. Так, на рис. 2 приведены зависимости диссипативных световых сил от скорости атомов. Здесь на рис. 2а сила является диссипативной для всех скоростей, что определяется доплеровскими механизмами лазерного охлаждения (при красных отстройках полей). При этом на рис. 2б можно отметить субдоплеровские вклады, которые могут приводить к глубокому охлаждению холодной фракции атомов [28], однако доплеровские эффекты для рассматриваемых синих отстроек приводят к общему нагреву атомов, поскольку в результате процессов диффузии холодные атомы имеют ненулевую вероятность попасть в горячую фракцию. Такие эффекты можно рассматривать как временное квазиохлаждение для второго этапа [28].
Рис. 2. Зависимости диссипативных световых сил от скорости атомов: (а) параметры полей S2 = S1 = 0.1, δ2 = δ1 = –1γ. Доплеровские эффекты приводят к охлаждению для всех скоростей; (б) параметры полей S2 = 1, S1 = 0.1, δ2 = δ1 = 3γ. Доплеровские эффекты приводят к нагреву атомов, однако наличие субдоплеровских механизмов трения позволяет реализовать охлаждение атомов с малыми скоростями.
В настоящей работе мы исследуем лазерное охлаждение атомов бихроматичепским полем, которое позволило бы одновременно реализовать субдоплероские и доплеровские механизмы для глубокого лазерного охлаждения за один этап. Исходя из наших предварительных оценок и исследований упрощенных моделей атома 6Li [29], в отличие от [28], были выбраны два перехода резонансных D2- и D1-линиям атома лития (см. рис. 1). Индексы параметров компонент бихроматического светового поля будут совпадать с индексами соответствующей резонансной линии (2 для D2, 1 для D1).
Постановка задачи
Рассмотрим одномерную задачу лазерного охлаждения атомов в световом поле, образованном двумя парами встречных волн вдоль оси z:
, (1)
где
. (2)
здесь i определяет компоненту светового поля, резонансную переходу D2- или D1-линии, E0i - амплитуда одной световой волны одной частотной компоненты бихроматического поля, а единичные вектора и - вектора поляризации встречных волн, распространяющихся вдоль оси z.
Поляризация векторов и определяют пространственную поляризационную конфигурацию компоненты светового поля. Например, когда вектора и - ортогональные линейные поляризации, формируется конфигурация поля, а когда вектора и - ортогональные круговые поляризации, формируется σ+ - σ - конфигурация.
Для исследования пределов лазерного охлаждения мы воспользуемся квазиклассическим подходом, основанным на решении уравнения Фоккера-Планка [14, 15, 30, 31]. Кинетическими коэффициентами уравнения Фоккера-Планка являются сила F, действующая на атом в световом поле, и коэффициент диффузии, возникающий в результате флуктуации сил в процессах излучения и поглощения фотонов поля. Коэффициент диффузии разбивается на сумму вкладов Dsp - спонтанной и Dind - вынужденной диффузии. Учитываются все подуровни сверхтонкой структуры, взаимодействующие с резонансными компонентами бихроматического светового поля. Задача решается в одночастичном приближении, что позволяет получить предельные значения температуры лазерного охлаждения.
В квазиклассическом приближении [11, 12, 14-17] одномерная задача лазерного охлаждения атомов описывается уравнением Фоккера-Планка для функции распределения атомов в фазовом пространстве Φ(z, p, t). Мы выберем следующую форму записи уравнения ФП для дальнейшего анализа кинетики атомов:
. (3)
Данный выбор обусловлен тем, что, для атомов с недостаточно малым параметром отдачи - как у атомов лития, решение уравнение Фоккера-Планка в форме записи (2) приводит к результатам наиболее близким к численным решениям, получаемым на основе квантовых подходов [18], при стандартном определении Dind [15, 32].
Кинетические коэффициенты могут быть непосредственно получены путем редукции квантового кинетического уравнения для матрицы плотности атомов, в рамках одночастичного приближения
(4)
Здесь - полный гамильтониан атома в поле и - оператор спонтанной релаксации, описывающий изменение внутренних и поступательных степеней свободы матрицы плотности при спонтанном излучении фотонов поля (cм. например [11, 17, 31]). Выражения для силы и коэффициента диффузии для рассматриваемой нами модели атома учитывают взаимодействие бихроматического светового поля со всеми сверхтонкими уровнями атома лития и могут быть получены на основе ранее предложенных подходов, представленных в работах [17, 30, 32, 33].
Кинетика лазерного охлаждения атома 6Li определяется отстройками резонансных компонент бихроматического светового поля δ2 и δ1 и параметрами насыщение каждого из переходов S2, S1, определяющими интенсивность компонент светового поля. Отстройка δ2 компоненты поля резонансного D2-линии определяется разницей между частотой резонансной компоненты поля и частотой перехода 22S1/2(F = 3/2) → 22P3/2(F = 5/2), синяя линия на рис. 1.
Отстройка δ1 компоненты поля резонансного D1-линии определяется разницей между частотой резонансной компоненты поля и частотой перехода 22S1/2(F = 1/2) → 22P1/2(F = 1/2), красная линия на рис. 1.
, (5)
где Ωi - частота Раби на каждую волну, формирующую поле резонансное соответствующему переходу:
. (6)
Здесь Ii - интенсивность поля каждой из встречных волн, a IS ~ 2.56 мВт·см-2 интенсивность насыщения для используемых оптических переходов атомов лития [34]. Заметим, что импульсное распределение атомов в охлаждающем лазерном поле может быть существенно неравновесным [19], и потому, строго говоря, его не всегда корректно описывать в терминах температуры. Для количественной характеризации глубины лазерного охлаждения в данной работе мы будем использовать удвоенную среднюю киническую энергию, называя ее эффективной температурой . Удвоенная средняя кинетическая энергия количественно совпадает с температурой лазерного охлаждения для случая равновесного импульсного распределения.
Лазерное охлаждение в бихроматическом поле
Режим слабого поля
Было проведено детальное исследование эффективных температур ансамбля атомов лития в бихроматическом световом поле. Отметим, что все графики эффективной температуры, представленные в статье, будут иметь единый температурный масштаб, ограниченный сверху четырьмя доплеровскими пределами Tlim = 4TD, где kbTD = γ/2, что приводит к исчезновению видимого цветового градиента (темно-красный), для атомов, имеющих большую эффективную температуру. Область положительных отстроек по полю, резонансному D2-линии, не строилась т. к. в ней не реализуется режим лазерного охлаждения.
Карты температур лазерного охлаждения в бихроматическом световом поле представлены на рис. 3. Компоненты бихроматического светового поля, резонансные D2- и D1-линиями, имеют различные поляризации, и исследуется зависимость эффективной температуры от отстроек компонент бихроматического светового поля. Обнаружено охлаждение в широком диапазоне отстроек по полю, резонансному D1-линии (-10γ < δ1 < 5γ).
Рис. 3. Величина null в единицах ℏγ для различных поляризационных конфигураций слабых охлаждающих световых полей: (а) σ+ — σ – поляризация для обоих компонент бихроматического поля; (б) поляризация для обоих компонент бихроматического поля; (в) σ+ — σ –поляризация поля, резонансного D2-линии, поляризация поля, резонансного D1-линии; (г) поляризация поля, резонансного D2-линии, σ+ — σ –поляризация поля, резонансного D1-линии; параметры задачи: S2 = S1 =0.1.
При этом минимальные температуры, ниже доплеровского предела, достигаются в полях с поляризационной конфигурацией компоненты поля, резонансной D2-линии, рис. 3б, г в широком диапазоне отстроек компоненты светового поля, резонансного D1-линии. Граница области параметров, очерчивающая доплеровский предел, отмечена на графике пурпурными цифрами 0.5, и существует область охлаждения ниже допплеровского предела.
Использование бихроматического светового поля, имеющего σ+ - σ - конфигурацию компоненты, резонансной D2-линии, также приводит к лазерному охлаждению, однако минимальные достижимые температуры для такой поляризационной конфигурации оказываются в два раза выше доплеровского предела, что хорошо видно на графике рис. 3а. При этом на выбор правильной отстройки световых полей, для достижения минимальных температур, накладываются более жесткие ограничения, т. к. имеются две ярко выраженные области лазерного охлаждения. Для обеих областей отстройка по полю, резонансному D2-линии, оказывается одинаковой δ2 ~ -0.5γ, а отстройка по полю, резонансному D1 линии, может быть, либо далекой красной δ2 ~ -10γ, либо синей δ2 ~ 3γ.
Следовательно, даже в режиме стоячих волн - основным охлаждающим полем является поле, резонансное D2-линии, а поле, резонансное D1-линии, играет, в основном, роль перекачки атомов и возвращения их в цикл лазерного охлаждения. И именно правильно выбранная поляризация поля ( ), резонансного D2-линии позволяет достигать предельных значений охлаждения ниже доплеровского предела.
Режим интенсивного поля
Температура атомов в интенсивных охлаждающих полях (S2 = S1 = 1) показана на рис. 4. В сильных полях конфигурации достигаются температуры близкие к доплеровскому пределу, тогда как охлаждение в поле σ+ - σ - конфигурации дает предельные температуры атомов заведомо (в три и более раза) более высокие (рис. 4а, в), по сравнению с поляризационной конфигураций поля, резонансного D2-линии.
Рис. 4. Величина null в единицах ℏγ для различных поляризационных конфигураций сильных охлаждающих световых полей: (а) σ+ — σ – поляризация для обоих компонент бихроматического поля; (б) поляризация для обоих компонент бихроматического поля; (в) σ+ — σ – поляризация поля резонансного D2-линии, поляризация поля резонансного D1-линии; (г) поляризация поля резонансного D2-линии, σ+ — σ –поляризация поля резонансного D1-линии; параметры задачи: S2 = S1 =1.
Дополнительно отметим, области наиболее низких температур значительно сдвигается по отстройке светового поля, резонансного D1-линии, по сравнению с охлаждением в поле слабых световых полей и практически не меняется по отстройке компоненты светового поля, резонансного D2-линии. Вне зависимости от поляризации область оптимальных отстроек оказывается около красных отстроек обоих световых полей δ2 ~ -0.5γ, δ1 ~ -0.5-1γ.
Исходя из проведенных исследований, для достижения минимальных температур лазерного охлаждения атомов лития необходимо выбрать отстройку резонансного D2-линии равную δ2 ~ -0.5γ, и просканировать отстройку поля резонансного D1-линии, т. к. отличие температуры при оптимальном выборе отстройки компоненты поля резонансного D1-линии, от неоптимальной может составлять до нескольких раз.
Режим разных по интенсивности полей
Отдельное внимание было уделено исследованию пределов лазерного охлаждения атомов лития в бихроматическом световом поле при дисбалансе интенсивности частотных компонент поля (S2/S1 = 1/ 0.1 и S2/S1 = 0.1/ 1) результаты приведены на рис. 5.
Рис. 5. Величина null в единицах ℏγ для различных интенсивностей охлаждающих световых полей: (а) σ+ — σ – поляризация для обоих компонент бихроматического поля, S2 = 0.1, S1 = 1; (б) поляризация для обоих компонент бихроматического поля, S2 = 0.1, S1 = 1; (в) σ+ — σ – поляризация для обоих компонент бихроматического поля, S2 = 1, S1 = 0.1; (г) поляризация для обоих компонент бихроматического поля, S2 = 1, S1 = 0.1.
Показано, что:
1. Более низкие температуры достигаются при слабом поле, резонансном D2-линии (рис. 5б, г). Предельные значения, достигаются в при поляризации охлаждающих полей, и достижимо лазерного охлаждение ниже допплеровского предела (рис. 5б).
2. Интенсивность и поляризация поля, резонансного D1-линии, в первую очередь задает положение зоны глубокого охлаждения, но не оказывает принципиального влияния на достижимые температуры.
Заключение
Таким образом, построена модель полихроматического охлаждения легких щелочных металлов, модель была апробирована для атома 6Li, имеющего сложную структуру уровней. Установлено, что охлаждение достигается, при красной отстройке поля, резонансного D2-линии, и при отстройке любого знака, поля резонансного D1-линии, в широком диапазоне отстроек. Что отличается от случая охлаждения в монохроматическом поле, где отстройка должна быть красной. Оптимальная отстройка по полю, резонансному D2-линии, равна δ2 ~ -0.5γ, оптимальная отстройка по полю, резонансному D1, зависит от поляризации и интенсивности компонент бихроматического светового поля. Для достижения и преодоления доплеровского предела лазерного охлаждения атомов 6Li kbTD = γ/2 принципиальным является выбор поляризационной конфигурацией поля, резонансного D2-линии, для σ+ - σ - поляризационной конфигурации температуры оказываются, как минимум, в два раза выше доплеровского предела. Для достижения минимальных температур, ниже доплеровского предела, необходимо использовать слабое поле, резонансное D2-линии.
Интенсивность и отстройка поля, резонансного D1-линии, влияет на положение оптимума лазерного охлаждения, но не на предельные значения температур. При этом оптимум оставаясь стабильным по отстройке поля, резонансного D2-линии, плавает по отстройке поля, резонансного D1-линии. Поэтому, в эксперименте, где используются поля конкретных интенсивности, необходимо сканировать отстройку D1-линии, для получения минимальных температур, и повторять это, при изменении соотношения интенсивностей световых полей.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-22-00198, https://rscf.ru/project/23-22-00198/.
About the authors
R. Ya. Ilenkov
Institute of Laser Physics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: ilenkov.roman@gmail.com
Russian Federation, Novosibirsk
O. N. Prudnikov
Institute of Laser Physics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Novosibirsk National Research State University Novosibirsk
Email: ilenkov.roman@gmail.com
Russian Federation, Novosibirsk; Novosibirsk
A. V. Taichenachev
Institute of Laser Physics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Novosibirsk National Research State University Novosibirsk
Email: ilenkov.roman@gmail.com
Russian Federation, Novosibirsk; Novosibirsk
V. I. Yudin
Institute of Laser Physics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; Novosibirsk National Research State University Novosibirsk
Email: ilenkov.roman@gmail.com
Russian Federation, Novosibirsk; Novosibirsk
References
- Ludlow A.D., Boyd M.M., Ye J. et al. // Rev. Mod. Phys. 2015. V. 87. No. 2. P. 637.
- Тайченачев А.В., Юдин В.И., Багаев С.Н. // УФН. 2016. Т. 186. № 2. С. 193; Taichenachev A.V., Yudin V.I., Bagaev S.N. // Phys. Usp. 2016. V. 59. No. 2. P. 184.
- Marti G.E., Hutson R.B., Goban A. et al. // Phys. Rev. Lett. 2018. V. 120. No. 10. Art. No. 103201.
- Cornell E.A., Wieman C.E. // Rev. Mod. Phys. 2002. V. 74. No. 3 P. 875.
- Ketterle W. // Rev. Mod. Phys. 2002. V. 74. No. 4. P. 1131.
- Турлапов А.В. // Письма в ЖЭТФ. 2012. Т. 95. № 2. С. 104; Turlapov A.V. // JETP Lett. 2012. V. 95. No. 2. P. 96.
- Bongs K., Holynski M., Vovrosh J. et al. // Nature Rev. Phys. 2019. V. 1. No. 12. P. 731.
- Dang H.B., Maloof A.C., Romalis M.V. // Appl. Phys. Lett. 2010. V. 97. No. 15. Art. No. 151110.
- Рябцев И.И., Колачевский Н.Н., Тайченачев А.В. // Квант. электрон. 2021. Т. 51. № 6. С. 463; Ryabtsev I.I., Kolachevsky N.N., Taichenachev A.V. // Quantum Electron. 2021. V. 51. No. 6. P. 463.
- Колачевский Н.Н., Хабарова К.Ю., Заливако И.В. и др. // Ракетно-косм. приборостр. и информ. сист. 2018. Т. 5. № 1. С. 13; Kolachevsky N.N., Khabarova K.Yu., Zalivako I.V. et al. // Rocket-Space Device Eng. Inform. Syst. 2018. V. 5. No. 1. P. 12.
- Minogin V.G., Letokhov V.S. Laser light pressure on atoms. New York: Gordon and Breach, 1987.
- Kazantsev A.P., Surdutovich G.I., Yakovlev V.P. Mechanical action of light on atoms. Singapore: World Scientific, 1990. 380 p.
- Metcalf H.J., Van der Straten P. Laser cooling and trapping. New York: Springer, 1990. 340 p.
- Dalibard J., Cohen-Tannoudji C. // J. Physics B. 1985. V. 18. No. 8. P. 1661.
- Javanainen J. // Phys. Rev. A. 1991. V. 44. No. 9. P. 5857.
- Dalibard J., Cohen-Tannoudji C. // J. Opt. Soc. Amer. B. 1989. V. 6. No. 11. P. 2023.
- Прудников О.Н., Тайченачев А.В., Тумайкин А.М., Юдин В.И. // ЖЭТФ. 1999. Т. 115. № 3. С. 791; Prudnikov O.N., Taichenachev A.V., Tumaikin A.M., Yudin V.I. // JETP. 1999. V. 88. No. 3. P. 433.
- Кирпичникова А.А., Прудников О.Н., Ильенков Р.Я. и др. // Квант. электрон. 2020. Т. 50. № 10. С. 939; Kirpichnikova A.A., Prudnikov O.N., Il’enkov R. Ya. et al. // Quantum Electron. 2020. V. 50. No. 10. P. 939.
- Riedmann M., Kelkar H., Wübbena T. et al. // Phys. Rev. A. 2012. V. 86. No. 4. Art. No. 043416.
- Hobson R., Bowden W., Vianello A. et al. // Phys. Rev. A. 2020. V. 101. No. 1. Art. No. 013420.
- Прудников О.Н., Тайченачев А.В., Юдин В.И. // Письма в ЖЭТФ. 2015. Т. 102. № 9. С. 660; Prudnikov O.N., Taichenachev A.V., Yudin V.I. // JETP Lett. 2015. V. 102. No. 9. P. 576.
- Kalganova E., Prudnikov O., Vishnyakova G. et al. // Phys. Rev. A. 2017. V. 96. No. 3. Art. No. 033418.
- Питаевский Л.П. // УФН. 1998. Т. 168. № 6. С. 641; Pitaevskii L.P. // Phys. Usp. 1998. V. 41. No. 6. P. 569.
- Каган М.Ю., Турлапов А.В. // УФН. 2019. Т. 189. № 3. С. 225; Kagan M.Yu., Turlapov A.V. // Phys. Usp. 2019. V. 62. No. 3. P. 215.
- Lin Z., Shimizu K., Zhan M. et al. // Japan. J. Appl. Phys. 1991. V. 30. No. 7B. Art. No. L1324.
- Burchianti A., Valtolina G., Seman J.A. et al. // Phys. Rev. A. 2014. V. 90. No. 4. Art. No. 043408.
- Mosk A., Jochim S., Moritz H. et al. // Opt. Lett. 2001. V. 26. No. 23. P. 1837.
- Grier A.T., Ferrier-Barbut I., Rem B.S. et al. // Phys. Rev. A. 2013. V. 87. No. 6. Art. No. 063411.
- Ильенков Р.Я., Кирпичникова А.А., Прудников О.Н. // Квант. электрон. 2022. Т. 52. № 2. С. 137; Il’enkov R.Ya., Kirpichnikova A.A., Prudnikov O.N. // Quantum Electron. 2022. V. 52. No. 2. P. 137.
- Yoo S.M., Javanainen J. // Phys. Rev. A. 1992. V. 45. No. 5. P. 3071.
- Прудников О.Н., Тайченачев А.В., Тумайкин А.М., Юдин В.И. // ЖЭТФ. 2004. Т. 125. № 3. С. 499; Prudnikov O.N., Taichenachev A.V., Tumaikin A.M., Yudin V.I. // JETP. 2004. V. 98. No. 3. P. 438.
- Безвербный А.В., Прудников О.Н., Тайченачев А.В. и др. // ЖЭТФ. 2003. Т. 123. № 3. С. 437; Bezverbnyi A.V., Prudnikov O.N., Taichenachev A.V. et al. // JETP. 2003. V. 96. No. 3. P. 383.
- Chang S., Minogin V. // Phys. Rep. 2002. V. 365. No. 2. P. 65.
- Adams C.S., Riis E. // Progr. Quantum. Electron. 1997. V. 21. No. 1. P. 1.
Supplementary files