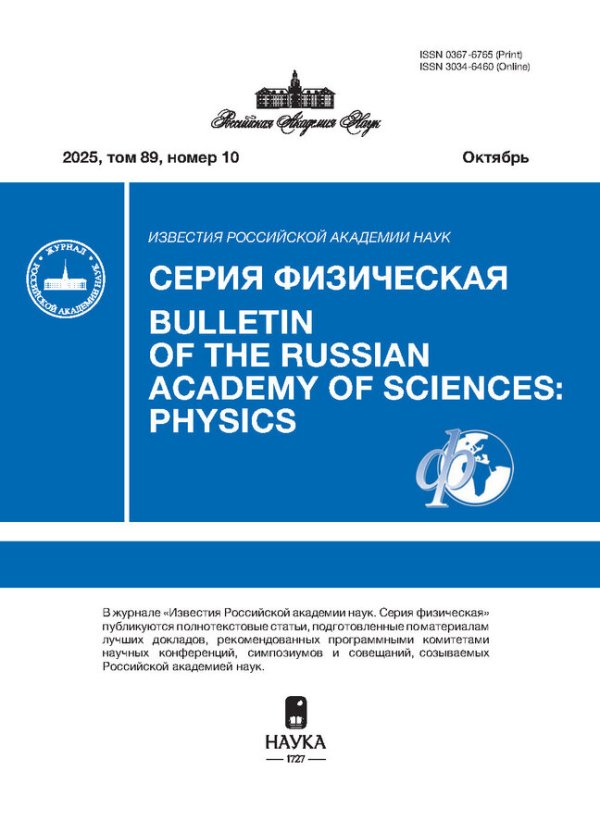Experimental study of the proximity effect in thin-film heterostructures with varying thickness of the superconducting lead layer
- Authors: Kаmаshev А.А.1, Validov A.A.1, Arbuzov D.А.1, Garif’yanov N.N.1, Gаrifullin I.A.1
-
Affiliations:
- Zаvоisky Physiсаl-Teсhniсаl Institute, Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
- Issue: Vol 88, No 7 (2024)
- Pages: 1059-1064
- Section: Spin physics, spin chemistry and spin technologies
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-6765/article/view/279464
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524070092
- EDN: https://elibrary.ru/PBPBLC
- ID: 279464
Cite item
Full Text
Abstract
Systematic studies of the proximity effect of superconductor/normal metal, superconductor/antiferromagnet and superconductor/ferromagnet in structures with varying thickness of the superconducting lead layer have been carried out. It has been shown that in these systems the behavior of the superconducting transition temperature Tc with decreasing thickness of the superconducting layer is different. For superconductor/antiferromagnet structures, within the limits of the studied lead layer thicknesses, changes in Tc are insignificant. As the lead layer thickness decreases, the electrical resistance ratio RRR (R300K/R10K) decreases significantly, which may indicate an increase in the contribution of surface defects. The width of superconducting transitions increases with decreasing thickness of the lead layer, which indicates the manifestation of size effects.
Full Text
Введение
В последние десятилетия большое внимание уделяется разработке и созданию различных элементов для сверхпроводящей спинтроники (см., например, [1, 2]). В этих работах, в частности, подчеркивается интерес к гетероструктурам сверхпроводник/ферромагнетик/сверхпроводник (С/Ф/С), которые могут служить элементами квантовой логики [3]. Например, элемент кубита, [4, 5] основанный на так называемом Джозефсоновском π-контакте [6, 7], при определенных условиях может быть реализован на основе тонкопленочной гетероструктуры С/Ф/С. Исследование взаимодействия между ферромагнетизмом и сверхпроводимостью в тонкопленочных структурах представляет давний фундаментальный интерес (см., например, [8]). Это обусловлено противоположностью этих явлений. Антагонизм сверхпроводимости и ферромагнетизма проявляется в сильном подавлении сверхпроводимости ферромагнетизмом, поскольку ферромагнетизм предполагает параллельную ориентацию спинов (П), а сверхпроводимость антипараллельную (АП), так как спины электронов куперовской пары противоположно направлены. Величина энергии обменного взаимодействия в ферромагнетиках, стремящегося выстроить спины электронов параллельно, как правило на порядки превышает энергию связи электронов куперовской пары. Поэтому куперовские пары разрушаются под действием энергии обменного взаимодействия ферромагнетика. Таким образом, куперовские пары могут проникнуть в Ф-слой лишь на небольшие расстояния ξF (где ξF — глубина проникновения куперовской пары из С-слоя в Ф-слой). Для сильных элементных ферромагнетиков, таких как Fe или Co, значение ξF составляет менее 1 нм (см., например, [9]). Эффект близости С/Ф подробно рассмотрен в обзорах [10—13].
Сверхпроводящий спиновый клапан (ССК), построенный на базе эффекта близости С/Ф, активно исследуется как теоретически, так и экспериментально с конца 90-х годов прошлого века. Теоретически были предложены две различные конструкции сверхпроводящего спинового клапана. Первая конструкция ССК представляет собой многослойную тонкопленочную систему Ф1/Ф2/С (I тип), где Ф1 и Ф2 — ферромагнитные слои, разделенные слоем немагнитного материала, а С — сверхпроводящий слой [14]. В работе [14] показано, что при параллельной ориентации намагниченностей Ф1- и Ф2-слоев в системе Ф1/Ф2/С температура перехода в сверхпроводящее состояние Tc (TcП) ниже, чем в случае антипараллельной ориентации (TcАП). Вторая конструкция ССК [15, 16] — Ф1/С/Ф2 (II тип). Принцип работы этой системы идентичен конструкции первого типа. Величиной эффекта ССК определяется разницей между TcАП и TcП (ΔТс = TcАП — TcП). В случае, если величина эффекта ССК превышает ширину сверхпроводящего перехода (δTc), говорят о реализации полного эффекта ССК. При реализации полного эффекта ССК, возникает возможность контроля и управления сверхпроводящим током путем изменения взаимной ориентации намагниченностей Ф-слоев. Таким образом, сверхпроводящий спиновый клапан может являться перспективным пассивным элементом сверхпроводящей спинтроники, с помощью которого можно контролировать сверхпроводящий ток. Экспериментально реализовать полный эффект ССК довольно долго не удавалось, так как ΔTс оказывалось меньше ∂Tс (см., например, [17—22]). Впервые полный эффект сверхпроводящего спинового клапана был экспериментально реализован в структуре Ф1/Ф2/С в 2010 году [23]. В последние годы интенсивно исследуются разнообразные структуры ССК с различными ферромагнитными и сверхпроводящими материалами [24—34].
Во многих экспериментальных работах между сверхпроводящими и ферромагнитными слоями вводят буферные слои [29, 35—37]. Такие буферные слои играют роль разделителя (spacer layer), препятствующего взаимной интердифузии материалов Ф-слоя и С-слоя. Кроме того, для определенных структур ССК I типа обнаружено увеличение прозрачности границы С/Ф при наличии буферного слоя [29]. Таким образом, буферные слои играют важную роль в структурах ССК I типа. В качестве буферного слоя обычно используются немагнитные металлы (НМ). Выбор немагнитных металлов обусловлен необходимостью минимизировать влияние буферного слоя на сверхпроводящие свойства ССК. В работе [29] показано, что с увеличением толщины медного слоя в структуре Cu(dСu нм)/Pb (60 нм) возрастает степень подавления Тс, где Pb — сверхпроводящий слой. Оптимальная толщина медного слоя составила dСu = 1.2 нм. При такой толщине медного слоя подавление Тс было минимальным, а качество интерфейса и время жизни образцов существенно возрастали. Необходимо отметить, что в последние годы свинец активно используется в качестве сверхпроводящего слоя в ССК из-за достаточно высокой Tc [29, 35—37].
Таким образом, интерфейс Cu/Pb является важной составляющей частью современных ССК, что требует его детального изучения. В данной работе проведено систематическое исследование двухслойных тонкопленочных гетероструктур Cu(1.5 нм)/Pb(dPb) с варьируемыми толщинами слоя свинца dPb. Также было экспериментально исследовано поведение Тс в системах с антиферромагнитными [CoOx(3.5 нм)/Pb(dPb)] и ферромагнитными слоями [Cu(1.5 нм)/Fe(5 нм)/Pb(dPb)]. Сам по себе интерфейс антиферромагнетик/сверхпроводник может быть перспективным для использования в ССК [38]. Проведен сравнительный анализ сверхпроводящих свойств Cu(1.5 нм)/Pb(dPb), CoOx(3.5 нм)/Pb(dPb) и Cu(1.5 нм)/Fe(5 нм)/Pb(dPb) гетероструктур. Выбор изучаемого набора гетероструктур обусловлен перспективностью этих интерфейсов в качестве составных частей сверхпроводящего спинового клапана.
Образцы и методика измерений
Образцы были приготовлены методами молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) и магнетронного распыления в сверхвысоком вакууме на напылительном оборудовании фирмы BESTEC. Напылительная установка представляет собой соединенные между собой вакуумные камеры: камера МЛЭ с предельным вакуумом 5⋅10–10 мбар, камера магнетронного напыления (на постоянном и переменном токе) с предельным вакуумом 5⋅10–9 мбар; загрузочная камера с предельным вакуумом 5⋅10–8 мбар. Образцы напылялись на монокристаллические подложки MgO (001) размерами 2×15×0.5 мм. Шероховатость подложек MgO составляла не более 0.5 нм. Были приготовлены 3 основных серии образцов со следующими параметрами: серия 1 — МgO/Cu(1.5 нм)/Pb(dPb); серия 2 — МgO/CoOx(3.5 нм)/Pb(dPb); серия 3 — МgO/Cu(1.5 нм)/Fe(5 нм)/Pb(dPb). В данных сериях варьировалась толщина сверхпроводящего слоя свинца dPb. Также была приготовлена четвертая серия образцов (серия 4) — MgO/Pb(dPb) c варьируемой толщиной Pb-слоя. Наши исследования показали, что для достижения хорошей адгезии свинца, необходимо выдерживать подложки MgO при температуре около 400 °C в течение нескольких часов в сверхвысоком вакууме 1⋅10–9 мбар. Без такой процедуры адгезия пленок к подложке была неудовлетворительной.
Для приготовления образцов были использованы мишени для электронно-лучевого испарения в камере МЛЭ: медь, кобальт, железо и свинец. Все металлы имели чистоту 4N (содержание примесей 0.01 %). Все образцы каждой серии готовились в рамках одного вакуумного цикла без взаимодействия с атмосферой. Для переноса образцов из МЛЭ камеры в камеру с магнетронным напылением использовалась загрузочная камера. Слои Cu, Co, Fe и Pb были приготовлены методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Для предотвращения окисления на все образцы методом магнетронного распыления на переменном токе наносили защитный слой нитрида кремния (Si3N4). Скорости напыления слоев составляли: 0.5 Å/с для Cu, Co и Fe-слоев; 12 Å/с для Pb-слоя; 1.8 Å/с для защитного Si3N4-слоя. Выбор относительно высокой скорости напыления свинца, по сравнению с другими слоями, обусловлен необходимостью минимизации взаимодействия паров Pb со средой МЛЭ камеры. Малые скорости напыления свинца могут приводить к ухудшению сверхпроводящих параметров приготовленной пленки.
Скорость осаждения контролировалась при помощи водоохлаждаемого кварцевого измерителя толщины Inficon XTM/2. Критически важным параметром для наших исследований является толщина сверхпроводящего слоя. Поэтому кварцевый измеритель был тщательно откалиброван при помощи атомно-силового измерителя толщины Bruker Dimension FastScan. Специально сконструированный держатель образцов позволял напылять до 8 образцов за один вакуумный цикл. Структуры исследуемых образцов представлены на рис. 1. Параметры образцов приведены в табл. 1.
Рис. 1. Структуры исследуемых образцов: серия 1 — MgO/Cu(1.5 нм)/Pb(dPb) (a); серия 2 — MgO/CoOx(3.5 нм)/Pb(dPb) (б); серия 3 — MgO/Cu(1.5 нм)/Fe(5 нм)/Pb(dPb) (в); серия 4 — MgO/Pb(dPb) (г).
Таблица 1. Параметры исследуемых образцов: серия 1 — MgO/Cu(1.5 нм)/Pb(dPb); серия 2 — MgO/CoOx(3.5 нм)/Pb(dPb); серия 3 — MgO/Cu(1.5 нм)/Fe(5 нм)/Pb(dPb); серия 4 — MgO/Pb(dPb)
Серия образцов | Номер образца | dCu, нм | dCoOx, нм | dFe, нм | dPb, нм |
1 | 1 | 1.5 | — | — | 216 |
2 | 1.5 | 144 | |||
3 | 1.5 | 90 | |||
4 | 1.5 | 54 | |||
5 | 1.5 | 36 | |||
6 | 1.5 | 18 | |||
7 | 1.5 | 11 | |||
2 | 1 | — | 3.5 | — | 216 |
2 | 3.5 | 144 | |||
3 | 3.5 | 90 | |||
4 | 3.5 | 54 | |||
5 | 3.5 | 36 | |||
6 | 3.5 | 18 | |||
3 | 1 | 1.5 | — | 5 | 216 |
2 | 1.5 | 5 | 180 | ||
3 | 1.5 | 5 | 144 | ||
4 | 1.5 | 5 | 108 | ||
5 | 1.5 | 5 | 90 | ||
6 | 1.5 | 5 | 72 | ||
7 | 1.5 | 5 | 54 | ||
8 | 1.5 | 5 | 36 | ||
4 | 1 | — | — | — | 216 |
2 | 144 | ||||
3 | 90 | ||||
4 | 54 | ||||
5 | 36 | ||||
6 | 18 |
Образцы всех серий напылялись на охлажденные до T ~ 150 К подложки. Это необходимо для предотвращения островкового роста Pb-слоев, как это было показано ранее [37]. В серии 2 напыление оксида кобальта проводилось в два этапа. Сначала напылялся Co в МЛЭ камере, затем держатель образцов перемещался в загрузочную камеру и выдерживался в течение полутра часов в среде кислорода при давлении 100 мбар. Здесь CoOx играет роль диэлектрического антиферромагнитного слоя (АФ). Таким образом, приготовленные образцы представляли собой четыре различные модели: серия 1 — Подложка/НМ/C; серия 2 — Подложка/АФ/C; серия 3 — Подложка/Ф/НМ/C, серия 4 — Подложка/С.
Величины Tc определялись из зависимостей сопротивления от температуры. Сопротивление измерялось при помощи стандартного 4-контактного метода на постоянном токе. Значения Tс определялись как средняя точка на сверхпроводящем переходе. Определение температуры проводилось откалиброванным температурным датчиком Cernox 1050.
Экспериментальные результаты и обсуждение
На рис. 2 представлены зависимости температуры перехода в сверхпроводящее состояние от толщины сверхпроводящего слоя свинца Тс(dPb) для всех серий образцов. Как видно из рис. 2, с уменьшением толщины Pb-слоя для серии 1 и серии 3, Тс начинает уменьшаться. Это объясняется проявлением эффекта близости: для серии 1 — эффект близости сверхпроводник/нормальный (немагнитный) металл; для серии 3 — эффект близости сверхпроводник/ферромагнетик. Эффект близости С/НМ приводит к относительно меньшему снижению Тс (серия 1), чем эффект близости С/Ф (серия 3), так как куперовская пара может проникать из С-слоя в НМ-слой на существенно большие расстояние (например, ξCu ~ 10 нм), чем в Ф-слой. Эффект близости С/Ф сильнее понижает Тс, так как куперовская пара разрушается под действием энергии обменного взаимодействия Ф-слоя и проникает на расстояние сравнимое с ξF ~ 1 нм. Именно такая картина и наблюдается на рис. 3 для серии 3. С уменьшением толщины С-слоя эффект близости становится более эффективным, что проявляется в более сильном снижении Тс.
Рис. 2. Зависимости температуры перехода в сверхпроводящее состояние от толщины сверхпроводящего слоя свинца Тс(dPb) для всех серий образцов.
Рис. 3. Зависимости отношения электросопротивлений от толщины сверхпроводящего слоя свинца RRR(dPb) для всех серий образцов.
Необходимо отметить, что для серии 2 и серии 4 понижение Тс существенно слабее по сравнению с серией 1 и серией 3. Для этих серий сильное понижение Тс должно происходить только при приближении толщины С-слоя к длине когерентности сверхпроводника из-за размерного эффекта. Характер зависимости кривых Тс(dPb) для серии 2 и серии 4 идентичен, что свидетельствует об отсутствии влиянии антиферромагнетика на сверхпроводящие свойства в гетероструктурах МgO/CoOx(3.5 нм)/Pb(dPb).
Согласно правилу Маттиссена, полное электрическое сопротивление металла определяется суммой фононного вклада ρphon и вклада от рассеяния на дефектах ρdef [39]. Фононный вклад при высоких температурах уменьшается линейно с уменьшением температуры, а при температурах ниже температуры Дебая θD зависит от температуры как T5, то есть при температурах T ~ 10 К значение фононного вклада стремится к нулю. Вклад же от рассеяния на дефектах ρdef не зависит от температуры. Отношение электросопротивлений RRR (Residual Resistivity Ratio) — это отношение электросопротивления при комнатной температуре к электросопротивлению при температуре чуть выше сверхпроводящего перехода (10 К): RRR = R300K/R10К = [ρphon(300 K) + ρdef (10 К)] / / ρdef (10 К). Таким образом, величина RRR характеризует степень дефектности образца.
На рис. 3 представлены зависимости RRR от толщины Pb-слоя для всех серий образцов. Согласно рис. 3, с уменьшением толщины Pb-слоя уменьшается RRR, что характерно для всех серий образцов. Независящий от температуры вклад от рассеяния на дефектах ρdef складывается из рассеяния в объеме пленки и на поверхности. При малых толщинах рассеяние на поверхности пленки становится доминирующим и отношение RRR падает. Это хорошо согласуется с ростом критического поля сверхпроводящих пленок свинца при уменьшении толщины [40].
На рис. 4 представлены зависимости ширин сверхпроводящих переходов от толщины сверхпроводящего слоя свинца (δТс(dPb)) для всех серий образцов. C уменьшение толщины Pb-слоя наблюдается рост δТс для всех серий образцов. Одним из вкладов в ширину сверхпроводящих переходов может быть неоднородность толщины Pb-слоя. Такая неоднородность может увеличиваться с уменьшением толщины. Для серии 1 и серии 3 ширины сверхпроводящих переходов растут больше, чем для серии 2 и серии 4. Такое поведение объясняется эффектом близости С/НМ (серия 1) и С/Ф (серия 3), которые становятся существеннее при малых толщинах С-слоя. В случае серии 2 и серии 4, дополнительного воздействия на сверхпроводящие свойства С-слоя не происходит, что согласуется с поведением Тс на рис. 2, поэтому ширина перехода растет не так сильно. Увеличение ширин переходов для серии 2 и серии 4 может быть обусловлено размерными эффектами при уменьшении толщины С-слоя.
Рис. 4. Зависимости ширин сверхпроводящих переходов от толщины сверхпроводящего слоя свинца δТс(dPb) для всех серий образцов.
Заключение
В данной работе исследованы свойства двухслойных Cu(1.5 нм)/Pb(dPb) и CoOx(3.5 нм)/Pb(dPb) и трёхслойных Cu(1. 5 нм)/Fe(5 нм)/Pb(dPb) тонкопленочных гетероструктур с варьируемыми толщинами сверхпроводящего слоя свинца dPb. Проведен сравнительный анализ сверхпроводящих свойств этих систем. Было показано, что с уменьшением толщины Pb-слоя в этих системах уменьшается температура перехода в сверхпроводящее состояние Тс и отношение RRR, а ширина сверхпроводящего перехода δТс увеличивается. Обнаружено, что диэлектрический антиферромагнитный слой практически не влияет на сверхпроводящие свойства системы CoOx(3.5 нм)/Pb(dPb нм), а поведение сверхпроводящих свойств такой гетероструктуры схоже с поведением сверхпроводящих свойств отдельного слоя свинца (серия 4). Таким образом, наиболее перспективными интерфейсами для сверхпроводящего спинового клапана являются Cu(1.5 нм)/Pb(dPb) и Cu(1.5 нм)/Fe(5 нм)/Pb(dPb), так как в них наиболее выражен эффект близости.
Исследования выполнены за счет средств Российского научного фонда (проект № 22-22-00916).
About the authors
А. А. Kаmаshev
Zаvоisky Physiсаl-Teсhniсаl Institute, Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
Author for correspondence.
Email: kаmаndi@mаil.ru
Russian Federation, Kаzаn
A. A. Validov
Zаvоisky Physiсаl-Teсhniсаl Institute, Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
Email: kаmаndi@mаil.ru
Russian Federation, Kаzаn
D. А. Arbuzov
Zаvоisky Physiсаl-Teсhniсаl Institute, Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
Email: kаmаndi@mаil.ru
Russian Federation, Kаzаn
N. N. Garif’yanov
Zаvоisky Physiсаl-Teсhniсаl Institute, Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
Email: kаmаndi@mаil.ru
Russian Federation, Kаzаn
I. A. Gаrifullin
Zаvоisky Physiсаl-Teсhniсаl Institute, Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
Email: kаmаndi@mаil.ru
Russian Federation, Kаzаn
References
- Ioffe L.B., Geshkenbein V.B., Feigel’man M.V. et al. // Nature. 1999. V. 398. No. 6729. P. 679.
- Фейгельман М.В. // УФН. 1999. Т. 169. № 8. С. 917; Feigel’man M.V. // Phys. Usp. 1999. V. 42. No. 8. P. 823.
- Рязанов В.В. // УФН. 1999. Т. 169. № 8. С. 920; Ryazanov N.N. // Phys. Usp. 1999. V. 42. No. 8. P. 825.
- Ryazanov V.V., Oboznov V.A., Veretennikov A.V., Rusanov A.Yu. // Phys. Rev. B. 2001. V. 65. Art. No. 020501.
- Veretennikov A.V., Ryazanov V.V., Oboznov V.A. et al. // Physica B. 2000. V. 284—288. P. 495.
- Ryazanov V.V., Oboznov V.A., Rusanov A. Yu. et al. // Phys. Rev. Lett. 2001. V. 86. P. 2427.
- Kontos T., Aprili M., Lesueur J., Grison X. // Phys. Rev. Lett. 2002. V. 89. P. 137007.
- Рязанов В.В., Обознов В.А., Больгинов В.В. и др. // УФН. 2004. Т. 174. № 7. С. 795; Ryazanov V.V., Oboznov V.A., Bol’ginov V.V. et al. // Phys. Usp. 2004. V. 47. No. 7. P. 732.
- Lazar L., Westerholt K., Zabel H. et al. // Phys. Rev. B. 2000. V. 61. P. 3711.
- Изюмов Ю.А., Прошин Ю.Н., Хусаинов М.Г. // УФН. 2002. Т. 172. № 2. С. 113; Izyumov Yu. A., Proshin Yu. N., Khusainov M.G. // Phys. Usp. 2002. V. 45. No. 2. P. 109.
- Buzdin A.I. // Rev. Mod. Phys. 2005. V. 77. P. 935.
- Bergeret F.S., Volkov A.F., Efetov K.B. // Rev. Mod. Phys. 2005. V. 77. P. 1321.
- Efetov K.B., Garifullin I.A., Volkov A.F., Westerholt K. // Magnetic heterostructures. Advances and perspectives in spinstructures and spintransport. STMP. V. 227. Berlin: Springer, 2007. P. 252.
- Oh S., Youm D., Beasley M.R. // Appl. Phys. Lett. 1997. V. 71. P. 2376.
- Tagirov L.R. // Physica C. 1998. V. 307. P. 145.
- Buzdin1 A.I., Vedyayev A.V., Ryzhanova N.V. // EPL. 1999. V. 48. P. 686.
- Gu J.Y., You C.-Y., Jiang J.S. et al. // Phys. Rev. Lett. 2002. V. 89. Art. No. 267001.
- You C.Y., Bazaliy Ya.B., Gu J.Y. et al. // Phys. Rev. B2004. V. 70. Art. No. 014505.
- Potenza A., Marrows C.H. // Phys. Rev. B2005. V. 71. Art. No. 180503(R).
- Peña V., Sefrioui Z., Arias D. et al. // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 94. Art. No. 057002.
- Moraru I.C., Pratt Jr. W.P., Birge N.O. // Phys. Rev. Lett. 2006. V. 96. Art. No. 037004.
- Miao G.-X., Ramos A.V., Moodera J. // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 101. P. 137001.
- Leksin P.V., Garif’yanov N.N., Garifullin I.A. et al. // Appl. Phys. Lett. 2010. V. 97. No 10. P. 102505.
- Montiel X., Eschrig M. // Phys. Rev. B2018. V. 98. P. 104513.
- Banerjee N., Ouassou J.A., Zhu Y. et al. // Phys. Rev. B. 2018. V. 97. P. 184521.
- Pugach N.G., Safonchik M.O., Belotelov V.I. et al. // Phys. Rev. Appl. 2022. V. 18. Art. No. 054002.
- Leksin P.V., Garif’yanov N.N., Garifullin I.A. et al. // Phys. Rev. Lett. 2012. V. 109. Art. No. 057005.
- Leksin P.V., Garif’yanov N.N., Kamashev A.A. et al. // Phys. Rev. B. 2016. V. 93. P. 100502(R).
- Leksin P.V., Garif’yanov N.N., Kamashev A.A. et al // Phys. Rev. B. 2015. V. 91. P. 214508.
- Камашев А.А., Валидов А.А., Гарифьянов Н.Н., Гарифулин И.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 4. С. 518; Kamashev A.A., Validov A.A., Garif’yanov N.N., Garifulin I.A. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 4. P. 448.
- Камашев А.А., Большаков С.А., Мамин Р.Ф., Гарифулин И.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 9. С. 1268; Kamashev A.A., Bolshakov S.A., Mamin R.F., Garifulin I.A. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 9. P. 1308.
- Камашев А.А., Гарифьянов Н.Н., Валидов А.А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2019. Т. 110. № 5—6. С. 325; Kamashev A.A., Garif’yanov N.N., Validov A.A. et al. // JETP Lett. 2019. V. 110. No. 5. P. 342.
- Камашев А.А., Гарифьянов Н.Н., Валидов А.А. и др. // ЖЭТФ. 2020. Т. 158. № 2. С. 345; Kamashev A.A., Garif’yanov N.N., Validov A.A. et al. // JETP. 2020. V. 131. No. 2. P. 311.
- Валидов А.А., Насырова М.И., Хабибуллин Р.Р. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 4. С. 523; Validov A.A., Nasyrova M.I., Khabibullin R.R., Garifullin I.A. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 4. P. 452.
- Kamashev A.A., Garif’yanov N.N., Validov A.A. et al. // Beilstein J. Nanotechnol. 2019. V. 10. P. 1458.
- Kamashev A.A., Garif’yanov N.N., Validov A.A. et al. // Phys. Rev. B. 2019. V. 100. Art. No. 134511.
- Leksin P.V., Kamashev A.A., Schumann J. et al. // Nano Research 2016. V. 9. P. 1005.
- Bobkov G.A., Bobkova I.V., Bobkov A.M., Kamra A. // Phys. Rev. B2022. V. 106. P. 144512.
- Pippard A.B. // Rep. Prog. Phys. 1960. V. 23. P. 176.
- Clarke J. // J. de Phys. Coll. 1968. V. 29. P. C2-3-C2-16.
Supplementary files