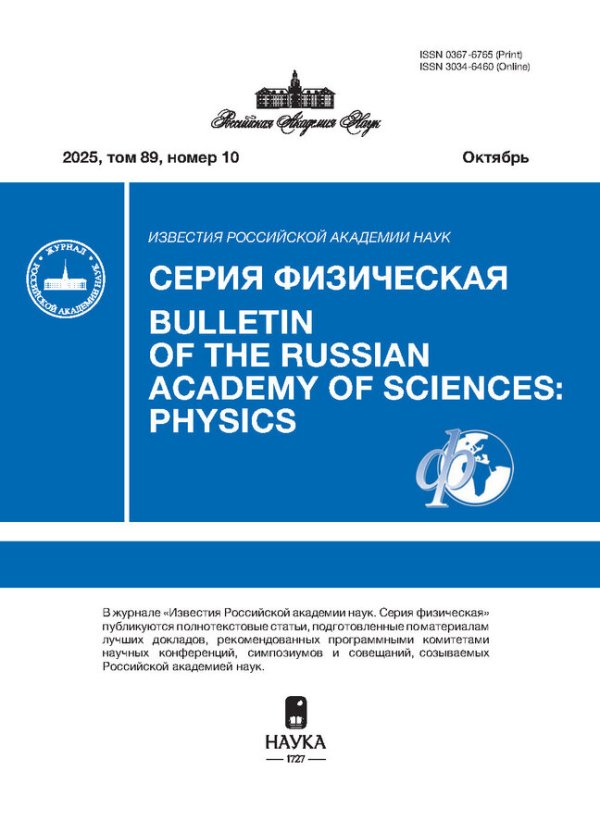The study of temperature-induced uniaxial deformations in planar ferromagnetic microparticles by ferromagnetic resonance and probe microscopy
- Authors: Nurgazizov N.I.1, Bizyaev D.A.1, Chuklanov A.P.1, Bukharaev A.А.1,2, Bazan L.V.1, Shur V.Y.3, Akhmatkhanov А.R.3
-
Affiliations:
- Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
- Tatarstan Academy of Sciences
- Ural Federal University
- Issue: Vol 88, No 7 (2024)
- Pages: 1065-1071
- Section: Spin physics, spin chemistry and spin technologies
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-6765/article/view/279491
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524070106
- EDN: https://elibrary.ru/PBNJCC
- ID: 279491
Cite item
Full Text
Abstract
The planar square nickel microparticles deposited on the surface of single crystals of lithium niobate in the hexagonal phase and potassium-titanyl phosphate was studied. Due to the highly different of thermal expansion coefficients the uniaxial anisotropy is induced in the microparticles when heated or cooled relative to the deposition temperature. The effect of inducing anisotropy was studied using magnetic force microscopy and ferromagnetic resonance. Data obtained from ferromagnetic resonance spectra show that in the ensemble of microparticles the rotation of anisotropy axis by 90° take place when the temperature of the sample’s changes from –10 °C to 60 °C. This is in a good agreement with data about domain structure of an individual microparticle obtained by magnetic force microscopy.
Full Text
Введение
Для управления магнитными свойствами ферромагнитных структур, и, в частности, планарных частиц можно использовать различные способы, одним из которых является магнитоупругий эффект (эффект Виллари). При этом в случае однодоменных частиц можно существенно снизить потери энергии, необходимые для переключения направления намагниченности, по сравнению с традиционным методом, в котором используется только внешнее магнитное поле [1, 2]. Такие частицы могут использоваться при создании новых микроэлектронных устройств, в том числе предназначенных для хранения и обработки информации с высокой энергоэффективностью [3—8]. Поэтому ферромагнитные микрочастицы и гетероструктуры на их основе вызывают повышенные интерес, и для изучения влияния магнитоупругого эффекта на их свойства используются различные методы. При этом одной из проблем является необходимость сопоставления данных, получаемых различными методами, и проведения измерений при одинаковых условиях.
Для создания одноосных механических напряжений в ферромагнитных структурах можно использовать различные способы. Это изменение размеров подложки, на которой они расположены, за счет: ее механического растяжения (сжатия) или изгиба [9—11]; использования подложек из материалов, имеющих пьезоэлектрический эффект [12—14], изменения размеров подложки при изменении ее температуры [15—17]. На практике наиболее просто организовать механическое воздействие на подложку. Например, за счет ее изгиба при формировании микрочастиц [18]. За счет распрямления подложки после формирования частиц, в них создаются механические напряжения, которые сохраняются в течении длительного времени и позволяют проводить исследования образца различными методами. Однако при этом отсутствует возможность изменять величину этих напряжений непосредственно во время экспериментов. Системы, в которых изгиб или растяжение образца происходит непосредственно во время измерений, могут оказаться довольно громоздкими, что ограничивает выбор методов исследования. Одним из таких методов является регистрация ферромагнитного резонанса (ФМР) исследуемых микрочастиц. В частности, при ФМР измерениях нельзя использовать электрические потенциалы для изменения геометрических размеров подложки. Для подобных исследований оптимальным является использование подложек, размеры которых изменяются анизотропно при изменении температуры. Такими подложками могут стать кристаллы, у которых изменяется кристаллическая решетка при фазовом переходе или же кристаллы с различными коэффициентами термического расширения вдоль разных кристаллографических осей. Во втором случае механические напряжения, действующие на ферромагнитные микрочастицы, можно контролировать за счет изменения температуры образца и относительно легко воспроизводить их при проведении исследований другими методами.
В данной работе в качестве объекта исследования были выбраны Ni микрочастицы, сформированные на поверхности монокристаллических подложек из титанил фосфата калия (KTiOPO4, далее — KTP) и ниобата лития (LiNbO3, далее — CLN). Методами ФМР и магнитно-силовой микроскопии (МСМ) исследовалось влияние магнитоупругого эффекта, обусловленного разными коэффициентами термического расширения по разным кристаллографическим осям подложки, на магнитные свойства микрочастиц.
Изготовление образцов и методики измерений
Массив Ni микрочастиц создавался на поверхности подложки за счет распыления твердотельной Ni мишени электронным лучом через маску в условиях сверхвысокого вакуума в установке Multiprobe P (Omicron). В качестве маски использовалась плотно прижатая к поверхности металлическая сетка с квадратными отверстиями размером 7.5 мкм. Расстояние между краями отверстий составляло 5.2 мкм. Сформированные микрочастицы имели поликристаллическую структуру и размеры 7.5×7.5×0.03 мкм.
В качестве подложки использовались прямоугольные монокристаллические подложки из KTP и CLN размером 3×2 мм и толщиной 1 мм. Для KTP длинная сторона подложки совпадала с кристаллографической осью y, короткая — с осью z. Согласно данным производителя (Crystal Technology Inc.) термические коэффициенты расширения вдоль этих осей составляли αy = 9·10–6 °C–1 и αz = 0.6·10–6 °C–1 соответственно. Для CLN подложек длинная сторона совпадала с кристаллографической осью а, короткая — с осью с. Термические коэффициенты расширения вдоль этих осей составляли α1 = 15·10–6 °C–1 и α3 = 7.5·10–6 °C–1 соответственно. Разница этих коэффициентов друг с другом и с коэффициентом термического расширения поликристаллического Ni: αp = 13·10–6 °C–1 [19], позволила создавать одноосные деформации в микрочастицах (рис. 1). При охлаждении КТР подложек ниже температуры напыления микрочастиц, абсолютное значение их одноосного растяжения вдоль оси z подложки должно было составить ε = ΔT·8.4·10–6 °C–1 (рис. 1а), где ΔT — изменение температуры образца. При нагреве должно было происходить такое же по абсолютному значению сжатие (рис. 1б). На CLN подложках при охлаждении должно было происходить растяжение микрочастиц вдоль оси с с абсолютной величиной ε = ΔT·7.5·10–6 °C–1 (рис. 1в), а при нагреве должно было происходить сжатие (рис. 1г). Таким образом можно было создавать одноосные механические напряжения в микрочастицах и контролировать их за счет изменения температуры образца. В качестве контрольного образца Ni микрочастицы были сформированы на поверхности стеклянной подложки, которая имела изотропный коэффициент термического расширения αg = 9·10–6 °C–1.
Рис. 1. Схема расположения Ni микрочастицы на монокристаллических подложках с анизотропными коэффициентами теплового расширения и направления действия сил: при охлаждении образца ниже (a) и при нагреве образца выше температуры формирования частиц на поверхности кристалла KTP (б); при охлаждении образца ниже (в) и при нагреве образца выше температуры формирования частиц на поверхности кристалла CLN (г).
Для проведения ФМР исследований использовалась установка Bruker EMX Plus с полем (Hex) до 1.4 Т и микроволновым полем Hmw c частотой 9.8 ГГц, перпендикулярным Hex. При измерениях образец размещался в резонаторе так, что его плоскость была параллельна внешнему магнитному полю. Образец вращался вокруг оси, перпендикулярной плоскости образца.
Для изучения магнитных свойств отдельной микрочастицы использовался сканирующей зондовый микроскоп (СЗМ) Solver P47 (NT MDT). Используемый СЗМ был дополнительно оборудован термоячейкой, которая позволяла изменять температуру образца от комнатной до 110 °C. Для проведения измерений в режиме МСМ использовалась однопроходная методика (когда во время сканирования зонд перемещается на постоянном расстоянии от исследуемой поверхности) для того, чтобы снизить возможное влияние МСМ зонда на распределение намагниченности в микрочастицах. При МСМ измерениях использовались магнитные кантиливеры “Multi75M-G” (BudgetSensor) и “PPP-LM-МСМR” (Nanosensor). Изображения микрочастиц в режиме атомно-силового микроскопа (АСМ) получались после проведения МСМ-измерений, чтобы также избежать искажения доменной структуры.
Влияние магнитноупругого эффекта на магнитные свойства Ni микрочастиц
Для всех трех типов образцов были сняты ФМР спектры при углах ориентации [0°; 180°] с шагом по углу 10° и в диапазоне температур [–10; 60] °C с шагом по температуре 10 °C. Типичный вид полученных спектров ФМР представлен на рис. 2а. На основе полученных данных были построены угловые зависимости резонансного поля (Hres) (рис. 2б). Для каждой такой угловой зависимости резонансного поля были рассчитаны эксцентриситет (e, как отношение минимального и максимального значений резонансных полей) (рис. 2в), и направления оси анизотропии (рис. 2г). Согласно полученным данным для контрольного образца (микрочастицы на стекле) не наблюдается какого-либо выраженного направления во всем диапазоне температур (рис. 2в, 2г). Для микрочастиц на CLN и KTP подложках при комнатной температуре (температуре формирования микрочастиц) также не наблюдается выраженного направления. При снижении или увеличении температуры образца наблюдается увеличение эксцентриситета и изменение направления анизотропии. Для обоих монокристаллических подложек ось анизотропии поворачивается практически на 90° при изменении температуры, что свидетельствует об изменении величины механического напряжения, действующего на микрочастицы, и переходе от их растяжения (при –10 °C) к сжатию (при 60 °C) (рис. 2г).
Рис. 2. ФМР спектры микрочастиц Ni на KTP при различных углах ориентации относительно магнитного поля при температуре 60 °C (а). Угловая зависимость резонансного поля в полярных координатах для микрочастиц Ni на KTP при температурах (б): –10 °C (пунктирная кривая), +20 °C (сплошная кривая) и +60 °C (кривая с точками); значения резонансных полей для каждой кривой нормированы на минимальное значение резонансного поля при данной температуре. Зависимости эксцентриситета углового отклонения резонансного поля от температуры (в). Зависимости угла направления оси термоиндуцированной магнитной анизотропии от температуры (г). 1 — KTP, 2 — CLN, 3 — стеклянная подложка.
МСМ исследования показали, что при комнатной температуре микрочастицы имеют четырехдоменную структуру с одинаковыми доменами, так называемую структуру Ландау. АСМ изображение одной из исследованных микрочастиц представлено на рис. 3а, МСМ изображение этой же микрочастицы — на рис. 3в. Для того чтобы установить распределение намагниченности в микрочастице на основе полученного МСМ изображения, использовался обратный подход. Исходя из геометрических размеров, с помощью программного пакета OOMMF [20] рассчитывалось возможное распределение намагниченности в микрочастице. На основе этого распределения строилось виртуальное МСМ изображение рис. 3з, которое сравнивалось с экспериментальным и при их совпадении делался вывод о том, что модельное распределение соответствует реальному [21].
Рис. 3. АСМ изображения отдельной Ni микрочастицы на KTP подложке, сформированной при комнатной температуре (а) и при 60 °C (б). Размер поля сканирования 11×11 мкм. Градации цвета соответствуют размаху высоты 35 нм. МСМ изображения микрочастицы а, полученные при 30 °C — в, 45 °C — г, 60 °C — д, и соответствующие им виртуальные МСМ изображения — з, и, к; микрочастицы б, полученные при 30 °C — е, 90 °C — ж, и соответствующие им виртуальные МСМ изображения — л, м. Градации цвета соответствуют размаху фазы 0.5°. Зависимость длины стенки между двумя увеличенными доменами (L) от температуры для образцов, приготовленных на KTP — н и CLN — о. Цифрой 1 обозначены данные для микрочастиц, сформированных на подложках при комнатной температуре, цифрой 2 — при 60 °C.
Так как термостолик, используемый в приборе, позволял только нагревать образец, для МСМ измерений был изготовлен набор таких же образцов, отличающихся только температурой изготовления: Ni микрочастицы на монокристаллические подложки напылялись при температуре 60 °C. Это позволило снижать температуру образца относительно температуры напыления, проводя измерения аналогичные регистрации ФМР. Для данных образцов измерения были выполнены в интервале температур от комнатной до 90 °C. Исследуемый диапазон температур составил 60 °C, температура нанесения микрочастиц была в середине исследуемого диапазона, что совпадает с экспериментальными условиями в ФМР эксперименте.
При исследовании образцов, приготовленных при комнатной температуре, с увеличением температуры наблюдалось увеличение размера двух доменов, направление намагниченности которых было коллинеарно оси z для KTP подложек и оси с для CLN подложек (рис. 3г, 3д, 3и, 3к). Поскольку магнитострикция никеля отрицательна, происходило сжатие микрочастиц в данном направлении. Длину доменной стенки (L), образующейся между двумя такими доменами, можно использовать в качестве параметра, характеризующего изменение площадей доменов, и использовать для оценки действующего на микрочастицу напряжения [11]. У микрочастиц, сформированных на стеклянной подложке, изменения в доменной структуре не наблюдались, их структура оставалось состоящей из четырех одинаковых доменов (аналогично рис. 3в, з) во всем диапазоне температур.
У микрочастиц, сформированных при 60 °C, при комнатной температуре наблюдалось увеличение размера двух доменов, направление намагниченности которых было коллинеарно оси Y для KTP подложек и оси a для CLN подложек (рис. 3е, 3л). Это свидетельствует о растяжении микрочастиц вдоль оси z на KTP подложке и вдоль оси с на CLN подложке. АСМ изображение одной из таких микрочастиц представлено на рис. 3б. С увеличением происходило увеличение размера двух других доменов (рис. 3ж, 3м).
Для того чтобы сопоставить полученные результаты между собой, зависимости магнитных свойств микрочастиц от температуры были пересчитаны в зависимости от механического напряжения (σ). При этом использовалось табличное значение модуля Юнга для никеля равное 210 ГПа [19]. Эти результаты приведены на рис. 4, где видно хорошие совпадение зависимости эксцентриситета (e), наблюдаемого при ФМР исследованиях, с зависимостью длины доменной стенки (L), наблюдаемой при МСМ измерениях, от действующего на микрочастицу напряжения.
Рис. 4. Зависимость эксцентриситета углового отклонения резонансного поля (e, левая ось ординат) и приведенной длины стенки между двумя увеличенными доменами (L, правая ось ординат) от действующего на микрочастицу механического напряжения. 1 — точки и кривая эксцентриситета для микрочастиц на кристалле KTP; 2 — точки и кривая эксцентриситета для микрочастиц на кристалле CLN; 3 — длина перемычки, нормированная на длину микрочастицы на кристалле KTP; 4 — длина перемычки, нормированная на длину микрочастицы на кристалле CLN.
Заключение
В работе двумя независимыми методами были исследованы магнитные свойства планарных никелевых микрочастиц на монокристаллических подложках с анизотропными коэффициентами термического расширения. Методами ФМР и МСМ независимо было показано, что при температурах образца, отличающихся от температуры нанесения металла, в микрочастицах наводится ось анизотропии, обусловленная магнитоупругим эффектом. При температуре ниже, чем температура нанесения Ni, эта ось формируется параллельно кристаллографической оси кристалла с большим температурным расширением. При температуре выше температуры нанесения ось разворачивается на 90°. В работе двумя независимыми методами продемонстрировано, что подложки с анизотропными коэффициентами теплового расширения могут успешно использоваться для создания контролируемых одноосных механических напряжений в исследуемых микрочастицах и позволяют, незначительно охлаждая или нагревая систему (всего на несколько десятков градусов Цельсия), заметно изменять их магнитные свойства.
Авторы выражают благодарность УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ (рег. № 2968) за помощь в подготовке подложек для формирования микрочастиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-29-00352).
About the authors
N. I. Nurgazizov
Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
Author for correspondence.
Email: niazn@mail.ru
Zаvоisky Physiсаl-Teсhniсаl Institute
Russian Federation, KаzаnD. A. Bizyaev
Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
Email: niazn@mail.ru
Zаvоisky Physiсаl-Teсhniсаl Institute
Russian Federation, KаzаnA. P. Chuklanov
Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
Email: niazn@mail.ru
Zаvоisky Physiсаl-Teсhniсаl Institute
Russian Federation, KаzаnA. А. Bukharaev
Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences; Tatarstan Academy of Sciences
Email: niazn@mail.ru
Zаvоisky Physiсаl-Teсhniсаl Institute
Russian Federation, Kаzаn; KаzаnL. V. Bazan
Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
Email: niazn@mail.ru
Federal Research Сenter Kаzаn Sсientifiс Сenter оf the Russian Аcademy of Sciences
Russian Federation, KаzаnV. Ya. Shur
Ural Federal University
Email: niazn@mail.ru
School of Natural Sciences and Mathematics
Russian Federation, EkaterinburgА. R. Akhmatkhanov
Ural Federal University
Email: niazn@mail.ru
School of Natural Sciences and Mathematics
Russian Federation, EkaterinburgReferences
- Roy K., Bandyopadhyay S., Atulasimha J. // Appl. Phys. Lett. 2011 V. 99. Art. No. 063108.
- Barangi M., Mazumder P. // IEEE Nanotechnol. Mag. 2015. V. 9. No 3. P. 15.
- Biswas A.K., Bandyopadhyay S., Atulasimha J. // Appl. Phys. Lett. 2014. V. 104. P. 232403.
- Atulasimha J., Bandyopadhyay S. // Nanomagnetic and spintronic devices for energy-efficient memory and computing. WILEY, 2016. 352 p.
- Бухараев А.А., Звездин А.К., Пятаков А.П., Фетисов Ю.К. // УФН. 2018. Т. 188. С. 1288.; Bukharaev A.A., Zvezdin A.K., Pyatakov A.P., Fetisov Yu.K. // Phys. Usp. 2018. V. 61. P. 1175.
- Bandyopadhyay S., Atulasimha J., Barman A. // Appl. Phys. Rev. 2021. V. 8. Art. No. 041323.
- Жуков Д.А., Крикунов А.И., Амеличев В.В. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84. № 5. С. 730; Zhukov D.A., Krikunov A.I., Amelichev V.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. No. 5. P. 602.
- Жуков Д.А., Амеличев В.В., Костюк Д.В., Касаткин С.И. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 9. С. 1256.; Zhukov D.A., Amelichev V.V., Kostyuk D.V., Kasatkin S.I. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 9. P. 1041.
- Ермолаева О.Л., Гусев Н.С., Скороходов Е.В. и др. // ФТТ. 2019. Т. 61. № 9. С. 1623; Ermolaeva O.L., Gusev N.S., Skorokhodov E.V. et al. // Phys. Solid State. 2019. V. 61. P. 1572.
- Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. T. 83. № 7. С. 897; Nurgazizov N.I., Bizyaev D.A., Bukharaev A.A // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2019. V. 83. No. 7. P. 815.
- Нургазизов Н.И., Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Чукланов А.П. // ФТТ. 2020. Т. 62. № 9. С. 1503; Nurgazizov N.I., Bizyaev D.A., Bukharaev A.A., Chuklanov A.P. // Phys. Solid State. 2020. V. 62. P. No. 1667.
- Finizio S., Foerster M., Buzzi M. et al. // Phys. Rev. Appl. 2014. V. 1. Art. No. 021001.
- Zhang Y., Wang Z., Wang Y. et al. // J. Appl. Phys. 2014. V. 115. Art. No. 084101.
- Chen A., Zhao Y., Wen Y. et al. // Sci. Advances. 2019. V. 5. Art. No. eaay5141.
- Bur A., Wu T., Hockel J. et al. // J. Appl. Phys. 2011. V. 109. P. 123903.
- Bizyaev D.A., Bukharaev A.A., Nurgazizov N.I. et al. // Phys. Stat. Sol. Rapid Res. Lett. 2020. Art. No. 2000256.
- Бизяев Д.А., Чукланов А.П., Нургазизов Н.И., Бухараев А.А. // Письма в ЖЭТФ. 2023. T. 118. № 7-8. С. 602; Bizyaev D.A., Chuklanov A.P., Nurgazizov N.I., Bukharaev A.A. // JETP Lett. 2023. V. 118. No. 8. P. 591.
- Бизяев Д.А., Бухараев А.А., Кандрашкин Ю.Е. и др. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. № 20. С. 24.; Bizyaev D.A., Bukhraev A.A., Kandrashkin Yu.E. et al. // Tech. Phys. Lett. 2016. V. 42. No. 10. P. 1034.
- Бабичев А.П., Бабушкина Н.А., Братковский А.М. и др. Физические величины: Справочник. М: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с. http://math.nist.gov/oommf.
- Овчинников Д.В., Бухараев А.А. // ЖТФ. 2001. Т. 71. № 8. С. 85; Ovchinnikov D.V., Bukharayev A.A. // Tech. Phys. 2001. V. 46. P. 1014.
Supplementary files