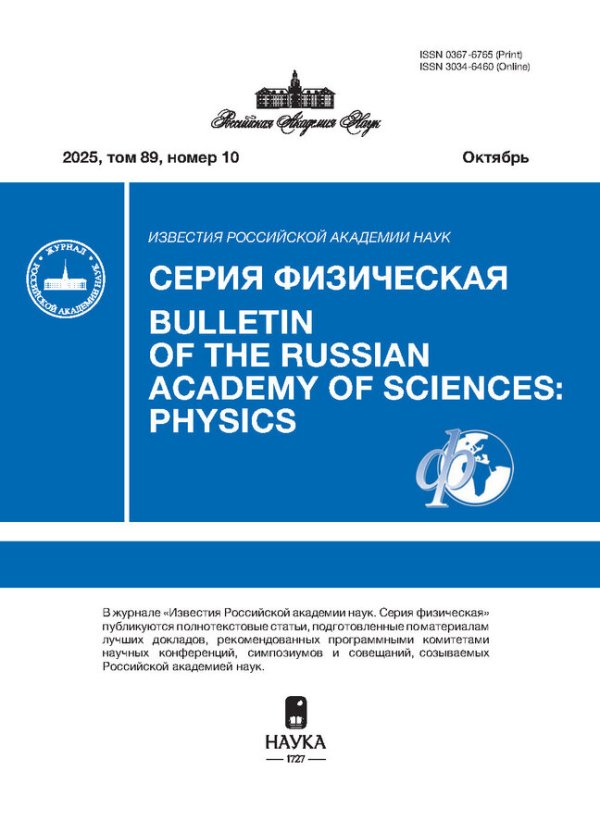Relaxation of multiple-quantum coherences in dipolar coupled 1H spin pairs in gypsum
- Authors: Fel’dman Е.B.1, Kuznetsova E.I.1, Fedorova A.V.1, Panicheva K.V.1,2, Vasil’ev S.G.1, Zenchuk A.I.1
-
Affiliations:
- Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry of Russian Academy of Sciences
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 88, No 7 (2024)
- Pages: 1089-1098
- Section: Spin physics, spin chemistry and spin technologies
- URL: https://journal-vniispk.ru/0367-6765/article/view/279539
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524070147
- EDN: https://elibrary.ru/PAVTXY
- ID: 279539
Cite item
Full Text
Abstract
The evolution and relaxation of MQ NMR coherences on the preparation period were investigated experimentally on a single crystal of gypsum, CaSO4·2H2O. The theory describing the dynamics of MQ coherences on the preparation period of MQ experiment for a pair of spins was developed based on the Lindblad master equation. This theory predicts the appearance of MQ coherences of only zeroth and second orders, oscillatory exchange of their intensities and exponential decay with increasing of the preparation time. The proposed theory describes the experimental data well. It is shown that the frequency of oscillations depends on the orientation of the crystal in the external magnetic field and determined by the dipolar coupling between protons of the water molecules contained in the gypsum crystal. The relaxation time of MQ coherences of zeroth and second orders, Tr= 150±15 μs, were independent of the crystal orientation, which suggest a common source of relaxation due to the dipole-dipole interactions with protons surrounding water molecule.
Full Text
Введение
Многоквантовые (МК) когерентности ЯМР [1] служат моделью для многих концепций в вопросах, связанных с квантовой информацией. Они послужили моделью большого кубитного регистра [2], использовались для исследования многокубитной передачи квантового состояния [3], многочастичной запутанности [4], распространения квантовой информации [5, 6] и т. д. Благодаря широким возможностям в исследовании многочастичной динамики схемы МК-экспериментов вышли за рамки методов ЯМР и были реализованы для систем с захватом ионов [7]. Спектроскопия МК ЯМР наблюдает за поведением многоспиновых/многоквантовых когерентных состояний. Эти состояния возникают в результате совместного действия внутренних взаимодействий (диполь-дипольных взаимодействий, ДДВ) и специально организованной последовательности радиочастотных импульсов [1].
Многоквантовый ЯМР-эксперимент, использованный в настоящем исследовании [1], состоит из 4 этапов: подготовительный период, во время которого появляются МК-когерентности, поляризация распределяется среди увеличивающегося количества наблюдаемых когерентностей, а число спинов, вносящих вклад в любую данную когерентность, растет с увеличением времени τ; период свободной эволюции, при котором когерентности развиваются под действием внутренних взаимодействий; период смешивания, на котором ненаблюдаемые МК-когерентности преобразуются в наблюдаемые одноквантовые когерентности путем применения последовательности импульсов, идентичной периоду подготовки, но со сдвигом фазы всех импульсов на π/2 для обращения знака гамильтониана; и, наконец, период детектирования, состоящий обычно из π/2 импульса, позволяющего наблюдать намагниченность. МК-когерентности измеряются косвенно путем многократного повторения всего эксперимента с приращением фаз импульсов подготовительного периода на фиксированное значение в диапазоне от 0 до 2π, которое выбирается в соответствии с максимальным порядком когерентности, который необходимо пронаблюдать, [1]. Фурье-преобразование сигнала с использованием фазы импульсов на подготовительном периоде в качестве аргумента дает желаемые МК-спектры — зависимости интенсивностей МК-когерентностей от их порядка. Известно, что система ядерных спинов в твердых телах хорошо изолирована от взаимодействий с окружающей средой. Поэтому ожидается, что поляризация, полученная на периоде детектирования, будет сохраняться при увеличении длительности периода подготовки τ и будет наблюдаться только перераспределение интенсивностей между доступными для рассматриваемой спиновой системы порядками когерентностей с увеличением времени. Экспериментальные исследования показали, что амплитуды сигнала уменьшаются с увеличением τ, а максимально достижимый порядок когерентности конечен [1]. Вскоре стало ясно, что данный эффект не может быть объяснен исключительно накоплением экспериментальных ошибок и поправками высокого порядка к среднему гамильтониану, используемому для возбуждения МК-когерентностей, поскольку результаты зависели от исследуемой системы при использовании идентичных экспериментальных параметров [8].
Обсуждение этого важного релаксационного эффекта в литературе в значительной степени упущено. Общепринятые процедуры включают некоторую эмпирическую нормализацию экспериментальных данных МК ЯМР [9—11] для компенсации этого эффекта. Чтобы ответить на вопрос о релаксации МК-когерентностей на подготовительном периоде МК-эксперимента ЯМР, мы экспериментально исследовали относительно простую систему — спиновые пары в монокристаллах гипса (CaSO4·2H2O). Полученные результаты были сопоставлены с теорией, разработанной в данном исследовании. Теоретический подход основан на уравнении Линдблада, которое обычно используется в теории открытых квантовых систем [12, 13]. В связи с растущим в настоящее время интересом исследователей в области магнитного резонанса к системам, приготовленным в экзотических состояниях, далёких от равновесия или обладающих большим упорядочением спинов, подходы, основанные на уравнении Линдблада, внедряются для усовершенствования существующей теории [14—16]. На практике взаимодействие некоторой рассматриваемой системы с окружающей средой неизбежно. Цель разработанной теории состоит в том, чтобы включить влияние окружающей среды на исследуемую систему без непосредственного рассмотрения всей системы в целом. Стохастические взаимодействия с окружающей средой на временных масштабах, соответствующих ЯМР, могут быть хорошо описаны как марковский процесс [15]. Уравнение Линдблада имеет фундаментальное значение в данном случае, поскольку оно описывает квантовую динамику наиболее общим образом [13]. Понимание диссипации когерентных состояний имеет большое значение при разработке различных квантовых технологий, в том числе основанных на магнитном резонансе [17, 18], а также других физических явлениях [19, 20].
Экспериментальная установка и исследуемая система
Эксперименты были проведены на ЯМР-спектрометре Bruker Avance III, оснащенном сверхпроводящим магнитом массой 9.4 Тл. Частота резонанса на ядрах 1Н составляла 400.2 МГц. Использовался датчик ЯМР с соленоидальной катушкой диаметром 2.5 мм, расположенной перпендикулярно внешнему магнитному полю. Образец помещался внутрь цилиндрической стеклянной ампулы, оснащенной указателем, позволяющим контролировать положение образца при вращении вокруг оси катушки и считывать угол по шкале, жестко закрепленной на датчике, с шагом 5˚. Длительность π/2 импульсов во всех экспериментах составляла 1.2 мкс. Детектирование сигнала в одноквантовых и многоквантовых ЯМР экспериментах осуществлялось при помощи последовательности солид-эхо: два π/2 импульса, со сдвигом фазы π/2, которые разделены задержкой 5 мкс. Это позволило исключить искажения спектров, связанных с парализацией приемного тракта.
Базовый цикл подготовительного периода МК ЯМР экспериментов состоял из 4 пар π/2-импульсов (с длительностью tp), разделенных интервалами Δ и [1]. Фазы импульсов следовали схеме . Различные порядки когерентностей были разрешены при использовании 16-фазовых инкрементов на подготовительном периоде, что позволяло наблюдать МК-когерентности вплоть до 8-го порядка. Период смешивания повторял период подготовки с последовательностью фаз , вне зависимости от дополнительных фазовых приращений. Желаемое время возбуждения МК-когерентностей достигалось повторением основного цикла m раз, в результате чего полное время составляло . Длительность периода повторения выбиралась ≥3T1. Использовались интервалы Δ в диапазоне от 1 до 2.14 мкс, что соответствовало длительности базового цикла от 26.4 до 40.08 мкс.
В качестве образца для исследования был использован монокристалл гипса, CaSO4·2H2O. Это хорошо известный диамагнитный кристалл, в котором практически отсутствуют ЯМР-активные изотопы, кроме 1H [21]. Все протоны в структуре эквивалентны и принадлежат двум молекулам воды. Расстояние между протонами внутри одной молекулы воды намного меньше, чем расстояние между различными молекулами воды. Расстояние между протонами в молекуле воды составляет 1.54 Å [22]. Векторы, соединяющие протоны двух молекул воды в структуре, неколлинеарны. Расстояние до ближайших протонов окружающих молекул воды намного больше (~2.7 Å), в результате чего ДДВ внутри пары, принадлежащей одной молекуле воды, наиболее существенно. В общем случае спектр ЯМР содержит четыре пика [21]. При некоторых ориентациях пики могут вырождаться в один центральный пик или совпадать. Кристалл был закреплен внутри стеклянной ампулы. Ориентация осей кристалла относительно внешнего магнитного поля не выбиралась специальным образом. Однако мы выбрали ориентацию, которая позволяла наблюдать большие изменения расщепления между пиками при вращении образца внутри катушки. На рис. 1. показано расщепление между парами пиков в зависимости от угла. Расщепления для двух разных межпротонных векторов показаны разными символами и цветами. Сплошные линии соответствующего цвета представляют подгонку методом наименьших квадратов к ожидаемой угловой зависимости для диполь-дипольного взаимодействия [21]:
(1)
Амплитуда кривых для расщеплений на рис. 1, полученных путем подгонки данных к уравнению (1), составляет 44.8±0.5 кГц, что соответствует межпротонному расстоянию 1.59 Å. Это значение немного меньше структурных данных [22], что показывает, что при такой ориентации кристалла межпротонный вектор при вращении почти достигает направления, параллельного внешнему магнитному полю.
Рис. 1. Расщепления дублетов в 1Н ЯМР-спектрах гипса при вращении образца. Данные для двух молекул воды в структуре показаны разными цветами и символами. Положения, исследованные в МК экспериментах, отмечены вертикальными линиями.
Для последующих МК экспериментов ЯМР мы выбрали четыре различных положения. Эти положения были выбраны таким образом, чтобы компоненты дублетов были достаточно хорошо разрешены, и дипольное взаимодействие было значительным, по крайней мере, для одного из дублетов.
Позиции, обозначенные далее, как Pos1, Pos2, Pos3 и Pos4, соответствуют спектрам, показанным на рис. 2а, 2б, 2в и 2г соответственно. Расщепления приведены в табл. 1. Для Pos2 в МК-экспериментах был проанализирован только внешний дублет, который дает различимое диполь-дипольное расщепление.
Рис. 2. Спектры ЯМР 1Н гипса, полученные при различных положениях во внешнем магнитном поле.
Таблица 1. Расщепления дублетов в спектрах ЯМР 1H кристалла гипса для четырех различных ориентаций, исследованных в МК-экспериментах ЯМР
Внешний дублет Δv (кГц) | Внутренний дублет Δv (кГц) | |
Pos1 | 89.4 | 33.8 |
Pos2 | 68.5 | — |
Pos3 | 63.2 | 18 |
Pos4 | 77.1 | 40.7 |
МК ЯМР эксперименты проводились при комнатной температуре (295 К), за исключением Pos4, для которой измерения проводились при более низкой температуре (253 К). Времена спин-решеточной релаксации, измеренные в эксперименте инверсия — восстановление при комнатной температуре, были почти одинаковыми для разных положений и составляли 2.6±0.2 с. Время спин-решеточной релаксации, измеренное для Pos4 при 253 К, составило 20.0±0.3 с. Эти значения были использованы для выбора периода повторения в МК экспериментах.
Теория релаксации многоквантовых когерентностей для двух спинов, связанных диполь-дипольным взаимодействием
Мы рассматриваем систему, состоящую из двух спинов (s = 1/2), связанных дипольным взаимодействием, гамильтониан которой можно записать следующим образом [1, 23]:
, (2)
где D — константа ДДВ, а операторы , , — компонента α (α = x, y), повышающий и понижающий операторы углового момента спина i (i = 1,2). Такой гамильтониан описывает МК-динамику в МК-экспериментах ЯМР [1, 23]. Релаксация МК-когерентностей ЯМР может быть описана уравнением Линдблада [12, 13], которое записывается следующим образом
, (3)
где операторы Линдблада для двухспиновой системы выбраны следующим образом [24]:
, (4)
а γ характеризует скорость релаксации. Мы предполагаем, что изначально система находится в состоянии термодинамического равновесия [25]:
, (5)
где — проекция оператора углового момента спина на ось z, β — безразмерный параметр, обратно пропорциональный температуре, а Z — статистическая сумма. Теперь необходимо решить уравнение Линдблада (3) для матрицы плотности ρ(t) с начальным условием (5). Для получения решения уравнения (3) полезно воспользоваться квантовым уравнением Лиувилля [26]. Тогда уравнение Линдблада (3) можно переписать [27] следующим образом:
, (6)
где 16 элементов вектора связаны с элементами двухспиновой матрицы следующим образом:
, (7)
а M — это матрица 16 × 16 в пространстве Лиувилля. Элементы матрицы M определяются как
(8)
Оставшиеся элементы матрицы M равны нулю. Решение уравнения (6) записывается как
, (9)
где соответствует начальному состоянию (5). Чтобы исследовать релаксацию МК-когерентностей ЯМР, необходимо вернуться от вектора обратно к матрице плотности в гильбертовом пространстве, инвертируя формулу (7). Таким образом, мы получаем , (10)
где
, (11)
, (12)
, (13)
В двухспиновой системе возникают только МК когерентности нулевого и плюс/минус второго порядков. Интенсивности МК когерентностей нулевого, , и плюс/минус второго, , порядков равны [28]
, (14)
где определяется диагональной частью матрицы плотности уравнения (10), а определяются недиагональными элементами уравнения (10). Матрица определяется уравнением (10) с начальным состоянием . Матрицы и являются недиагональными частями матрицы плотности , в то время как является диагональной частью . Используя уравнения. (9)—(13) можно получить
, (15)
. (16)
Можно показать, что
. (17)
Уравнение (17) показывает, что сумма МК когерентностей ЯМР сохраняется при отсутствии релаксации (γ = 0). Уравнения (15)—(17) демонстрируют также экспоненциальный характер релаксации интенсивностей МК-когерентностей на подготовительном периоде МК-эксперимента ЯМР.
При высоких температурах (когда β << 1) зависимость интенсивностей МК-когерентностей от температуры, присутствующая в уравнениях (15, 16), исчезает:
, (18)
. (19)
Мы предполагаем в уравнениях (18), (19), что интенсивность МК-когерентности нулевого порядка равна 1, а интенсивности МК-когерентностей плюс/минус второго порядков равны 0 при t = 0.
МК-эксперименты ЯМР
Результат типичного МК-эксперимента ЯМР, полученный в настоящем исследовании, показан на рис. 3 для внешнего дублета Pos3. Показаны интенсивности только неотрицательных порядков когерентности в зависимости от времени подготовки, поскольку интенсивности когерентностей, отличающихся только знаками, совпадают [1]. Символы для разных порядков когерентности указаны в легенде. Линии, соединяющие точки, проведены для удобства восприятия. Интенсивности когерентностей нечетного порядка малы (менее 1% от общей интенсивности). Это показывает, что средний гамильтониан, создаваемый последовательностью импульсов, соответствует желаемому двухспиновому/двойному квантовому гамильтониану (2), который должен возбуждать когерентности только четного порядка с хорошей точностью.
Рис. 3. Интенсивности МК-когерентностей в зависимости от длительности подготовительного периода внешнего дублета Pos3.
Наибольшие амплитуды в МК спектрах наблюдаются для когерентностей 0-го и 2-го порядков. С увеличением времени подготовки (τ > 100 мкс) появляются когерентности более высоких порядков. Для изолированной двухспиновой системы возможно появление когерентностей только 0-го и 2-го порядков. Появление когерентностей более высокого порядка указывает на наличие взаимодействий с другими окружающими протонами.
Для когерентностей порядков 0 и 2 на рис. 2 наблюдается осциллирующий обмен интенсивностями. Частота этих колебаний не очевидна из-за конечной длительности интервала выборки в экспериментах относительно τ, которая определяется конечной длительностью базового цикла МК последовательности импульсов. Частота осцилляций определяется интенсивностью диполь-дипольного взаимодействия в соответствии с теоретическими формулами (18) и (19). В случае, когда осцилляции вызваны единственной константой ДДВ (внутри одной молекулы воды в случае гипса), их частота строго определяется этой константой, согласно выражению [21]:
, (20)
которое также определяет величину расщепления в одноквантовом спектре. Таким образом, экспериментальные данные, полученные для различных ориентаций, могут быть сведены к единой теоретической кривой путем введения безразмерной шкалы времени подготовительного периода Dt. Это было продемонстрировано в МК-экспериментах ЯМР, проведенных для различных ориентаций относительно внешнего магнитного поля линейных квазиодномерных спиновых цепочек во фторапатите [29]. МК-динамика во фторапатите определяется идентичными константами ДДВ с двумя ближайшими соседями, которые изменяются одинаково при изменении ориентации. Получаемый МК спектр состоит из когерентностей 0-го и 2-го порядков. Другая ситуация наблюдается для квазиодномерных зигзагообразных цепочек спинов гамбергита [30]. МК спектры состоят в основном из когерентностей 0-го и 2-го порядка, но колебательный характер зависимости интенсивности от длительности подготовительного периода определяется двумя константами дипольного взаимодействия с ближайшими соседями по цепочке, которые, как правило, не равны друг другу при произвольной ориентации. Два ближайших соседа в гамбергите расположены на одинаковом расстоянии, но векторы, соединяющие данный спин с двумя соседями, не совпадают по направлению. Картина осцилляций становится более сложной, поскольку определяется двумя разными углами, и простое описание с помощью одной теоретической кривой невозможно [31].
Вводя безразмерную временную шкалу для подготовительного периода в случае гипса, мы можем наглядно пронаблюдать, определяются ли осцилляции дипольными взаимодействиями внутри одной спиновой пары (одной молекулы воды) в гипсе. Поскольку дипольные расщепления различны для разных ориентаций, мы также эффективно видим зависимость с лучшим разрешением относительно τ. На рис. 4 показана описанная выше “универсальная” кривая, где ось времени была построена при использовании расщеплений, приведенных в табл. 1, для когерентности нулевого порядка. Амплитуды были нормированы на максимальное значение для каждой кривой, и экспериментальные точки для удобства соединены линиями. Разные символы и цвета соответствуют разным углам межпротонных векторов. Положения указаны в легенде. Стрелки и цифры над кривыми указывают приблизительные положения максимумов квадрата косинуса, ожидаемых согласно выражению (18).
Рис. 4. Интенсивности МК-когерентностей нулевого порядка в зависимости от безразмерного параметра Δvτ объединенные на общей шкале для различных ориентаций кристалла.
Подробное рассмотрение данных, представленных на рис. 4, показывает, что частота колебаний для разных ориентаций, по-видимому, совпадает в выбранных координатах. Это наблюдение справедливо также для Pos4, для которой МК эксперименты проводились при существенно меньшей температуре. Амплитуды кривых затухают с разной скоростью при разной ориентации вектора, соединяющего протоны в молекулах воды, в указанных координатах. Тем не менее полученные данные позволяют предположить, что величины ДДВ, определенные из одноквантовых спектров, являются хорошим начальным приближением для сравнения экспериментальных данных с теоретическими предсказаниями уравнений (18) и (19). Сравнение экспериментальных данных с теорией представлено на рис. 5 в исходных координатах (с неизмененными осями τ) на отдельных графиках для различных величин расщепления дублетов. Значения констант ДДВ для теоретических кривых были скорректированы в каждом случае, чтобы наилучшим образом описывать экспериментальные данные. Времена затухания Tr = 1/4γ, определенные в уравнениях (18) и (19), были подобраны таким образом, чтобы лучше описывать экспериментальные данные в каждом случае независимо друг от друга.
Экспериментальные данные для когерентностей четного порядка представлены на рис. 5 полными символами для когерентностей 0-го и 2-го порядков и пустыми символами для когерентностей более высоких порядков. В экспериментальных данных можно пронаблюдать вплоть до 6 максимумов функции косинус-квадрат для нулевого порядка и соответствующие минимумы для когерентности второго порядка. С увеличением времени подготовки интенсивности когерентностей нулевого и второго порядков уменьшаются, в то время как интенсивности когерентностей более высокого порядка постепенно растут и достигают суммарного значения около 10% для наибольших исследованных времен от начальной интенсивности, наблюдаемой при τ = 0. Появление когерентностей высоких порядков при больших τ указывает на нарушение изолированности спиновых пар. Затухание колебаний интенсивностей когерентностей 0-го и 2-го порядков сопровождается появлением когерентностей более высокого порядка. Осцилляции исчезают примерно при достижении интенсивности когерентности 4-го порядка 5% от общей интенсивности при данном времени τ. Затухание интенсивностей когерентностей 0-го и 2-го порядков происходит по экспоненциальному закону, предсказанному теорией. Это затухание продолжается с тем же характерным значением Tr даже после затухания осцилляций. Теоретические кривые, построенные в соответствии с уравнениями (18) и (19), показаны сплошными линиями на рис. 5 черным и красным цветом соответственно. Также черной сплошной линией показана экспоненциальная огибающая для когерентности нулевого порядка. Теоретические кривые хорошо описывают экспериментальные данные для различных ориентаций.
Рис. 5. Интенсивности МК когерентностей ЯМР 1H в кристалле гипса при различных ориентациях, соответствующих различным расщеплениям, Δv, в спектрах 1H: (а) 89.4 кГц (Pos1), (б) 33.8 кГц (Pos1), (в) 68.5 кГц (Pos2), (г) 63.2 кГц (Pos3), (д) 18 кГц (Pos3), (е) 77.1 кГц (Pos4), (ж) 40.7 кГц (Pos4). Теоретические кривые для 0-го и 2-го порядков показаны сплошными линиями. Экспоненциальная огибающая exp(–τ/Tr) показана черной сплошной линией для когерентности 0-го порядка.
Значения констант ДДВ, использованных для построения теоретических кривых, DMQ, времен релаксации Tr и констант ДДВ, определенных из одноквантовых спектров, DSQ, для всех исследованных ориентаций, представлены в таблице 2. Константы ДДВ, определенные в одно- и многоквантовых экспериментах, хорошо согласуются. Определенные времена релаксации для разных ориентаций почти одинаковы. Принимая во внимание погрешность порядка 10%, значение времени релаксации составляет Tr = 150±15 мкс. Можно отметить, что наблюдаемое число периодов осцилляций больше для дублетов с большим расщеплением. Таким образом, для кривых, показанных на рис. 5а, 5в, 5г и 5е, различимы 5—6 максимумов для 0-го порядка, в то время как для остальных только 2—3. Это означает, что при больших константах ДДВ спиновая пара эволюционирует как изолированная пара в течение более длительного периода в безразмерном масштабе времени Dτ. Большие константы ДДВ получаются, когда направление протон-протонного вектора близко к направлению внешнего магнитного поля. Следовательно, величина ДДВ с ближайшими окружающими протонами уменьшается, поскольку они расположены в других направлениях. Однако среднее дипольное поле, обусловленное протонами, окружающими пару, мало изменяется при разных ориентациях, что проявляется в одинаковой ширине отдельных компонентов дублетов при разных ориентациях, приводя к одинаковым временам релаксации Tr при разных ориентациях. Это также справедливо для МК-экспериментов для Pos4, которые проводились при более низкой температуре. Полученные результаты позволяют предположить, что релаксация на подготовительном периоде вызвана диполь-дипольным взаимодействиям с протонами, окружающими спиновую пару.
Таблица 2. Значения констант диполь-дипольного взаимодействия для различных ориентаций и расщеплений (Δv), полученных из одноквантовых спектров (DSQ), многоквантовых спектров (DMQ) и времен релаксации МК когерентностей 0-го и 2-го порядков (Tr).
Ориентация | Δv, кГц | DSQ, кГц | DMQ, кГц | Tr, мкс |
Pos1 | 89.4 | 27.8 | 29.8 | 145 |
Pos1 | 33.8 | 11.9 | 11.3 | 130 |
Pos2 | 68.5 | 21.7 | 22.8 | 160 |
Pos3 | 63.2 | 20 | 21.1 | 180 |
Pos3 | 18 | 5.6 | 6 | 160 |
Pos4 | 77.1 | 25 | 25.7 | 150 |
Pos4 | 40.7 | 12.5 | 13.6 | 145 |
Заключение
Таким образом, мы исследовали динамику МК-когерентностей ЯМР в зависимости от длительности подготовительного периода в двухспиновой системе. В качестве модельной спиновой системы для экспериментов мы использовали протоны молекул воды в кристалле гипса. Были исследованы две различные относительно хорошо изолированные спиновые пары в структуре гипса, в которых величина диполь-дипольного взаимодействия зависит от ориентации кристалла. Была разработана теория релаксации МК-когерентностей ЯМР на подготовительном периоде на основе уравнения Линдблада, которое описывает динамику в открытых квантовых системах. Эта теория предсказывает появление МК-когерентностей только нулевого и второго порядков, осциллирующий обмен их интенсивностями и экспоненциальный спад с увеличением длительности подготовительного периода. Задача разработанной теории состоит в том, чтобы включить воздействие окружения на наблюдаемую систему без явного рассмотрения всей системы в целом. Теория хорошо описывает наблюдаемые экспериментальные данные при малых временах подготовительного периода. На практике взаимодействие исследуемой системы (изолированной спиновой пары) с окружающей средой неизбежно. С увеличением времени подготовительного периода МК эксперимента интенсивности перераспределяются за пределы взаимодействующей спиновой пары. Появляются когерентности более высоких порядков, и суммарная интенсивность МК когерентностей уменьшается. Даже в этом случае разработанная теория хорошо описывает экспериментальные данные для МК когерентностей нулевого и второго порядков.
Исследование выполнено в рамках темы государственного задания № 124013000760-0. Эксперименты выполнены с использованием оборудования Научного центра в Черноголовке (Институт физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна Российской академии наук).
About the authors
Е. B. Fel’dman
Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry of Russian Academy of Sciences
Email: svasilev@icp.ac.ru
Russian Federation, Chernogolovka
E. I. Kuznetsova
Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry of Russian Academy of Sciences
Email: svasilev@icp.ac.ru
Russian Federation, Chernogolovka
A. V. Fedorova
Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry of Russian Academy of Sciences
Email: svasilev@icp.ac.ru
Russian Federation, Chernogolovka
K. V. Panicheva
Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry of Russian Academy of Sciences; Lomonosov Moscow State University
Email: svasilev@icp.ac.ru
Russian Federation, Chernogolovka; Moscow
S. G. Vasil’ev
Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: svasilev@icp.ac.ru
Russian Federation, Chernogolovka
A. I. Zenchuk
Federal Research Center of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry of Russian Academy of Sciences
Email: svasilev@icp.ac.ru
Russian Federation, Chernogolovka
References
- Baum J., Munowitz M., Garroway A.N., Pines A. // J. Chem. Phys. 1985. V. 83. No. 5. P. 2015.
- Lovric M., Krojanski H.G., Suter D. // Phys. Rev. A. 2007. V. 75. Art. No. 42305.
- Fel’dman E.B., Pechen A.N., Zenchuk A.I. // Phys. Lett. A. 2007. V. 413. Art. No. 127605.
- Doronin S.I., Fel’dman E.B., Lazarev I.D. // Phys. Rev. A. 2019. V. 100. Art. No. 022330.
- Domínguez F.D., Álvarez G.A. // Phys. Rev. A. 2021. V. 104. Art. No. 062406.
- Зобов В.Е., Лундин А.А. // ЖЭТФ. 2022. Т. 162. № 5. C. 778; Zobov V.E., Lundin A.A. // JETP. 2022. V. 135. P. 752.
- Gärttner M., Bohnet J., Safavi-Naini A. et al. // Nature Phys. 2017. V. 13. P. 781.
- Gleason K.K. // Concepts Magn. Reson. 1993. V. 5. P. 199.
- Vasil’ev S.G., Volkov V.I., Tatarinova E.A. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 2018. V. 489. P. 6.
- Krojanski H.G., Suter D. // Phys. Rev. A. 2006. V. 74. Art. No. 062319.
- Saalwächter K., Ziegler P., Spyckerelle O. et al. // J. Chem. Phys. 2003. V. 119. P. 346.
- Preskill J. Lecture note for physics 229: Quantum information and computation. Pasadena: California Institute of Technology, 1998. 321 p.
- Manzano D. // AIP Advances. 2020. V. 10. Art. No. 025106.
- Bengs C., Levitt M.H. // J. Magn. Reson. 2020. V. 310. Art. No. 106645.
- Bengs C. // J. Magn. Reson. 2021. V. 322. Art. No. 106868.
- Rodin B.A., Abergel D. // Magn. Reson. 2022. V. 3. P. 27.
- Низовцев А.П., Килин С.Я. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. T. 84. № 3. C. 310; Nizovtsev A.P., Kilin S.Y. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. P. 235.
- Леонтьев А.В., Жарков Д.К., Шмелев А.Г. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. T. 86. № 12. С. 1724; Leontyev A.V., Zharkov D.K., Shmelev A.G. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. P. 1467.
- Андрианов С.Н., Калачев А.А., Шиндяев О.П., Шкаликов А.В. // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. T. 84. № 3. С. 392; Andrianov S.N., Kalachev A.A., Shindyaev O.P., Shkalikov A.V. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2020. V. 84. P. 299.
- Харламова Ю.А., Арсланов Н.М., Моисеев С.А. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. T. 86. № 12. С. 1770; Kharlamova Y.A., Arslanov N.M., Moiseev S.A. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. P. 1507.
- Pake G.E. // J. Chem. Phys. 1948. V. 16. P. 327.
- McKnett C.L., Dybowski C.R., Vaughan R.W. // J. Chem. Phys. 1975. V. 63. P. 4578.
- Doronin S.I., Maksimov I.I., Fel’dman E.B. // J. Exp. Theor. Phys. 2000. V. 91. P. 597.
- Casagrande H.P. The density matrix renormalization group applied to open quantum systems. Dissertation for degree of Master of Science. São Paulo: The Physics Institute of the University São Paulo, 2019. 72 p.
- Goldman M. Spin temperature and nuclear magnetic resonance in solids. Oxford: Clarendon Press, 1970. 258 p.
- Fano U. // Rev. Mod. Phys. 1957. V. 29. P. 74.
- Nielsen M., Chuang I. Quantum computation and quantum information. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 676 p.
- Fel’dman E.B., Pyrkov A.N. // JETP Lett. 2008. V. 88. P. 398.
- Bochkin G.A., Fel’dman E.B., Lazarev I.D. et al.// J. Magn. Reson. 2019. V. 301. P. 10.
- Bochkin G.A., Fel’dman E.B., Kuznetsova E.I. et al. // J. Magn. Reson. 2020. V. 319. Art. No. 106816.
- Bochkin G.A., Fel’dman E.B., Kiryukhin D.P. et al. // J. Magn. Reson. 2023. V. 350. P. 107415.
Supplementary files