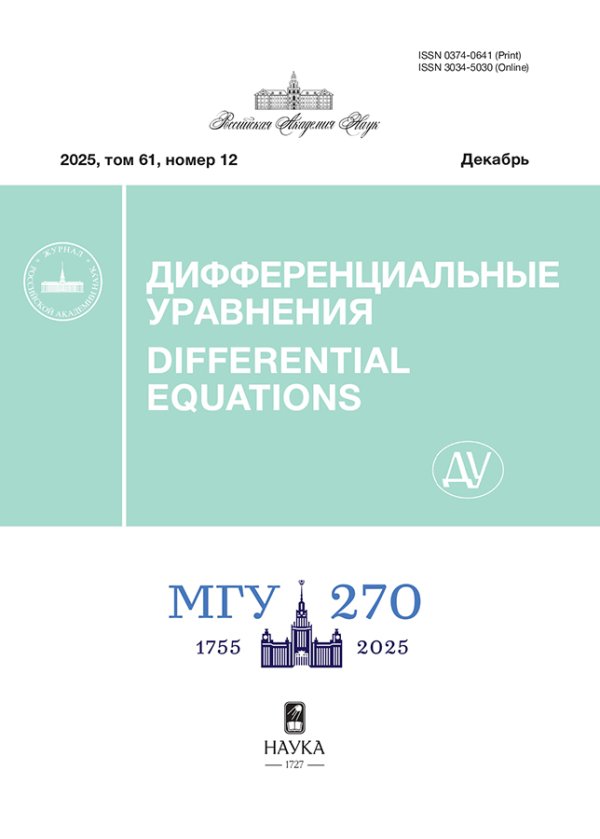Solvability of initial-boundary value problem for the modified Kelvin–Voigt model with memory along trajectories of fluid motion
- Authors: Turbin M.V.1, Ustiuzhaninova A.S.1
-
Affiliations:
- Voronezh State University
- Issue: Vol 60, No 2 (2024)
- Pages: 187-210
- Section: PARTIAL DERIVATIVE EQUATIONS
- URL: https://journal-vniispk.ru/0374-0641/article/view/258399
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0374064124020046
- EDN: https://elibrary.ru/QMTGVM
- ID: 258399
Cite item
Full Text
Abstract
The work is devoted to proving the solvability in the weak sense of the initial-boundary value problem for the modified Kelvin–Voigt model taking into account memory along the trajectories of fluid particles motion. For this, an approximation problem is considered for which solvability is established based on the Leray–Schauder fixed point theorem. Then, based on a priori estimates, it is shown that from a sequence of solutions to the approximation problem, one can extract a subsequence that weakly converges to the solution of the original problem as the approximation parameter tends to zero.
Full Text
1. Введение. Постановка задачи
С середины XX века известно достаточно большое число моделей неньютоновой гидродинамики, описывающих движение различных полимерных растворов и расплавов, эмульсий и суспензий одной ньютоновской жидкости в другой, жидкостей с полимерными добавками и др. Подобные модели активно изучаются в связи с наличием большого числа приложений в медицине, в химической и фармацевтической промышленности и во многих других областях.
Одной из хорошо известных моделей неньютоновской жидкости является модель движения жидкости Кельвина–Фойгта. Реологическое соотношение для этой модели имеет вид
(1)
Здесь — девиатор тензора напряжений, — тензор скоростей деформаций, — вязкость жидкости, — время запаздывания, а — субстанциональная производная по времени. Соотношение (1) предложено в статье [1] и было подтверждено экспериментальными исследованиями растворов полиэтиленоксида, полиакриламида [2] и гуаровой смолы [3].
Подставляя реологическое соотношение (1) в систему уравнений движения жидкости в форме Коши и пренебрегая членами, содержащими произведения производных в силу принципа малости относительных скоростей деформаций при течении жидкости, в [1] была получена система уравнений
(2)
Исследование разрешимости начально-краевой задачи для системы уравнений (2) было начато в работах А.П. Осколкова [4, 5]. Однако в статье [6] им было замечено, что доказательства в упомянутых работах содержат ошибки, и вопрос разрешимости начально-краевой задачи с условием прилипания на границе оставался открытым. Об этом также писала О.А. Ладыженская [7]. Доказательство существования слабого решения начально-краевой задачи для системы (2) было получено в [8]. В работах [8–12] для системы (2) исследованы задачи оптимального управления и вопросы предельного поведения решений.
На основе моделей жидкостей Максвелла, Кельвина–Фойгта и Олдройта была создана общая феноменологическая теория линейных вязкоупругих жидкостей с конечным числом дискретно распределённых времён релаксации и времён запаздывания [13]. В основе этой теории лежит предположение — принцип суперпозиции Л. Больцмана — о том, что все воздействия на среду независимы и аддитивны, а реакции среды на внешние воздействия линейны. Реологическое соотношение для модели Кельвина–Фойгта порядка , , имеет вид
(3)
где , , — времена релаксации, а , , — времена ретардации. Используя преобразование Лапласа (см., например, [14]) и пренебрегая в силу принципа малости относительных скоростей и деформаций членами, содержащими произведения производных по пространственным переменным, получаем следующую систему уравнений, описывающую движение несжимаемой жидкости Кельвина–Фойгта с памятью:
(4)
(5)
Здесь — выпуклая область с гладкой границей; — вектор скорости частицы жидкости; — давление жидкости; — вектор плотности внешних сил; , — вязкость жидкости и время ретардации соответственно; , , , — некоторые константы. Исходя из физического смысла предполагается, что константы , , различны, вещественны и отрицательны. Требование вещественности и отрицательности обусловлено физическим смыслом задачи, требование различности продиктовано упрощением вычислений. Функция — траектория движения жидкости, соответствующая полю скоростей .
Для системы (4), (5) рассмотрим начально-краевую задачу с начальным и граничным условиями
(6)
2. Обозначения и необходимые утверждения
Для того чтобы ввести понятие слабого решения, нам потребуются определения некоторых пространств. Обозначим через пространство функций на со значениями в пространстве класса с компактным носителем, содержащимся в . Пусть . Определим и как пополнение по нормам и соответственно. Пусть .
Рассмотрим в пространстве оператор , где — проектор Лере. Оператор продолжается в пространстве до замкнутого оператора, который является самосопряжённым положительным оператором с вполне непрерывным обратным. Область определения совпадает с . В силу теоремы Гильберта о спектральном разложении вполне непрерывных операторов собственные функции оператора образуют ортонормированный базис в . Отметим, что если граница области принадлежит классу , то собственные функции оператора будут бесконечно дифференцируемыми.
Пусть — собственные значения оператора . Обозначим через множество конечных линейных комбинаций, составленных из , и определим пространство , , как пополнение по норме . В книге [14] показано, что такие нормы в пространствах , , эквивалентны нормам .
Символ “” обозначает покомпонентное произведение матриц.
Также введём пространства
с нормами , .
Будем использовать следующую теорему Лере–Шаудера.
Теорема 1. Пусть — открытое ограниченное подмножество банахового пространства ,, и пусть , , — однопараметрическое семейство отображений, удовлетворяющих следующим условиям:
- отображение компактно по совокупности переменных;
- для всех и , т.е. отображение не имеет неподвижных точек на границе ;
Тогда отображение имеет неподвижную точку, т.е. существует точка такая, что
В дальнейшем нам потребуется теорема Обена–Дубинского–Симона.
Теорема 2. [15] Пусть — банаховы пространства, причём вложение вполне непрерывно, а вложение непрерывно. Пусть , . Будем предполагать, что для любого его обобщённая производная в пространстве принадлежит , . Далее пусть множество ограничено в , а множество ограничено в
Тогда при множество относительно компактно в а при и множество относительно компактно в
Нам потребуется одна абстрактная теорема о разрешимости уравнений с вольтерровыми операторами. Чтобы её сформулировать, необходимо дать следующее определение (мы даём его в частном случае, более подробно см. [16]).
Определение 1. Пусть — линейные пространства. Отображение называется оператором Вольтерры, если из равенства для почти всех , следует, что для почти всех
Для таких операторов имеет место
Теорема 3. Пусть — вещественное банахово пространство. Пусть оператор Вольтерры удовлетворяет условию Липшица:
(7)
Тогда при любых , существует точно одно решение , задачи
Определяемое тем самым соответствие непрерывно как отображение из в
Также нам потребуется неравенство Гронуолла–Беллмана (см., например, [17]).
Теорема 4. Пусть , — непрерывные неотрицательные на отрезке функции и пусть . Если удовлетворяет интегральному неравенству
то для .
3. Необходимые сведения о существовании траекторий
Приведём необходимые нам утверждения о разрешимости задачи (5). Следуя работе [18], начнём с гладкого случая. Пусть . Решение (5) определяется как функция , такая что и удовлетворяет (5). Обозначим через множество непрерывных функций, обращающихся в нуль на границе .
Лемма 1. Пусть и . Тогда задача (5) имеет единственное решение . Более того, , непрерывны по переменным , .
Лемма 2. Пусть , , , и , , — решения задачи (5). Тогда имеют место следующие оценки:
(8)
Здесь — константа, не зависящая от , и , .
Для суммируемой функции требуется более общая концепция решения задачи (5).
Определение 2. Функция называется регулярным лагранжевым потоком, соответствующим , если выполнены следующие условия:
- для почти всех и любых функция абсолютно непрерывна и удовлетворяет уравнению (5);
- для любых и произвольного измеримого по Лебегу множества с мерой Лебега справедливо равенство ;
- для любых и почти всех имеет место равенство .
Отметим, что для гладкого векторного поля регулярный лагранжев поток совпадает с классическим решением задачи Коши (5).
Теорема 5. Пусть , , и . Тогда существует единственный регулярный лагранжев поток , соответствующий .
Пусть — матрица Якоби вектор-функции .
Теорема 6. Пусть , для некоторого . Пусть и пусть выполняются неравенства
Пусть сходится к функции в при . Пусть и — регулярные лагранжевы потоки, соответствующие и . Тогда последовательность сходится к по мере Лебега в равномерно по .
В более общем виде эти результаты можно найти в работах [19, 20].
Приведём также лемму, которая понадобится нам для предельного перехода.
Лемма 3. Пусть последовательность равномерно ограничена по норме пространства , т.е. и сходится слабо в к некоторой функции при . Тогда
(9)
слабо в при . Здесь и — регулярные лагранжевы потоки, соответствующие и соответственно.
Доказательство. Покажем, что последовательность ограничена в пространстве . С учётом неравенства Гёльдера имеем
В последнем интеграле сделаем замену переменной и получим
Следовательно, существует такая, что сходится слабо к в при . Но в смысле распределений эта последовательность сходится к . На самом деле, для любой функции , , сделав замену переменной и поменяв порядок интегрирования, имеем
где .
По теореме 6 последовательность сходится к по мере Лебега в равномерно на промежутке . В силу гладкости функция сходится к функции почти всюду на при . По теореме Лебега о предельном переходе под знаком интеграла равномерно ограниченная последовательность сходится почти всюду на к ограниченной функции
В результате получаем
при . Здесь первый сомножитель сходится слабо в , а второй сомножитель сходится почти всюду на . В полученном интеграле меняем порядок интегрирования и делаем замену :
В силу единственности предела . Лемма доказана.
4. Определение слабого решения и формулировка основного результата
Будем предполагать, что ,
Определение 3. Функция называется слабым решением начально-краевой задачи (4)–(6) если удовлетворяет для любой пробной функции при почти всех тождеству
(10)
и начальному условию
Здесь — регулярный лагранжев поток, порождённый Заметим, что по теореме 5 регулярный лагранжев поток существует для любой функции .
Основным результатом работы является следующая
Теорема 7. Существует хотя бы одно слабое решение начально-краевой задачи (4)–(6).
Для доказательства этой теоремы рассматривается задача, аппроксимирующая исходную, и доказывается её разрешимость. После на основе априорных оценок решений, не зависящих от параметра аппроксимации, показывается, что из последовательности решений аппроксимационной задачи можно извлечь подпоследовательность, слабо сходящуюся к решению исходной задачи при стремлении параметра аппроксимации к нулю.
5. Аппроксимационная задача
Пусть . Рассмотрим следующую аппроксимационную задачу:
(11)
(12)
(13)
Будем предполагать, что ,
Определение 4. Функция называется решением аппроксимационной задачи (11)–(13), если удовлетворяет для любой функции при почти всех тождеству
и начальному условию
Здесь — решение задачи (12). Отметим, что в силу вложения задача (12) имеет единственное классическое решение.
Имеет место следующая
Теорема 8. Существует хотя бы одно решение аппроксимационной задачи (11)–(13).
Доказательство этой теоремы (опираясь на теорему ) приводится в п. 6.
6. Доказательство теоремы
Доказательство теоремы приведём в несколько этапов.
Этап 1. Пусть — фиксированная функция из , (здесь — константа, точное значение которой будет указано ниже). В силу непрерывного вложения получаем, что , причём обращается в нуль на . Тогда по лемме 1 существует единственное решение задачи Коши
(14)
Этап 2. На этом этапе для исходной функции и найденной по ней функции доказывается существование функции удовлетворяющей для любой пробной функции при почти всех тождеству
(15)
и начальному условию
(16)
Для доказательства существования единственного решения этой задачи воспользуемся теоремой . Для этого сначала введём операторы при помощи следующих равенств:
Также для фиксированной функции и найденной на первом этапе функции введём операторы при помощи равенств
Тогда задача о поиске функции удовлетворяющей для любой пробной функции при почти всех тождеству (15) и начальному условию (16), эквивалентна задаче о поиске функции являющейся решением операторного уравнения
(17)
и удовлетворяющей начальному условию (16).
Для того чтобы воспользоваться теоремой 3, нужно установить некоторые свойства операторов. Отметим, что мы установим только те свойства, которые нам необходимы.
Лемма 4. Справедливы следующие свойства.
1. Для функции значение оператор непрерывен и имеет место оценка
(18)
2. Оператор непрерывен и обратим. Для любой функции значение оператор непрерывен и имеет место оценка
(19)
3. Для значение оператор непрерывен, обратим и имеет место оценка
(20)
Обратный оператор непрерывен и для него справедливо неравенство
(21)
4. Пусть функция фиксирована, . Для любой функции значение отображение непрерывно и для него имеет место оценка
(22)
5. Пусть функция фиксирована, . Для любой функции значение отображение непрерывно и для него имеет место оценка
(23)
Доказательства свойств 1 и 2 леммы представлены в статье [8], доказательство свойства 3 содержится в [14]. Свойства операторов , являются частными случаями для аналогичных операторов из работы [8].
Лемма 5. Пусть функция фиксирована и — найденное по решение задачи (14). Отображение непрерывно и для него имеет место неравенство
(24)
Доказательство. По определению для любой функции при почти всех и для любой имеем
В первом интеграле в правой части этого соотношения сделаем замену переменной (обратная замена ). Так как то Поэтому
Следовательно, пользуясь тем, что , имеем
Отсюда при почти всех получим неравенство Возводя его в квадрат и интегрируя по получаем (24) с константой из которой в силу линейности следует непрерывность оператора . Лемма доказана.
Теорема 9. Пусть функция фиксирована, . Для любых функций , при каждом существует единственное решение задачи (15), (16).
Доказательство. Как уже было отмечено ранее, разрешимость задачи (15), (16) эквивалентна существованию решения операторного уравнения (17), удовлетворяющего начальному условию (16). В силу леммы 4 оператор обратим и обратный к нему оператор непрерывен. Применив оператор к операторному уравнению (17), получим эквивалентное операторное уравнение
(25)
Отметим, что при операторное уравнение (25) и начальное условие (16) имеют вид
Таким образом, при задача (15), (16) имеет только нулевое решение.
Пусть теперь . Докажем существование решения операторного уравнения (25), удовлетворяющего начальному условию (16). Для этого воспользуемся теоремой 3. Проверим выполнение её условий. Очевидно, что оператор :
является оператором Вольтерры (см. определение ). Проверим выполнение условия (7). В силу линейности покажем, что для любой имеет место неравенство
Для любой функции в силу определения оператора а также неравенств (18), (21)–(24), имеем
Следовательно, по теореме 3 существует единственное решение задачи (15), (16). Теорема доказана.
Этап 3. Таким образом, построено семейство отображений , которое числу и функции ставит в соответствие функцию . Установим теперь непрерывность отображения , где — шар в радиуса с центром в нуле. Имеет место следующая
Лемма 6. Отображение непрерывно.
Доказательство. Пусть — последовательность функций, которая сходится в к функции при . Пусть — последовательность чисел из которая сходится к при . Обозначим Покажем, что сходится в пространстве к функции при .
По построению функция является решением задачи
(26)
(27)
(28)
Соответственно является решением задачи
(29)
(30)
(31)
Вычитая (29) из (26) и преобразуя стандартным образом слагаемые, получаем
(32)
Применим последнее равенство к функции . Преобразовав первые два слагаемых при помощи формулы Грина, будем иметь
(33)
Здесь мы воспользовались равенством (см. [8]).
Перенесём в правую часть оставшиеся слагаемые и оценим её сверху при помощи неравенств Гёльдера и Коши. Для первого слагаемого в силу определения оператора имеем
Для следующего слагаемого в силу определения отображения получим
Аналогично для следующего слагаемого в силу имеем
Для следующего слагаемого в силу определения запишем
Аналогично для второго и третьего слагаемых, содержащих получим
Для следующего слагаемого аналогично доказательству неравенства (24), применяя неравенство Гёльдера, делая замену переменной в первом из полученных сомножителей и пользуясь тем, что , получаем
Аналогично для следующего слагаемого в силу неравенства
Для следующей разности аналогично предыдущему, пользуясь теоремой о среднем (см., например, [21, с. 176]) и неравенством (8), будем иметь
Здесь мы для упрощения изложения воспользовались неравенством
Наконец, для последнего слагаемого имеем
Таким образом, из (33) следует неравенство
Умножим последнее неравенство на два и проинтегрируем по переменной от 0 до , При этом оценим часть слагаемых в правой части, воспользовавшись тем, что в силу теоремы 3 решения задач (26)–(28) и (29)–(31) непрерывно зависят от правой части и начального условия и, следовательно, ограничены. Получим
В силу неотрицательности слагаемых в левой части при всех
Отсюда в силу неравенства Гронуолла–Беллмана (теорема ) при всех имеем
(34)
Правая часть (34) не зависит от , поэтому можно перейти к максимуму по Тогда в силу элементарного неравенства которое имеет место для любых неотрицательных , , непосредственно получаем, что
(35)
Далее из (32), оставляя в левой части только первое слагаемое и пользуясь тем, что норма суммы не превосходит суммы норм, имеем
(36)
Оценим правую часть (36). Для первых двух слагаемых в силу (18) имеет место соотношение
Для следующего слагаемого в силу оценки (22) получим
Для следующего слагаемого, аналогично доказательству неравенства (22), имеем
Для последнего слагаемого с в силу (22) получаем
Аналогично для следующих трёх слагаемых с в силу неравенства (23) запишем
Для следующих двух слагаемых в силу (24) получим
Для предпоследнего слагаемого, аналогично оценке подобного слагаемого выше, имеем
В силу неравенства (20) левую часть (36) можно оценить следующим образом:
Таким образом, из (36) получаем неравенство
Из этого неравенства в силу непрерывности вложений и и оценки (35) заключаем, что
(37)
Поскольку , то
Из последнего соотношения и из (37) имеем
Отсюда следует, что сходится к по норме при . Лемма доказана.
Построенное отображение не только непрерывно, но и компактно как отображение со значениями в некотором подходящем пространстве. А именно, справедлива следующая
Лемма 7. Отображение компактно.
Доказательство. В силу леммы 6 отображение непрерывно. Так как вложение компактно, то по теореме 2 вложение компактно. Таким образом, компактно как суперпозиция непрерывного и компактного отображений. Лемма доказана.
Этап 4. Докажем теперь, что отображение не имеет неподвижных точек на границе шара . Для этого покажем сначала, что все неподвижные точки этого отображения удовлетворяют подходящей априорной оценке. Имеет место следующая
Теорема 10. Если — неподвижная точка отображения т.е. для некоторого то для него имеют место следующие оценки:
(38)
(39)
(40)
(41)
где
Доказательство. Прежде всего отметим, что, несмотря на то что по условиям теоремы по построению отображения функция принадлежит пространству и поэтому указанные оценки имеют для неё смысл.
Сначала получим стандартную энергетическую оценку. Так как — неподвижная точка отображения , то является решением задачи
(42)
(43)
Применим (42) к функции :
(44)
В силу свойств операторов и (см. [8]) имеем
В силу определения и формулы Грина аналогично предыдущему получаем
Для следующего слагаемого будем иметь
Последнее слагаемое в левой части в силу неравенства Гёльдера оценим сверху:
Сделаем замену в первом сомножителе и получим
Оценим правую часть:
Таким образом, получаем неравенство
Интегрируя его по от 0 до и оценивая в полученном неравенстве левую часть снизу, а правую сверху, имеем
Таким образом, имеет место неравенство , из которого в силу неравенства Гронуолла–Беллмана при всех получаем
(45)
Переходя к максимуму по в левой части (45), получаем (38).
Оценим производную по времени. Так как — неподвижная точка отображения , то удовлетворяет (42). Отметим, что операторы в (42) не являются линейными. Но для наших целей потребуются только следующие оценки сверху:
Здесь константы и не зависят от . Доказательство этих неравенств идейно не отличается от получения подобных оценок в лемме 4 и приведено в [8].
Из (42) в силу приведённых неравенств, оценок (24), (38) и элементарного неравенства получаем
В силу левой части неравенства (20) имеем Из двух последних неравенств и следует требуемое неравенство (39).
Аналогично предыдущему из (42) имеем
В силу неравенства (19) справедлива оценка Из двух последних неравенств следует (40).
Для доказательства неравенства (41) заметим, что при всех имеет место равенство . Тогда получаем, что
а отсюда, в силу (39), следует (41). Теорема доказана.
Из доказанной теоремы непосредственно заключаем, что если — неподвижная точка отображения то
Так как вложение непрерывно, то Следовательно, если — неподвижная точка отображения , то
Тогда, положив получим, что отображение не имеет неподвижных точек на границе шара .
Этап 5. Поскольку и то выполнено и последнее условие теоремы 1. Следовательно, отображение имеет хотя бы одну неподвижную точку, т.е. существует хотя бы одно решение аппроксимационной задачи (11)–(13). Теорема 8 доказана.
7. Предельный переход
Перейдём к пределу при в аппроксимационной задаче (11)–(13). Поскольку пространство плотно в то для каждого существует последовательность сходящаяся к по норме . Если , то положим , . Если же то, начиная с некоторого номера, и положим Таким образом, последовательность сходится к нулю при и имеет место неравенство
(46)
В силу теоремы 8 для каждых и существует — решение аппроксимационной задачи (11)–(13). Следовательно, каждое удовлетворяет для всех при почти всех равенству
(47)
где — решение задачи , удовлетворяющее начальному условию
(48)
В силу оценок (38)–(40) и неравенства (46) удовлетворяет оценкам
(49)
(50)
(51)
В силу непрерывности вложения и неравенства (49) без ограничения общности (в случае необходимости переходя к подпоследовательности) получим, что
Аналогично в силу неравенства (51) без ограничения общности (в случае необходимости переходя к подпоследовательности) имеем, что
(52)
Тогда при в силу определения слабой сходимости
По теореме 2 имеет место компактное вложение Следовательно, как и ранее, без ограничения общности последовательность сходится сильно в пространстве к той же самой функции . Тогда для любой
Далее, в силу компактности вложения , имеет место следующая сильная сходимость: в . Отсюда в силу слабой сходимости в пространстве получим
В силу (50), как и выше, без ограничения общности (в случае необходимости переходя к подпоследовательности) заключаем, что существует функция такая, что слабо в при . Следовательно,
Однако последовательность сходится к нулю в смысле распределений на отрезке со значениями в . На самом деле для любых , используя формулу Грина и слабую сходимость (52), получаем
В силу единственности слабого предела при .
Наконец, в силу леммы 3 при имеет место слабая сходимость
Таким образом, переходя в равенстве (47) к пределу при , получаем, что предельная функция удовлетворяет тождеству (10).
В силу сильной сходимости в получаем, что сходится к поточечно на отрезке Отсюда, переходя в (48) к пределу при в силу выбора получаем, что предельная функция удовлетворяет начальному условию . Теорема 7 доказана.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 23-21-00091).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
M. V. Turbin
Voronezh State University
Email: mrmike@mail.ru
Russian Federation, Voronezh
A. S. Ustiuzhaninova
Voronezh State University
Author for correspondence.
Email: nastyzhka@gmail.com
Russian Federation, Voronezh
References
- Павловский, В.А. К вопросу о теоретическом описании слабых водных растворов полимеров / В.А. Павловский // Докл. АН СССР. — 1971. — Т. 200, № 4. — C. 809–812. Pavlovsky, V.A. On theoretical description of weak aqueous solutions of polymers / V.A. Pavlovsky // Doklady Akademii Nauk SSSR. — 1971. — V. 200, № 4. — P. 809–812.
- Амфилохиев, В.Б. Экспериментальные данные о ламинарно-турбулентном переходе при течении полимерных растворов в трубах / В.Б. Амфилохиев, В.А. Павловский // Тр. Ленинградского ордена Ленина кораблестроительного ин-та. — 1976. — Т. 104. — С. 3–5. Amfilokhiev, V.B. Experimental data on laminar-turbulent transition for flows of polymer solutions in pipes / V.B. Amfilokhiev, V.A. Pavlovsky // Trudy Leningradskogo ordena Lenina korablestroitel’nogo instituta. — 1975. — V. 104. — P. 3–5.
- Течения полимерных растворов при наличии конвективных ускорений / В.Б. Амфилохиев, Я.И. Войткунский, Н.П. Мазаева, Я.С. Ходорковский // Тр. Ленинградского ордена Ленина кораблестроительного ин-та. — 1975. — Т. 96. — С. 3–9. Flows of polymer solutions in the case of convective accelerations / V.B. Amfilokhiev, Y.I. Voitkunskii, N.P. Mazaeva, Y.S. Khodornovskii // Trudy Leningradskogo ordena Lenina korablestroitel’nogo instituta. — 1975. — V. 96. — P. 3–9.
- Осколков, А.П. О разрешимости в целом первой краевой задачи для одной квазилинейной системы 3-го порядка, встречающейся при изучении движения вязкой жидкости / А.П. Осколков // Записки науч. семинаров ЛОМИ. — 1972. — Т. 27. — C. 145–160. Oskolkov, A.P. Solvability in the large of the first boundary value problem for a certain quasilinear third order system that is encountered in the study of the motion of a viscous fluid / A.P. Oskolkov // Zapiski Naucnyh Seminarov Leningradskogo Otdelenija Matematiceskogo Instituta imeni V.A. Steklova Akademii Nauk SSSR (LOMI). — 1972. — V. 27. — P. 145–160.
- Осколков, А.П. О единственности и разрешимости в целом краевых задач для уравнений движения водных растворов полимеров / А.П. Осколков // Записки науч. семинаров ЛОМИ. — 1973. — Т. 38. — С. 98–136. Oskolkov, A.P. The uniqueness and solvability in the large of boundary value problems for the equations of motion of aqueous solutions of polymers / A.P. Oskolkov // Zapiski Naucnyh Seminarov Leningradskogo Otdelenija Matematiceskogo Instituta imeni V.A. Steklova Akademii Nauk SSSR (LOMI). — 1973. — V. 38. — P. 98–136.
- Осколков, А.П. О некоторых квазилинейных системах, встречающихся при изучении движения вязких жидкостей / А.П. Осколков // Записки научных семинаров ЛОМИ. — 1975. — Т. 52. — С. 128–157. Oskolkov, A.P. Some quasilinear systems that arise in the study of the motion of viscous fluids / A.P. Oskolkov // Zapiski Naucnyh Seminarov Leningradskogo Otdelenija Matematiceskogo Instituta imeni V.A. Steklova Akademii Nauk SSSR (LOMI). — 1975. — V. 52. — P. 128–157.
- Ладыженская, О.А. О погрешностях в двух моих публикациях по уравнениям Навье–Стокса и их исправлениях / О.А. Ладыженская // Записки научных семинаров ПОМИ. — 2000. — Т. 271. — С. 151–155. Ladyzhenskaya, O.A. On some gaps in two of my papers on the Navier–Stokes equations and the way of closing them / O.A. Ladyzhenskaya // J. of Math. Sci. — 2003. — V. 115. — P. 2789–2791.
- Турбин, М.В. Теорема существования слабого решения начально-краевой задачи для системы уравнений, описывающей движение слабых водных растворов полимеров / М.В. Турбин, А.С. Устюжанинова // Изв. вузов. Математика. — 2019. — № 8. — С. 62–78. Turbin, M.V. The existence theorem for a weak solution to initial-boundary value problem for system of equations describing the motion of weak aqueous polymer solutions / M.V. Turbin, A.S. Ustiuzhaninova // Russian Mathematics. — 2019. — V. 63. — P. 54–69.
- Устюжанинова, А.С. Равномерные аттракторы для модифицированной модели Кельвина–Фойгта / А.С. Устюжанинова // Дифференц. уравнения. — 2021. — T. 57, № 9. — С. 1191–1202. Ustiuzhaninova, A.S. Uniform attractors for the modified Kelvin–Voigt model / A.S. Ustiuzhaninova // Differ. Equat. — 2021. — V. 57, № 9. — P. 1165–1176.
- Устюжанинова, А.С. Траекторные и глобальные аттракторы для модифицированной модели Кельвина–Фойгта / А.С. Устюжанинова, М.В. Турбин // Сиб. журн. индустр. математики. — 2021. — Т. 24, № 1. — С. 126–138. Ustiuzhaninova, A.S. Trajectory and global attractors for a modified Kelvin–Voigt model / A.S. Ustiuzhaninova, M.V. Turbin // J. of Appl. and Indust. Math. — 2021. — V. 15. — P. 158–168.
- Ustiuzhaninova, A. Feedback control problem for modified Kelvin–Voigt model / A. Ustiuzhaninova, M. Turbin // J. of Dynam. and Control Systems. — 2022. — V. 28. — P. 465–480.
- Turbin, M. Pullback attractors for weak solution to modified Kelvin–Voigt model / M. Turbin, A. Ustiuzhaninova // Evolution Equat. and Control Theory. — 2022. — V. 11, № 6. — P. 2055–2072.
- Виноградов, Г.В. Реология полимеров / Г.В. Виноградов, А.Я. Малкин. — М. : Химия, 1977. — 440 с. Vinogradov, G.V-1.2pt. Rheology of Polymers: Viscoelasticity and Flow of Polymers / G.V-1.2pt. Vinogradov, A.Y-1.2pt. Malkin. — Berlin; Heidelberg : Springer-Verlag, 1980.
- Звягин, В.Г. Математические вопросы гидродинамики вязкоупругих сред / В.Г. Звягин, М.В. Турбин. — М. : Красанд, 2012. — 412 с. Zvyagin, V.G. Mathematical Problems in Viscoelastic Hydrodynamics / V.G. Zvyagin, M.V. Turbin. — Moscow : Krasand, 2012. — 412 p.
- Simon, J. Compact sets in the space / J. Simon // Ann. Mat. Pura Appl. — 1987. — № 146. — P. 65–96.
- Gajewski, H. Nichtlineare Operatorgleichungen und Operatordifferentialgleichungen / H. Gajewski, K. Groger, K. Zacharias. — Berlin : Akademie Verlag, 1974. — 281 s.
- Беккенбах, Э. Неравенства / Э. Беккенбах, Р. Беллман. — М. : Мир, 1965. — 276 с. Beckenbach, E.F. Inequalities / E.F. Beckenbach, R. Bellman. — Berlin; Heidelberg : Springer, 1961.
- Orlov, V.P. On the mathematical models of a viscoelasticity with a memory / V.P. Orlov, P.E. Sobolevskii // Differ. and Integr. Equat. — 1991. — V. 4, № 1. — P. 103–115.
- DiPerna, R.J. Ordinary differential equations, transport theory and Sobolev spaces / R.J. DiPerna, P.-L. Lions // Invent. Math. — 1989. — V. 98. — P. 511–547.
- Crippa, G. Estimates and regularity results for the DiPerna–Lions flow / G. Crippa, C. De Lellis // J. Reine Angew. Math. — 2008. — V. 616. — P. 15–46.
- Edwards, C.H. Advanced calculus of several variables / C.H. Edwards. — New York; London : Academic Press, 1973. — 457 p.
Supplementary files