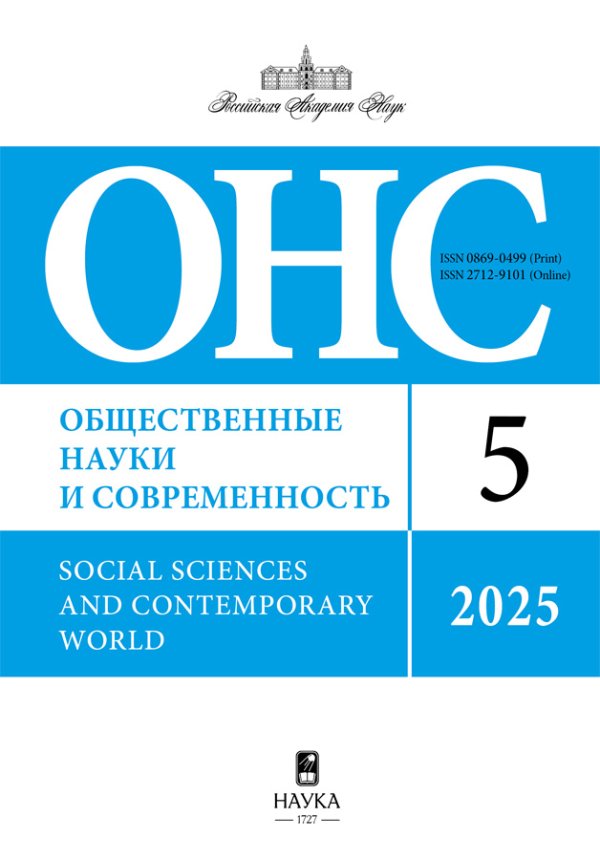The modern world system: regrouping of forces
- Authors: Volodin A.G.1
-
Affiliations:
- Institute for Scientific Information in Social Sciences, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 7-21
- Section: International relations
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-0499/article/view/281109
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869049924050018
- EDN: https://elibrary.ru/JVGWBT
- ID: 281109
Cite item
Full Text
Abstract
The process of regrouping of geopolitical forces in world politics after the collapse of the Soviet Union is analyzed. This process began in Eurasia, but now it’s taking the form of a new, polycentric world order. New centers of geopolitical gravity are emerging, around which the “building blocks” of the new world order are being formed. At the same time, the “world liberal order” that emerged after the collapse of the USSR enters into an insoluble contradiction with the urgent needs of rapidly developing humankind. Today, one of the pivotal supporting structures of the polycentric world is the BRICS platform, which progressively involves countries and regions into the orbit of its activities. The new geopolitical reality presents very complex problems to the world that must be solved on the basis of the principles of development, justice and the accommodation and integration of numerous national interests.
Keywords
Full Text
Диверсификация и усложнение как принципы внутренней организации заложены в поведение любой системы, включая общество, политику и международные отношения. Исторический процесс своей тенденцией к полицентризму выражает естественную тягу человечества к «единству в многообразии», как принято полагать в индийской философской мысли. Однако всякие перемены вызревают постепенно, поэтому за их динамикой далеко не всегда можно наблюдать. Можно сказать, что путь к «разнообразию», т.е. полицентрическому строению ойкумены, по-своему отражал смену вех в историческом развитии человечества. «Конец истории» был искусственной концепцией, не подкрепленной конкретным анализом событий. Как определил основную линию нынешнего мирового развития индийский футуролог П. Ханна, «история не закончилась – она вернулась» [Khanna 2019, 12]. Не менее выразительно и конкретно состояние современного мира оценил министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар: «Европа должна освободиться от представления о том, что проблемы Европы – это мировые проблемы, тогда как мировые проблемы – это не боль Европы» 1.
В 2008 г. известный американский журналист индийского происхождения Ф. Закария [Zakaria 2008] определил «тектонические сдвиги» в мировой экономике и политике и их содержание, разделив пять последних столетий мировой истории на три неравнопротяженных этапа: 1) восхождение Запада, начавшееся в XV в. в связи с Великими географическими открытиями, которое «драматически» ускорилось в конце XVIII в. под воздействием первой промышленной революции, что и предопределило длительное экономическое и политическое господство наций «североатлантического пространства» над остальным миром; 2) геополитическое самоутверждение Соединенных Штатов в качестве «осевой» мировой державы (с конца XIX в.), которое приобрело безальтернативный характер после самоликвидации СССР; 3) «восхождение остальных» (т.е. основной части человечества), которое привело к новой перегруппировке геополитических сил в международной системе, происходящей в режиме реального времени. Впрочем, советское востоковедение более точно охарактеризовало глобальные процессы ближайшего будущего как превращение объектов неоколониальной эксплуатации в субъекты мирового исторического процесса, характерная для советского востоковедения [Примаков 1982].
Нынешний «тектонический сдвиг» в мировой политике начался во второй половине 1980-х гг. Этот процесс вовлек в себя так называемые «новые влиятельные государства» (new influentials), среди которых явно выделялись Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Египет, Нигерия, Южная Африка, Индия и т.д. Китай, который тогда только вышел на траекторию форсированного экономического роста, в прогнозных сценариях политологов-международников практически не фигурировал. Главной особенностью данной общности считалось наличие у этих стран своих интересов, которые отличались от устремлений СССР и США и их союзников.
В конце 1980-х гг. британский обществовед П. Кеннеди указывал на объективный характер мирового исторического процесса: каждой из крупных держав «приходится сталкиваться с извечными дилеммами подъема и падения, с меняющимися темпами производственного роста, с технологическими инновациями, с изменениями на международной арене, с растущей стоимостью вооружений, с изменениями в балансе сил (т.е. с периодически повторяющимися перегруппировками сил – прим. авт.). Это не те события и процессы, которые может контролировать какое-либо одно государство или отдельные лидеры» [Kennedy 1989, 540].
Однако драматические события конца 1980 – начала 1990-х гг. «затемнили» объективные процессы в мировой системе. Становление новых влиятельных членов международного сообщества происходит уже на фоне формирования полицентрического, «постамериканского мира». Ф. Закария, в частности, отмечал: «Впервые в истории мы являемся свидетелями подлинно глобального развития. Этот феномен создает международную систему, в которой страны во всех частях мира больше не являются объектами [давления] или [сторонними] наблюдателями, а выступают самостоятельными игроками. Подобный процесс и есть рождение поистине глобального порядка» [Zakaria 2008, 3].
Становление полицентрического мироустройства: логика и история
Становление действительно полицентрического мироустройства имело свою внутреннюю логику и хронологию. Первоначально, в середине 2010-х гг., «постамериканский мир» уже приобрел некие конкретные контуры своеобразного «семицентрия», в которое тогда включали следующие страны и регионы: Бразилию, США, Западную Европу, Россию, Индию, Китай, Японию. Уже тогда в «семицентрие» входили, помимо признанных лидеров мировой экономики, относительно новые силы, которые в те годы все чаще собирательно именовали «БРИК». Следует отметить, что после событий 24 февраля 2022 г. из этой «когорты» довольно быстро «выпали» Западная Европа и Япония, которые перешли к состоянию/статусу экономической и геополитической «периферии» Соединенных Штатов.
Процесс геополитической диверсификации человечества имел свою последовательность и собственную историческую подоснову. Так, во второй половине 1950-х гг. уже можно было говорить о трех своеобразных «полюсах» мирового развития. К Советскому Союзу и Соединенным Штатам добавилось движение неприсоединения, которое возглавили руководители Индии, Египта и Югославии – Дж. Неру, Г.А. Насер и И.Б. Тито. После исторической встречи в Бандунге представителей 29 стран Азии и Африки (апрель 1955 г.), которые выработали согласованную платформу антиимпериализма и антиколониализма, начался переход к полицентрической форме организации мирового пространства. Иными словами, попятное движение глобальных процессов, которое проявилось в кратковременном воцарении «униполя»/Pax Americana, лишь задержало «возвращение истории» – превращение основной части человечества в реальный субъект мировой политики.
Ретроспективно можно полагать, что такое направление развития международной системы было своего рода исторической случайностью. В пользу подобной трактовки свидетельствуют несколько обстоятельств. Во-первых, распад биполярного мира не был продиктован логикой исторического развития. Значительную (а может и определяющую) роль в распаде СССР сыграл субъективный фактор: стремление позднесоветских (этнократических, этноцентричных) элит политически и экономически разделить пространство наиболее крупной по территории страны мира, которому в немалой степени способствовал лишенный ясного целеполагания хаотический характер «перестройки». Определенную роль в развитии деструктивных процессов на пространстве СССР сыграл и внешний фактор, т.е. действия коллективного Запада.
Во-вторых, Соединенные Штаты априори не могли осуществлять «глобальное управление» с помощью механизмов политэкономического контроля, поскольку после распада СССР на США приходилось лишь 25% мирового ВВП. Максимальное значение американского ВВП было зафиксировано в 1944 г., когда на Америку приходилось 35% от общемирового показателя 2. После самоликвидации СССР возникла своеобразная двойственность мировой политики: Америка не обладала необходимыми ресурсами для «глобального управления», однако настойчиво пыталась претворить в жизнь идею Pax Americana, тогда как остальной мир еще не был психологически подготовлен к альтернативному, многополярному мироустройству.
В-третьих, данное противоречие имело тенденцию нарастать. Впервые мировая научная и общественная мысль по-настоящему прочувствовала его после неудачи «экспедиционной миссии» в Ирак около в 2005 г. Чуть раньше Нобелевский лауреат по экономике Дж. Стиглиц критически оценивал способность глобализации и ее институтов обеспечить «глобальное управление» в интересах всего человечества. Американский ученый писал: «международные финансовые организации избежали прямой ответственности, которую мы ожидаем от государственных институтов в современных демократических государствах. Пришло время... пристально посмотреть на некоторые из программ этих институтов и на то, насколько хорошо или скверно они способствовали экономическому росту и сокращению бедности» [Stiglitz 2002, 52]. Именно тогда потребность в новом мировом устройстве, которое будет отвечать интересам основной части человечества, начала ощущаться как экзистенциальная необходимость – прежде всего на «глобальном Востоке и Юге». Такие настроения дали толчок развитию новых, не-западоцентричных институциональных форм международного общения.
В рамках противодействия перегруппировке геополитических сил в Евразии (прежде всего объединению усилий России, Индии и Китая в построении нового, равноправного мирового порядка) коллективный Запад под управлением США стремился внести разлад в отношения между тремя странами-гигантами. Особые усилия прилагались, чтобы обострить и поддерживать на «точке кипения» исторически сложные отношения между Дели и Пекином. Однако распад Советского Союза и энергичная материализация Pax Americana послужили первичным толчком к нормализации отношений между странами. «Совместное беспокойство по поводу новой и непредсказуемой реальности, однополярного мира, наряду с разделяемым обеими сторонами пониманием экзистенциальной важности спокойной периферии и фокусирования внимания на неотложных домашних проблемах – внутренней безопасности, политической стабильности, экономическом развитии – эти факторы объединили Дели и Пекин в стремлении завершить нормализацию двусторонних отношений», отмечает историк двусторонних отношений и мировой политики З. Даулет Сингх [Daulet Singh 2020, 9].
Фактически стартовал поиск геополитических механизмов, которые составили бы альтернативу западной гегемонии. Одним из форматов, способных вернуть начала диалектики в мировую политику, стал треугольник Россия-Индия-Китай (РИК). Изначально отношение к идее РИК в «постбиполярном» мире было сдержанно-скептическим. Однако события начала XXI в. показали, что этот формат должен быть воплощен в жизнь возможно скорее. РИК стал не только самостоятельным геополитическим форматом, но и послужил идейно-организационной основой для последующей институционализации платформы БРИКС.
«Демонстрационный эффект» перегруппировки сил в Евразии, при всей сложности и противоречивости данного процесса, «выплеснулся» в мировое пространство. Перестройка системы международных отношений в Евразии после распада Советского Союза и институционализации «униполя» (в виде «Вашингтонского консенсуса») охватила и другие континенты, прежде всего Латинскую Америку. Как представляется, тенденция к диверсификации мирового пространства в этой части ойкумены развилась в значительной степени из-за субъективного фактора.
1 января 1995 г. президентом Бразилии был избран социолог и экономист Ф.Э. Кардозу (род. в 1931 г.). Он был одним из родоначальников теории зависимого капиталистического развития, практическая суть которой первоначально заключалась в том, что инструментарий политического и экономического суверенитета следует использовать для самостоятельного (пусть и ограниченного) развития Латинской Америки на основе приоритета национальных целей и задач над интересами международного капитала. Подобная политика сильно осложняла «Вашингтонский консенсус». Однако в усилении «постбиполярного» взаимодействия России, Индии и Китая правящие круги Бразилии увидели возможность развития многополярного мира. Данную идею поддерживали не только деятели левоцентристского направления, но и национально ориентированные представители офицерства и генералитета, а также бразильская буржуазия. Видимо, Ф.Э. Кардозу принадлежала идея геополитического «квадрата сил» с участием Бразилии, России, Индии и Китая; которая преследовала двуединую цель: 1) качественно повысить мирополитический статус крупнейшей страны Латинской Америки и 2) преодолеть периферийное состояние бразильской экономики внутри сложившегося в 1990-е гг. Pax Americana.
Самоутверждение Бразилии как великой державы происходило на фоне политического «пробуждения» коренного населения этой страны, а также аналогичных процессов в других государствах Латинской Америки (Венесуэла, Колумбия, Перу, Парагвай и др.). Требования коренных жителей Латинской Америки (amerindians) имели двоякий характер. С одной стороны, они добивались равноправного положения в системе политических отношений в обществах «периферийного» латиноамериканского капитализма, что предполагало совершенствование институтов представительной демократии. С другой стороны, лидеры латиноамериканских «прогрессистов» (У. Чавес, Э. Моралес и др.) понимали, что политическую и социальную/экономическую демократию в их странах невозможно построить, не преодолев саму геополитическую «периферийность» (не создав новую модель отношений с США и коллективным Западом в целом), и без стратегических союзников в мире, прежде всего в Евразии (Россия, Китай и т.д.).
Успешно сделать новый стратегический выбор помогло наличие минерально-ресурсной базы международного значения (нефть, литий, вольфрам, олово, серебро, бокситы, золото и т.п.) у ряда государств региона (Венесуэла, Боливия и др.). К тому же, как отмечает признанный британо-индийский эксперт по международным проблемам Д. Хиро, коренные жители Латинской Америки начали из состояния пассивности переходить в режим организованной активности, они «почувствовали политическую силу избирательного бюллетеня» [Hiro 2010, 142-143]. Политическое «пробуждение» затронуло и другие страны и регионы.
Немаловажную роль в общемировой перегруппировке сил сыграло геополитическое обособление и самоутверждение Ирана после революции 1978-1979 гг. Американо-английская «экспедиция» в Ирак 2003 г. с целью свергнуть режим С. Хуссейна, а также захват Афганистана в 2001 г. силами «западной коалиции» ненамеренно избавили Иран от геополитических соперников на востоке (Афганистан) и западе (Ирак). Данные события фактически подготовили почву для утверждения Исламской республики в качестве доминирующей силы в регионе Среднего Востока. Свою роль в геополитическом возвышении Ирана сыграло сближение и развитие стратегического партнерства с постсоветской Россией. Распространению влияния официального Тегерана на региональном уровне (в частности, в Восточном Средиземноморье) также поспособствовала торговля углеводородами (нефть, газ), международно значимыми запасами которых обладает эта страна.
Наконец, известное значение для становления идеологии и политики построения полицентрического мира имело превращение Корейской Народно-Демократической Республики в своеобразный ограничитель американского влияния на Дальнем Востоке. Данная трансформация имеет историческое происхождение. Как известно, Корейская война (1950-1953 гг.) унесла жизни более 36 тысяч американцев 3. Она была настолько непопулярна в обществе США, что индекс общественной поддержки тогдашнего президента Г. Трумэна опустился до 22% в 1952 г. 4 (этот антирекорд был превзойден только осенью 2008 г., когда уровень одобрения деятельности президента Дж. Буша-младшего составлял 19-20% 5). Преемник Г. Трумэна в Белом доме, Д. Эйзенхауэр, оказался достаточно дальновидным и проницательным политиком, чтобы провести своеобразную «красную линию» во внешней политике США. С тех пор прямое вмешательство во внутриполитическое развитие других стран стало недопустимым для американской власти – даже ради продвижения идеи Pax Americana. Идеальной моделью американского вмешательства в дела иностранных государств стало использование местных олигархических групп и их военных формирований в своих интересах.
Тем не менее недолгая историческая память американского общества позволила провести прямые интервенции во Вьетнаме, Ираке (дважды) и Афганистане. Однако КНДР представляла для американской внешней политики потенциальную геополитическую неопределенность и значительный риск, своего рода нестираемую «красную линию», действенный ограничитель «свободы» – своевольного внешнеполитического поведения США. Если несомненным геополитическим «активом» Венесуэлы был минерально-ресурсный потенциал мирового значения, то КНДР, располагая достаточным для устрашения заокеанского противника и его региональных союзников ядерным и мощным конвенциональным военным потенциалом, превратилась в сложную для правящих кругов США проблему – по меньшей мере на Дальнем Востоке. По мнению западных экспертов, Иран также обладал научно-техническим потенциалом, необходимым для создания оружия массового уничтожения. Своеобразный «фронт непримиримых» в лице Ирана, Венесуэлы и КНДР искусно использовал новые возможности мировой политики, открывшиеся с возвышением Китая и «пробуждением» России от «летаргического сна» 1990-х гг.
Впрочем, в начале XXI в. нередко звучал вопрос: насколько жизнеспособно объединение Бразилии, России, Индии и Китая (а вскоре и Южно-Африканской Республики), возможно ли его преобразование в геоэкономический и – в обозримой перспективе – геополитический союз? Иными словами, сможет ли новая платформа, пользуясь терминологией египетского политолога С. Амина [Amin 2014], стать новым «мировым проектом»?
В то время дать однозначный вопрос было невозможно. С одной стороны, системный кризис 2007–2009 гг. не исчерпал свой «деструктивный» потенциал для мировой экономики. Так, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2009 г., премьер-министр КНР Вэнь Цзябао раскритиковал США и другие страны Запада за «неадекватную макроэкономическую политику некоторых экономик (исторический Запад под управлением США – прим. авт.) и их неустойчивые модели развития, характеризующиеся низкими сбережениями и высоким потреблением, а также чрезмерным расширением функций финансовых инструментов в слепой погоне за прибылью, отсутствием самодисциплины у финансовых институтов и рейтинговых агентств» [Hiro 2010, 183]. На этот раз именно Китай предостерегал западных лидеров, а не наоборот. Специалисты обратили внимание на психологическое измерение кризиса 2007–2009 гг., которое имело далеко идущие геополитические последствия для Запада. Как отмечал российский политолог Н.А. Симония, «завершающую точку в процессе развенчания западной, особенно американской, модели капитализма поставил кризис 2007–2009 гг. До кризиса у многих политиков и интеллектуалов в Азии все еще теплилась вера в то, что, несмотря на, как им казалось, отдельные промахи, западная экономическая теория и практика были лучшими в мире. Но… кризис и глобальная рецессия заставили многих азиатов поставить под вопрос западную компетентность» [Что догоняет… 2011, 25].
В обстановке всеобъемлющего финансово-экономического кризиса, управлять которым западные институты не могли, естественным выглядело стремление сверхкрупных стран координировать свои действия. Цель такого объединения заключалась в том, чтобы за счет интеграции своих экономик и рынков избежать последствий жестоких геоэкономических потрясений, а также превратить БРИКС в относительно автономное от «триады глобализации» (США – Западная Европа – Япония) пространство, способное амортизировать грядущие кризисные «шоки».
С другой стороны, существовали (и до сих пор не исчезли) факторы неэкономического происхождения, которые тормозят, казалось бы, естественные процессы экономической кооперации и интеграции: историческая память народов; предубеждения, которые сознательно культивируют элиты в своих узкогрупповых интересах; незримое присутствие в двусторонних отношениях фактора «третьих» стран и т.п.
БРИКС как платформа содержательной многополярности
Лидерами сотрудничества и интеграции в БРИКС на первом этапе развития данного объединения, безусловно, являлись Китай и Бразилия. На то существовали веские экономические и политические основания.
Во-первых, оба гиганта глубоко вовлечены в мировую экономику и старались всячески диверсифицировать свои внешнеэкономические связи, чтобы в будущем максимально избежать односторонней зависимости от рынков промышленно развитых стран и их переменчивой конъюнктуры. Успешность этого подхода продемонстрировал глобальный финансово-экономический кризис 2007–2009 гг.
Во-вторых, Бразилия (примерно с 2003 г.) и Китай (с XVII съезда КПК, октябрь 2007 г.) начали проводить активную социально-экономическую политику, которую российский китаевед А.И. Салицкий определил как движение от реформ к развитию [Salitskii 2018]. Суть этой политики заключалась в энергичном стимулировании внутреннего спроса, последовательном выравнивании уровней экономического развития различных регионов стран-гигантов, поступательном снижении социально-имущественных диспаритетов в обществе и др. Политика преследовала цель повысить уровень жизни массовых слоев народа и, на этой основе, расширить поддержку экономической и политической систем среди общества. Идентичные цели делают стратегии развития обеих стран понятными друг для друга, повышают их заинтересованность в совместных начинаниях, включая перекрестные инвестиции [Hiro 2010, 182–184]. Новая геоэкономическая и геополитическая роль «восходящих» экономических держав – Бразилии, России, Индии и Китая – побудила тогдашнего директора-распорядителя МВФ Д. Стросс-Кана (2007–2011 гг.) призвать организацию перераспределить голоса в Фонде в пользу данных государств.
Россию и Индию даже на начальном этапе существования «платформы» сложно было назвать «аутсайдерами» экономической интеграции внутри БРИКС (тогда в формате БРИК). Однако официальная линия Москвы и Дели, несмотря на их активное участие в четырехсторонних встречах на официальном уровне, вызывала у Китая и Бразилии некоторые вопросы. Первый: как соотносится геополитика (поддержка идеи БРИК на высшем государственном уровне) и экономика (стимулирование интеграционных процессов в многостороннем формате) во внешнеполитической стратегии Индии и России? Второй: какие экономические и политические силы в двух странах были готовы реально участвовать в кооперационных связях в рамках формата? Третий: была ли у России и Индии долгосрочная стратегия действий в отношении объединения БРИК?
Тогда получить исчерпывающий ответ на эти вопросы было сложно. Ретроспективно объяснить причины «отставания» России и Индии на «фронте» борьбы за БРИК можно следующим образом. Индийские элиты в конце ХХ – начале ХХI в. оказались в своеобразном концептуальном вакууме. После распада СССР и «ухода с Востока» так называемой «новой» России надежда на длительный «американоцентричный» мир, в котором Индии была уготована важная (а по сути своей вспомогательная) роль по сдерживанию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказались геополитической иллюзией. Кроме того, и элиты, и народ Индии с трудом преодолевали «комплекс исторической памяти» в отношении Китая, проистекающий как из воспоминаний о пограничном конфликте 1962 г., так и из опасений касательно форсированного экономического роста в КНР, который мог превратиться в геополитическую экспансию с перспективой «окружения» Индии в Южной Азии. Однако сама история исцелила «исторические болезни»: после 24 февраля 2022 г. Индия почувствовала себя реальной мировой державой «без изъятий и исключений». Этот процесс обрел положительную инерцию необратимого движения вперед. Следует также отметить, что важным психологическим подспорьем для обретения Индией искомого геополитического статуса стала мягкая посадка на Луну индийской космической станции «Чандраян-3» во время «объединительного» саммита БРИКС в Йоханнесбурге в августе 2023 г.
Для России же проект БРИК/БРИКС первоначально представлял собой прежде всего интеллектуальную проблему, которую необходимо было решить методологически, а затем интегрировать это решение в стратегию внешней политики в качестве «строительного материала». Смысл этой своеобразной дилеммы состоял, как представляется, в следующем. В начале XXI в. отношение к БРИК(С) и другим подобным начинаниям было довольно странным и противоречивым. С одной стороны, еще во второй половине 1990-х гг. была выдвинута общая идея о самостоятельности России в мировом пространстве. С другой стороны, как показывает историческая практика, идея трансформируется в концепцию и в принципы деятельности лишь тогда, когда она насыщается необходимыми деталями. Постсоветской России, первоначально сделавшей «западный выбор», предстояло не только осмыслить ограниченную пользу односторонней ориентации на Западную Европу, Америку и Японию, но и осознать происходящую смену вех в мировой политике – прежде всего перемещение ее оси в сторону глобального Востока и Юга и, наконец, найти практический алгоритм встраивания России в эпоху «возвращения истории».
После фиаско американо-английского вторжения в Ирак ход всемирной истории значительно ускорился. Влиятельные интеллектуалы на Западе открыто заговорили о «конце империи» и о «закате» Pax Americana. Неспособность коллективного Запада справиться с глобальным финансово-экономическим кризисом 2007–2009 гг. подорвала и психологические основы западного доминирования над остальным миром. В интеллектуальных кругах самопроизвольно возник вопрос: что будет после «конца империи»?
Новый международный порядок, писал в 2010 г. авторитетный эксперт-аналитик Д. Хиро, «не будет вращаться вокруг Америки. Не будет он и диалектическим – Соединенные Штаты против Китая, Запад против Азии или демократии против автократий (здесь заметно суженное представление автора о диалектике и ее проявлениях – прим. авт.). Предшествующие нынешнему состоянию мира события уже имели следствием формирование международного порядка с множественными полюсами влияния, которые сотрудничают и одновременно соперничают друг с другом, причем ни один из этих полюсов не имеет возможности действовать как господствующая сила. Проще говоря, вековой баланс сил снова взялся за работу» [Hiro 2010, 5-6]. События и процессы начала 2000-х гг. породили кризисные явления в деятельности международных институтов (ООН, МВФ, Всемирный банк) и поставили мир перед необходимостью формировать новые трансконтинентальные форматы и платформы, которые смогут адекватно реагировать на необратимо увеличивающееся экономическое и политическое разнообразие человечества.
В принципиально новых геополитических условиях первоначально аморфная платформа БРИК/БРИКС начала постепенно обретать качества международной организации, потенциально способной консолидировать ту часть ойкумены, которая находилась за пределами пространства «золотого миллиарда» и никак не вписывалась в «мировой либеральный порядок». Геоэкономической и геополитической подосновой развития БРИКС и аналогичных организаций стали следующие явления-факторы: естественное исчерпание способности США к единоличному глобальному управлению; продолжительный и энергичный экономический рост Китая; самоутверждение Индии как государства-цивилизации; преодоление Россией психологического кризиса/исторической «усталости» после распада СССР; появление целой группы государств – открытых противников мирового либерального порядка (Иран, Венесуэла, Корейская Народно-Демократическая Республика и т.д.); политическая консолидация на Арабском Востоке (ускорившаяся после разрушительной «Арабской весны»); желание стран Латинской Америки говорить с миром собственным голосом; пробуждение угнетенной Африки и др. Значительную роль в ускорении развития «проекта БРИКС» сыграла и растущая неустойчивость международной финансовой системы, замкнутой на США и других странах коллективного Запада.
Политэкономическую подоснову хронической нестабильности мировых финансов доказательно описал индийский экономист А. Кумар Багчи. В начале 2000-х гг. автор писал, что Соединенные Штаты «вынуждены» в силу сложившихся обстоятельств «навязывать свою волю остальному миру, тогда как международные законы написаны и существуют только для других государств. Эта доктрина является признаком экономической слабости США: Соединенные Штаты больше не могут платить за энергоресурсы, необходимые им для того ориентированного на военные цели и разрушительного для окружающей среды пути накопления прибыли, которого они придерживаются, и, следовательно, милитаризм стал средством захвата ресурсов фактически за бесценок. Бесценок и есть искомая цена, увеличивающая прибыль клановых компаний и создающая рабочие места в оборонной промышленности Америки» [Bagchi 2005, 335].
Как показал опыт последующих лет, платформа БРИКС имеет не только политэкономическое измерение. Внутри БРИКС работают не всегда заметные механизмы, которые поддерживают политическое равновесие в отношениях между странами-участницами. Так, историк З. Даулет Сингх отмечает, что конфликт в Докламе летом 2017 г. («противостояние в Гималаях» – китайско-индийский пограничный спор) разрешился под воздействием трех обстоятельств невоенного происхождения. Во-первых, были задействованы «невидимые» механизмы урегулирования конфликтов в форматах БРИКС и ШОС. Во-вторых, сказалась совместная заинтересованность Индии и Китая в солидарном диалоге с Западом по реформе международных финансовых институтов. В-третьих, двусторонняя торговля и инвестиции начинают играть все более важную роль в отношениях «Слона» и «Дракона» [Daulet Singh 2020, 103].
Ценности, которые отстаивают Индия, Россия, Китай, Бразилия, Южно-Африканская Республика и другие страны, состоят в утверждении принципов равноправного международного диалога, с одной стороны, и категорическом неприятии идеи «сверхцивилизации», якобы наделенной правом навязывать свои поведенческие модели остальным государствам-цивилизациям, с другой. Речь идет о западной «сверхцивилизации» и о навязываемом ею остальному миру «порядке, основанном на правилах». Государства-цивилизации добиваются легитимации полицентрической формы организации мирового пространства, неделимости/инклюзивности глобальной архитектуры безопасности, а также универсальной ценности принципов суверенитета. В политэкономическом смысле деятельность БРИКС ориентирована на поиск общей идейной платформы для создания финансовых институтов, которые будут отражать цели и интересы стран «глобального Востока и Юга», т.е. основной части человечества. В представлении стран БРИКС мир будущего – это пространство равноправного взаимодействия государств-цивилизаций, формулой которого должен стать принцип «единство в многообразии».
Рассматривая БРИКС как концептуальную альтернативу «порядку, основанному на правилах», многие государства «глобального Юга и Востока» стремятся присоединиться к данному объединению. После «объединительного» саммита в Йоханнесбурге масс-медиа сообщали о 50-ти странах, готовых примкнуть к объединению. Закономерно, что возможное расширение состава БРИКС неминуемо ставит вопрос разработки критериев для вступления в организацию как самостоятельную проблему.
В сложившихся геополитических обстоятельствах неизбежно придется учитывать опыт (порой отрицательный и разрушительный) других экономических объединений. Например, энергичное расширение Европейского союза за счет стран с более низким, чем у «старожилов» интеграции, уровнем социально-экономической зрелости постоянно воспроизводит проблемы диспаритетов и дисбалансов развития в ЕС, ставя его на грань раскола и распада. Напротив, опыт АСЕАН, которая опирается на принципы постепенности и консенсуса, заслуживает серьезного изучения и критического применения.
Другой проблемой, которая частично вытекает из первой, становится активное использование национальных валют во взаимных расчетах стран БРИКС. Национальные валюты, как известно, выступают стимуляторами экспорта, производства и одной из движущих сил экономического роста, столь необходимого странам БРИКС. Особую значимость приобретает проблема перекрестных инвестиций в государствах-членах. Дискуссия о создании единой валюты БРИКС может и должна продолжаться. Однако в настоящее время введение единой валюты представляется делом более или менее отдаленной исторической перспективы. Путь к единой валюте пролегает через несколько этапов взаимной адаптации экономических систем стран-участниц, с учетом неутешительных итогов господства доллара США.
Новое устройство мировой системы
Сегодня решимости «глобального Востока и Юга» отстаивать свои фундаментальные интересы противостоит очевидная растерянность коллективного Запада. Известный футуролог П. Ханна следующим образом описывает дилеммы современного Запада: «Неудачи в войнах в Афганистане и Ираке, разрыв между финансовой (Уолл-стрит) и реальной (Мэйн-стрит) экономиками, неспособность интегрировать Россию и Турцию в структуры Запада и, наконец, демократия, захваченная популистами (имеются в виду сторонники Д. Трампа и родственные силы в других развитых странах – прим. авт.), – вот лишь некоторые из характерных эпизодов, которые заставили многие западные элиты усомниться в будущем их привычных политических, экономических и социальных ценностей... Сегодня западные общества поглощены внутренними проблемами: растущим долгом, увеличивающимся неравенством, политической поляризацией и культурными войнами... Запад стал пионером в области удивительных технологических достижений – от средств связи до медицины, но его население не в равной степени пользовалось благами прогресса науки и техники» [Khanna 2019, 3].
Расширение платформы БРИКС в августе 2023 г. придало новый импульс политической консолидации незападного мира. Перегруппировка сил на глобальном уровне логично обретает новое целеполагание и новые измерения. БРИКС как институциональная платформа перегруппировочных процессов призван и способен решать ряд задач. Во-первых, за счет внутренних механизмов конфликторазрешения он может смягчать остроту традиционных противоречий между государствами (например, между Алжиром и Марокко как потенциальными участниками БРИКС). Данная способность приобретает особое значение в свете обнаружившейся в последнее время неэффективности ООН как центральной международной организации.
Во-вторых, в рамках БРИКС целесообразно создать некий «диалоговый формат», который будет включать в себя страны коллективного Запада, по ряду принципиальных вопросов старающиеся отстаивать принципы суверенитета во внешней политике (Венгрия, Австрия, Южная Корея и т.п.). Данную идею как рабочую гипотезу предложил А.В. Кузнецов в [Volodin, Kuznetsov 2023].
В-третьих, стоит обратить особое внимание на динамично развивающийся регион Юго-Восточной Азии, пока не представленный в объединении БРИКС. В Юго-Восточной Азии формируется своеобразный «асеановский концерт». Принятие решений на основе общего согласия, с одной стороны, политически укрепляет экономическую платформу объединения АСЕАН. С другой стороны, этот принцип институционально консолидирует группировку, позволяет ей солидарно выступать на международных форумах, опираясь и на совокупный экономический потенциал, и на относительно бесконфликтные (в отличие от, например, ЕС) отношения между странами-участницами данного объединения. Сегодня АСЕАН представляет собой геоэкономическое ядро региона АТР, что делает последний главным центром мировой экономической активности и средоточием мировых политических процессов.
При оценке перспектив перегруппировки геополитических сил в Евразии целесообразно учитывать несамостоятельный и зависимый от Соединенных Штатов стиль внешнеполитического мышления правящих кругов Японии. Данный факт ставит под сомнение способность страны добиться переформатирования геополитического пространства в данном регионе в своих интересах и в интересах коллективного Запада. После 24 февраля 2024 г. стало очевидным внутреннее противоречие между стремлением Японии найти для себя «удобное» место в формирующейся модели региональных международных отношений в АТР, с одной стороны, и незначительностью достигнутых реальных результатов на этом пути, с другой. Затруднения такого рода политики можно связать в немалой степени с тем, что страны АСЕАН воспринимают Японию как своеобразного троянского коня внешнеполитической стратегии Вашингтона. Для официального Токио значительно усложняет достижение стратегических целей и формирующаяся на Дальнем Востоке геополитическая ось Москва-Пекин-Пхеньян, участников которой, помимо конкретных внешнеполитических задач, соединяет фактор общей исторической памяти сложно-противоречивых отношений со Страной восходящего солнца в ХХ в.
На фоне конформизма японской внешней политики контрастно выглядят прагматизм и многовекторность дипломатии и внешнеэкономической политики Южной Кореи, – несмотря на некоторые внешнеполитические шаги Сеула, призванные продемонстрировать лояльность курсу нынешней американской администрации. Зависимость экономики Южной Кореи от условий мировой торговли и, в конечном счете, от глобальной геополитической ситуации позволяет выразить осторожный оптимизм относительно возможного подключения Южной Кореи к «диалоговому формату» БРИКС.
Попытки коллективного Запада сохранить контроль над мировой системой проявились в создании Группы-20. Однако цели участников этого искусственно сконструированного объединения изначально различались: если Запад пытался предотвратить распад системы неоколониальной эксплуатации, то глобальный Юг и Восток рассматривали ее как институт переходного типа, конечной целью которого было формирование нового мирового экономического и политического порядка 6. Застарелые конфликты, таким образом, не исчезли – напротив, они начали проявляться в открытой, заметной всему миру форме.
Перегруппировочные процессы в Евразии, которые опираются на геоэкономический и геополитический потенциал России, Индии и Китая (первоначально формат РИК), в определенном смысле развивают идеи Х. Маккиндера [Маккиндер 2023] и В.И. Ленина [Ленин 1957], которые выступали с диаметрально противоположных идейно-политических позиций. Ирония истории состоит в том, что мощным импульсом к развитию перегруппировки сил в Евразии послужила самоликвидация Советского Союза, который мощно стимулировал развитие отношений в треугольнике Россия-Индия-Китай. Впоследствии кризис и крах Pax Americana подтолкнули дальнейшее развертывание перегруппировки сил уже за пределами Евразии. В настоящее время идейной и организационной платформой перегруппировки сил на глобальном уровне выступает объединение БРИКС.
Современный мир: Quo Vadis?
Перегруппировка сил на глобальном уровне продолжается. По сути дела по-прежнему идут геополитические процессы ХХ в., прерванные распадом Советского Союза [Володин 2019]. Становление полицентрической организации мирового пространства поддерживают несколько факторов, которые значительно, хоть и не напрямую, влияют на перегруппировку сил в мировой политике. В первую очередь следует выделить кризис западной модели развития, окончательно оформившейся после распада Советского Союза. Турбулентность западного мира с особой силой проявилась в ходе глобального финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг. Данный кризис продемонстрировал всему человечеству беспомощность Запада в глобальном управлении экономическими процессами, ради которого создавались и «усеченная» глобализация [Nayar 2005] (США, Западная Европа, Япония), и «Вашингтонский консенсус», и другие «новаторские» идеи. Сегодня ясно, что западный проект глобализации оказался сказочным подарком для незападных обществ, которые за его счет качественно увеличили долю промышленности в ВВП и превратились в новую мастерскую мира.
Второй фактор – деградация системы управления обществом и государством, которая изнутри подтачивает взращенный коллективным Западом мировой порядок. Явный пример неблагополучия системы государственного управления на Западе – несколько попыток отправить в отставку такого мэтра государственного управления, как М. Драги, который не увидел перспектив у данной модели экономики. Нынешние проблемы и дисфункции государственного управления на Западе истекают из разросшегося до вопиющих масштабов противоречия между качественно усложнившейся внутренней организацией общества, с одной стороны, и отсутствием идеологии рационального управления обществом и ее социальных носителей, с другой.
В-третьих, кризис западной модели развития и деградация системы государственного управления в обществах «золотого миллиарда» усугубляются вследствие критического ухудшения качества политических элит и непозволительного для «осевого времени» сужения их профессионального кругозора. Деградация западных элит проявилась в таких феноменах, как: 1) поспешное избрание «глобализации по-американски» в качестве экзистенциальной экономической парадигмы, которая послужила своеобразным трамплином для Китая и других обществ не-Запада, что позволило им выйти на лидирующие позиции в мировом хозяйстве; 2) ускоренное нарастание неплатежеспособности экономик Запада. Так, если в 1970–1980-х гг. внешняя задолженность была присуща странам Глобального Юга, то в настоящее время 75,4% мировой внешней задолженности приходится на страны «золотого миллиарда» [Fouskas et al. 2021, 17].
В-четвертых, резко активизировались страны не-Запада, а также начали появляться альтернативные экономические и геополитические проекты. Поиски новых ориентиров и моделей развития начались с середины 2000-х г., когда провалилась американо-английская интервенция в Ираке. Впоследствии логика и инерция этого процесса начали вовлекать в него все новые страны и континенты. Непосредственным поводом к активизации не-Запада стал глобальный финансово-экономический кризис 2007–2009 гг., управлять которым международные финансовые институты, обслуживавшие интересы коллективного Запада, не смогли.
Перегруппировка сил ставит перед Россией и другими странами-адептами нового мирового порядка важные вопросы, практические ответы на которые значительно приблизят наступление новой эпохи. Некоторые из этих вопросов-проблем перечислены ниже.
- Поскольку количество потенциальных стран-участников перегруппировки сил уже превысило пятьдесят, расширение объединения БРИКС должно иметь организованный, эволюционный и поэтапный характер. Следует разработать критерии участия в перегруппировке сил на основе учета политэкономического потенциала, ресурсной базы развития и эффективности ее использования, реального экономического суверенитета, активной позиции в мировой и региональной политике, готовности отстаивать свои интересы и т.д.
- Полезно было бы создать некий «диалоговый формат» БРИКС, который позволил бы интегрировать в формирование нового мира страны, которые по тем или иным причинам пока не заявляют о своей позиции в отношении нового мирового устройства, т.е. публично не отказываются от поддержки «мирового либерального порядка». Таких стран довольно много, – в том числе в Европе. Они могли бы стать своего рода необходимым связующим звеном между старым и новым миром.
- Самостоятельное значение имеет политэкономическое измерение перехода к полицентрическому мироустройству. Внешнеэкономические связи между участниками новых процессов мировой политики целесообразно постепенно переводить на расчеты в национальных денежных единицах, что стимулирует экономический рост и диверсификацию хозяйственных систем. Следует критически использовать опыт внешнеэкономических связей Китая с зарубежными партнерами, частью которого выступает «закрытие» дефицита во внешней торговле с иностранными государствами как прямыми инвестициями КНР, так и накопленными излишками национальных валют для содержания дипломатических учреждений в принимающей стране.
Финансирование. Работа выполнена в Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук при финансовой поддержке ЭИСИ в рамках научного проекта «Россия и Незапад в условиях трансформации идейно-ценностной конфигурации мирового порядка». Номер государственной регистрации: 123091200078-3.
Funding. The study was carried out at the Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences with the financial support of EISI within the framework of the scientific project “Russia and the Non-West in the conditions of the ideological and value configuration transformation of the world order”. State registration number: 123091200078-3.
1 How to survive a superpower split. The Economist. 11.04.2023. (https://economist.com/international/2023/04/11/how-to-survive-a-superpower-split).
2 Автор пользуется оценками экономиста и историка Э. Мэддисона и его группы, которые в международном научном сообществе считаются наиболее точными и авторитетными.
3 Share of United States military deaths in the Korean War by cause of death from 1950 to 1953. Statista. (https://www.statista.com/statistics/1343710/us-military-death-cause-korean-war/).
4 Political Arithmetik: Approval at new low – for President Truman. (https://politicalarithmetik.blogspot.com/2006/07/approval-at-new-low-for-president.html).
5 Presidential Approval Highs & Lows. Roper. (https://ropercenter.cornell.edu/presidential-approval/highslows).
6 Движению за новый мировой экономический порядок в 2024 г. исполнилось 60 лет.
About the authors
Andrey G. Volodin
Institute for Scientific Information in Social Sciences, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: andreivolodine@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0627-4307
Doctor of Sciences (History), Principal Research Fellow
Russian Federation, Nakhimovskiy prospect, 51/21, Moscow, 117418References
- Володин А.Г. (2019) Становление полицентрического мироустройства как продолжение геополитических процессов ХХ века // Контуры глобальных трансформаций. Т. 12. № 4. С. 6–31. / Volodin A.G. (2019) Emergence of a Polycentric World Order as a Continuation of Geopolitical Processes of the XXth Century. Kontury Global’nykh Transformatsiy. vol. 12, no. 4, pp. 6-31. (in Russ.)
- Ленин В.И. (1957) Горючий материал в мировой политике // В: Полное собрание сочинений в 55 томах. Т. 17. М.: Политиздат. С. 174–183. / Lenin V.I. (1957) Combustible Material in World Politics. In: Polnoe sobranie sochinenij v 55 tomah. Vol. 17. Moscow: Politizdat. Pp. 174-183. (in Russ.)
- Маккиндер Х. (2023) Географическая ось истории. М.: АСТ. 352 с. / Mackinder H. (2023) Geograficheskaya os’ istorii [The Geographical Pivot of History]. Moscow: AST. 352 p. (in Russ.)
- Примаков Е.М. (1982) Восток после краха колониальной системы. М.: Наука. 208 с. / Primakov Ye.M. (1982) Vostok posle kraha kolonial’noi systemy [The Oriental World after the Collapse of the Colonial Rule]. Moscow: Nauka. 208 p. (in Russ.)
- Что догоняет догоняющее развитие. Поиски понятия (2011) Ред.: Петров А.М. М.: Институт востоковедения РАН. 424 с. / Chto dogonyaet dogonyauyscheye razvitie. Poiski ponyatiya [‘Catch-up Development’ and What It Is Catching Up With. Search for a Paradigm] (2011) Ed(s): Petrov A.M. Moscow: Institute for Oriental Studies. 424 p. (in Russ.)
- Amin S. (2014) Capitalism in the Age of Globalization. The Management of Contemporary Society. London: Zed Books. 192 p.
- Bagchi A.K. (2005) Perilous Passage. Mankind and the Global Ascendancy of Capital. New Delhi: Oxford University Press. 423 p.
- Daulet Singh Z. (2020) Powershift. India-China Relations in a Multipolar World. London-New Delhi: Macmillan. 335 p.
- Fouskas V.K., Roy-Mukherjee Sh., Huang Q., Udeogu E. (2021) China & the USA. Globalisation and the Decline of America’s Supremacy. London: Palgrave Macmillan. 94 p.
- Hiro D. (2010) After Empire. The Birth of a Multipolar World. New York: Nation Books. 348 p.
- Kennedy P. (1989) The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. New York: Vintage Books. 677 p.
- Khanna P. (2019) The Future is Asian. Global Order in the Twenty-First Century. London: Weidenfeld & Nicolson. 433 p.
- Nayar B.R. (2005) The Geopolitics of Globalization. The Consequences for Development. New Delhi: Oxford University Press. 301 p.
- Salitskii A.I. (2018) The Outward Expansion of China as a Result of Its Victorious Modernization // Herald of the Russian Academy of Sciences. Vol. 88. No. 1. Pp. 104–110.
- Stiglitz J. (2002) Globalization and its Discontents. London: Allen Lane. 282 p.
- Volodin A., Kuznetsov A. (2023) The BRICS Platform as a Prototype of the Polycentric World Model // India Foundation Journal. Vol. 4. No. 5. September-October. Pp. 12–22.
- Zakaria F. (2008) The Post-American World. New York – London: W.W. Norton & Company. 292 p.
Supplementary files