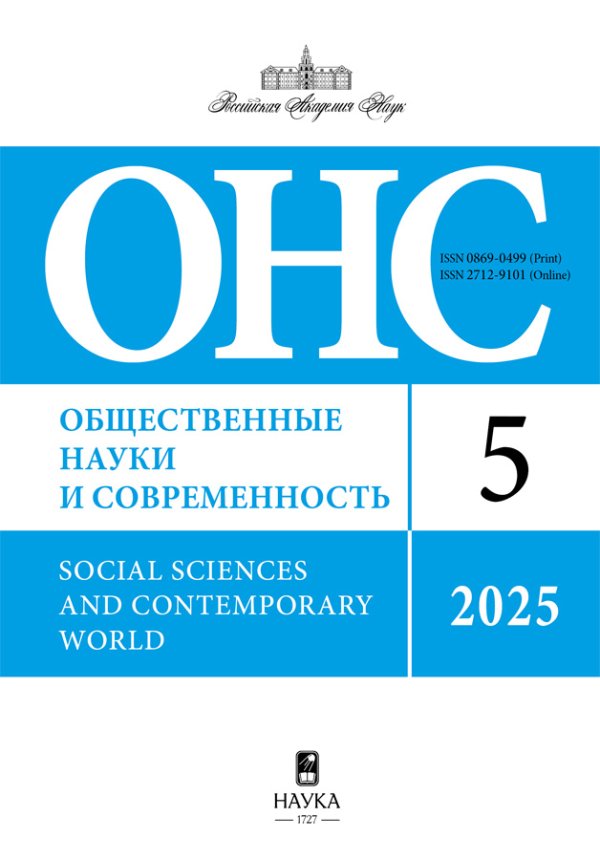Aesthetics of identity and historical themes in screen arts
- Authors: Andreev A.L.1,2, Kuznetsova T.V.3
-
Affiliations:
- Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences
- National Research University of the Moscow Power Engineering Institute
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 60-71
- Section: Media studies
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-0499/article/view/281113
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869049924050051
- EDN: https://elibrary.ru/JUTARH
- ID: 281113
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the role of art in the formation of historical self-awareness as the basis of Russian identity. It is proposed to introduce a new concept into the analytical apparatus of the theory of identity – “aesthetics of identity”, which allows revealing unexplored aspects of identity associated with the emotional and figurative side of social thinking. From this angle, the subject matter of Russian screen production is considered, both its creative achievements and a certain limitation of the thematic range are noted. In particular, it is argued that Russian cinema has done relatively little for the artistic understanding of the era that ended the existence of imperial Russia. The deficit of high-quality screen products that present the viewer with aesthetically meaningful images of Russia during the late empire is associated with the inertia of some ideologically tendentious stereotypes of the Soviet era. Despite the considerable achievements of post-reform and pre-revolutionary Russia, despite the significant aesthetic potential of Russian life of that time, captured in painting and art photography, the modern screen is still in search of an aesthetic key to this important period. The conclusion is substantiated that without a comprehensive mastery of the artistic thinking of the era of the late empire, it is difficult to expect the emergence of aesthetic empathy, necessary for understanding the internal coherence of all Russian history and the formation of a full-fledged sense of unconditional involvement in it.
Keywords
Full Text
В современных условиях особое значение для развития социальной теории и социальной прогностики приобретает проблематика идентичности. И это понятно, ибо именно здесь следует искать ключи к пониманию социального поведения. В российской социологической литературе можно найти работы по гражданской, культурной, языковой, этнической, религиозной, профессиональной, экономической и даже цифровой идентичности. Следует, однако, обратить внимание на то, что в большинстве случаев исследование содержательных характеристик идентичности ограничено ее вербализуемыми семантическими компонентами. Между тем в формировании смысловых матриц идентичности немалое значение имеет искусство. На наш взгляд, логично поставить вопрос об эстетической составляющей идентичности. По аналогии с эстетикой повседневности, эстетикой моды, эстетикой телесности, эстетикой спорта и т.п. можно говорить и об эстетике идентичности. Этот термин, как и другие словосочетания со словом «эстетика», может иметь два основных значения. Во-первых, это совокупность неких эстетически значимых ассоциаций, устойчиво связанных с той или иной идентичностью: скажем, золотые купола православных храмов давно уже стали идентифицирующим символом «вечной России», подобно тому, как шпили готических соборов и характерные рыцарские шлемы с закрытым забралом символически отсылают нас к образам «старой Европы». Во-вторых, под эстетикой идентичности можно понимать особый тематический раздел эстетики как науки, описывающий и исследующий такого рода ассоциации.
Идентичность и художественные нарративы
Особую роль в формировании идентичности и ее образных репрезентаций играют художественные нарративы – вначале литература, театр, а позднее кинематограф и другие экранные искусства. Такое формирование происходит по разным направлениям и разными способами: посредством обращения к социальной тематике, демонстрации и закрепления в эстетическом сознании определенных стилевых канонов, типизации характеров и генерализации чувственных образов до уровня общественно значимых идей.
Нарастающее усложнение социальной жизни создало условия для возникновения характерного для эпохи постмодерна феномена плюрализма идентичностей, когда индивид одновременно или попеременно солидаризируется с различными социальными и социально-демографическими группами, этническими, территориальными, конфессиональными и гражданскими общностями, политическими течениями, субкультурами, а также профессиональными сообществами и сообществами по призванию. Одновременно – что совершенно логично – возникает социальный запрос на формирование интегрирующих смыслов и поддерживающих их образов, переживаний и ассоциаций, способных связывать различные идентификации «Я» с теми или иными «Мы». И здесь исключительно важную роль играет искусство с его способностью живой репрезентации образов, формирующих исторический фундамент идентичности. Особенно важно, что в создаваемой искусством эстетической реальности прошлое предстает в виде «как бы настоящего» – в модальности протекающих перед нашим взором событий («запечатленное время», по Тарковскому). Эстетические формы репрезентации прошлого в настоящем вариативны и отражают жанровое многообразие художественного творчества: это может быть и стилистически приближающееся к хронике повествование, и эпопея, и философская притча с историческими аллюзиями, и беллетризованная биография, и реалистическая картина нравов на фоне событий той или иной эпохи. Однако во всех случаях именно средства художественно-эстетической выразительности предстают в качестве одного из основных инструментов особого рода социальной деятельности, которую можно назвать коллективным созданием смыслов [Флигстин, Макдам 2022]. Как отмечают в ходе опросов россияне, знакомые едва ли не каждому любимые экранные произведения и созданные в них исторические образы играют очень важную роль в национальной консолидации и формировании эмоциональной основы гражданской солидарности.
Образы истории в общественном сознании
Отметим, что российское общество ясно осознает экзистенциальное значение исторических представлений как основы идентичности. По данным социологических опросов, 90% наших сограждан в той или иной мере проявляют интерес к истории своей Родины, тогда как об отсутствии такого интереса заявили всего 9% 1. Следует особо подчеркнуть, что главный источник массовых представлений об истории, как обнаружено в ходе социологических исследований, – отнюдь не школьные или вузовские учебники, а кино и телевидение [Историческое сознание… 2022]. В первую очередь это художественные фильмы и телесериалы на историческую тему (их считают главным источником исторических представлений примерно 45% наших сограждан) и исторические документальные фильмы (на них указали около 40% опрошенных). Как не вспомнить в этой связи о хрестоматийной, но по-прежнему очень важной и актуальной проблеме социальной ответственности художника, а также о сложной, неоднозначной, но тем не менее неустранимой связи искусства и политики.
Какие же исторические фильмы произвели наибольшее впечатление на россиян и особенно запомнились? В ходе исследования, проведенного в 2020 г. Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН, данный вопрос задавали в открытой форме. Отвечая на него, участники опроса назвали почти 320 кинофильмов и телесериалов. Все же картина предпочтений у 80% респондентов оказалась довольно размытой. Конкретные фильмы, на которых было бы сосредоточено внимание большинства, выделить непросто; это относится даже к культовым произведениям, вроде сериала «Семнадцать мгновений весны» (его упомянули в своих анкетах только 2,6% опрошенных). Тем не менее обращает на себя внимание бесспорное преобладание в списке предпочтений российских кинозрителей именно отечественных произведений. Зарубежная кинопродукция составила лишь около 10% списка, что, безусловно, вполне определенно характеризует предпочтения наших сограждан, по крайней мере применительно к эстетическому освоению исторической темы. Условный первый приз в этом негласном смотре самых популярных кинолент следовало бы отдать картине «Война и мир» (1965–1967 гг., режиссер С.Ф. Бондарчук). И это вполне объяснимо: здесь значимость изображенной эпохи, исторически точное отображение ее реалий, глубина философской мысли автора романа в сочетании с мастерством режиссера обеспечивают мощнейший синергетический эффект. На второе и третье места в списке зрительских симпатий практически на равных (4,2–4,3% голосов) вышли киноленты о Петре I и экранизация С.И. Ростоцким повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие».
Среди запомнившихся фильмов россияне особенно часто упоминали киноленты о Великой Отечественной войне. Они составили не менее пятой части определенного по результатам опроса списка. Это еще раз подтверждает тот факт, что подвиг советского народа в этой войне стал опорным элементом российской идентичности и занял центральное место в коллективной исторической памяти. В то же время тема Октябрьской революции и Гражданской войны, игравшая в советскую эпоху не менее важную роль, отходит на второй план. Названия соответствующих фильмов составили всего 6–7% списка любимых россиянами кинолент. Среди них явный лидер – «Тихий Дон» С.А. Герасимова, другие картины упоминались редко. Очень заметно практически полное равнодушие к так называемой кинолениниане. Несомненно, наши сограждане и сегодня считают Ленина великим историческим деятелем, но среди множества фильмов, где воссоздан его образ, участники проведенного в 2020 г. всероссийского опроса назвали только один – «Ленин в октябре», да и то вспомнили о нем всего несколько респондентов (не более 0,1% от общей их численности).
Если оставить в стороне тему Великой Отечественной войны, советская эпоха привлекает внимание российской аудитории, с одной стороны, благодаря кинолентам, запечатлевшим драматические эпизоды истории страны («Вечный зов», «Холодное лето 1953 года», «Утомленные солнцем», «Московская сага», «Зулейха открывает глаза», «Прощание с Матерой» и др.), а с другой – благодаря экранизациям биографий значительных личностей советского времени (Г.К. Жуков, С.П. Королев, Ю.А. Гагарин, Е.А. Фурцева, М.Л. Миль, И.В. Сталин, М.Т. Калашников и др.). Вошли в наш список и несколько авантюрно-детективных и «афганских» фильмов. Отметим, что из числа оптимистических, лирических и комедийно-лирических кинообразов советской эпохи в памяти закрепилось немногое. Причем все «позитивные» кинокартины того времени, за исключением по-прежнему популярных «Офицеров», занимают место лишь на периферии зрительских интересов.
Эстетизация истории в кинематографе
В противоположность этой тенденции в последнее время возник явственный интерес российских кинематографистов к романтической эстетизации отдельных периодов истории императорской России. Наряду с темой петровских преобразований, которую начиная с довоенного фильма режиссера В.М. Петрова «Петр Первый» разрабатывали и в советское время, в сценарный репертуар российского кино активно входят сюжеты из жизни и правления великих российских императриц XVIII в. – Елизаветы Петровны и Екатерины II. Здесь надо заметить: данная тенденция резонирует с настроениями киноаудитории, что подтверждает реакция наших респондентов на документальный телепроект «Романовы», который по рейтингу популярности занял место сразу вслед за выявленной в ходе нашего опроса тройкой лидеров отечественного исторического кино.
В свое время искусство, а в особенности искусство кино, сыграло решающую роль в формировании советской идентичности на уровне массового сознания. Именно искусство конструировало наглядные чувственные образы социальной реальности формирующегося нового мира, психологически не менее убедительные, чем реальность как таковая; используя оружие сатиры и оперируя в спектре эстетически непривлекательного и отталкивающего, искусство способствовало разрушению старых социальных моделей. Взамен экран, сцена, литературные произведения предлагали новые ценностные ориентиры и образцы поведения. В каком-то смысле искусство занималось «скрещиванием» утопии и действительности [Зябликов 2022], и создаваемые художественным воображением идеализации становились ориентирами и образцами для современников, определяя публично одобряемые черты их социальной самоидентификации.
Говорят, что советское искусство находилось под идейно-политическим контролем и следовало указаниям партийных инстанций. С этим не поспоришь, но это лишь одна сторона правды. Ведь «инстанции» и их указания в свою очередь претерпевали немалые, подчас коренные, изменения, особенно заметные с середины 1930-х гг. В чем причины этих изменений? Конечно, имели значение причудливые изгибы политической ситуации, логика борьбы как внутри страны, так и на международной арене. Однако только ли в этом дело? Никто ведь глубоко не исследовал, как, скажем, «Дни Турбиных» М.А. Булгакова или «Тихий Дон» М.А. Шолохова повлияли на мировоззрение И.В. Сталина, почему-то защитившего их от огульной рапповской критики, видевшей в этих произведениях «неприкрытую апологию белогвардейщины».
История на кино- и телеэкране
Переломным моментам в ходе истории неизменно сопутствует смена или, по крайней мере, реконструкция идентичностей. На протяжении семидесятилетней истории советского государства такие смены/реконструкции происходили несколько раз; при этом искусство, в особенности искусство экрана, благодаря своим специфическим возможностям всякий раз вносило огромный вклад в эстетическое оформление соответствующих идентичностям «картин мира», включая интерпретацию ключевых событий отечественной истории и создание выразительных образов исторических деятелей. Становление постсоветской России ожидаемо породило новый запрос на художественное воссоздание смыслов и образов, задающих как историческое, так и геополитическое измерение ее идентичности. Как и в какой мере удовлетворяется эта общественная потребность?
На исторические темы (включая недавнюю историю) снимают очень много фильмов. Список исторических экранных произведений, созданных после 1991 г., насчитывает не одну сотню названий. Некоторые из них стали заметными событиями в культурной жизни страны, были отмечены зрителями и кинематографическими наградами, стали довольно популярными («Адмирал», «Ликвидация», «Оттепель», «Легенда № 17»). Были и такие, которые вызвали немалый интерес у зарубежных медиакомпаний («Екатерина»).
Поток кинопродукции отчетливо делится на два полноводных русла: с одной стороны, это фильмы, предназначенные для кинопроката, с другой – телефильмы и телесериалы. Эти два экранных формата различны и по условиями восприятия, и по хронотопам событийных рядов, что существенно влияет на их соотношение в метрике реального исторического времени. Поэтому поэтика указанных форматов обнаруживает тенденцию к нарастающему расхождению. Сериал, обладающий значительно большим временем для развертывания сюжета, тяготеет к эстетике неспешных многоплановых экспозиций, обстоятельному рассказу о событиях, включая воспроизведение контекста, развитие побочных линий, проработку мотиваций и причинно-следственных связей. Соответственно, в этом случае история предстает многоплановой, а драматургия у вдумчивого и талантливого автора может сближаться с процессуальной логикой истории (или, по крайней мере, с нашим пониманием этой логики). Что касается прокатных фильмов, продолжительность которых ограничена, то в современных условиях кинопроизводства и кинодистрибуции проще действовать в рамках иной эстетической парадигмы, которая отражает не столько логику процессов, сколько логику нанизывания эпизодов. Содержательная связь между отдельными эпизодами имитирующего историю сценарного действия может даже быть лишь пунктирной – важнее быстрый импринтинг впечатлений.
Когда речь идет об исторических нарративах, создающих эстетически окрашенную коллективную картину мира, действуют оба способа репрезентации истории. Однако они работают неодинаково, создавая разноплановые социокультурные послания, воздействуя на разные аспекты идентичности. Скажем, телевидение в последние годы порадовало зрителя целым рядом добротных экранизированных биографий выдающихся россиян, которые составили своего рода галерею исторических портретов: «Жуков», «Брежнев», «Фурцева», «Шаляпин», «Вертинский», «Утесов», «Орлова и Александров», «Петр Лещенко. Всё, что было…», «Раневская», «Магомаев», «Людмила» и др. С достаточным основанием к удачным можно отнести и крупные творческие работы, темой которых стала сложная игра политических сил, определивших некоторые ключевые моменты в становлении российской государственности («София», «Годунов», «Петр Первый. Завещание»). Напротив, «большое кино» в последнее время добивалось наиболее впечатляющих результатов в художественном воплощении героических эпизодов, а также подпитывающих чувство национальной гордости взлетов и вершинных достижений, для отображения которых достаточно короткого времени («Двадцать восемь панфиловцев», «Девятаев», «Собибор», «Праведник», «Движение вверх» и т.п.).
Эстетизация истории и историческая правда
Надо сказать, что для советского исторического кино всегда было характерно стремление к верности исторических деталей, нередко доходившее до скрупулезного воспроизведения событий. Если, допустим, казачья посадка отличалась от общекавалерийской, то именно так, по-казачьи, и никак иначе, должны были у С.А. Герасимова держаться в седле герои «Тихого Дона». И мундирный прибор у них должен в точности соответствовать тому, какой был установлен именно для данного казачьего войска. В этом заключалось одно из важных условий соответствия художественной правды правде исторической.
Вторжение иностранного капитала и иностранных вкусов в отечественную киноотрасль в конце перестройки и в начале гайдаровских реформ едва не разрушило эту традицию (наряженные в соломенные канотье казаки и простоволосые замужние казачки в городских платьях – своего рода апофеоз внеисторичности и дурного вкуса), но, к счастью, этой тенденции удалось противостоять. Более того, в последнее время можно говорить о дальнейшем развитии отечественной традиции художественной правды, в частности, о формировании тенденции к эстетизации русского народного и государственного быта, включая Московскую Русь, которая, надо признать, привлекла к себе внимание только в последние годы. Следует напомнить прекрасно воссозданные интерьеры во многих российских исторических сериалах последних лет, замечательные работы некоторых художников по костюмам, в особенности Н. Салтыковой («София», «Грозный», «Годунов», «Романовы», «Шаляпин» и др.). Эти работы естественным образом вызывают эмоцию незаинтересованного любования, которую И. Кант считал главным признаком эстетического восприятия.
Тенденция эстетизации способствует более глубокому, чем это было характерно для советского времени, пониманию природы российской государственности и государственной идентичности, пониманию, которое приобрело смысловую связь с контекстами культуры и цивилизационным измерением истории. Для примера сравним образ Ивана Грозного в трактовке С.М. Эйзенштейна и на современном российском экране. С одной стороны – величественный образ демиурга нового великого царства, с другой – сложная ренессансная личность, в которой макиавеллизм и склонность к тирании противоречиво уживается с фаустовским началом, а образованность и искреннее увлечение просвещением – с характерным для титанизма эпохи Возрождения оргиастическим эпикурейством [Цыркун 2009]. Надо заметить, что любование по самой природе своей – неторопливый процесс, медленная эстетика.
Здесь возникает серьезная проблема различий в поколенческих субкультурах – различий, которые могут перерасти в социокультурные разрывы. Социологические исследования показывают, что российская молодежь, по крайней мере до 25–26 лет, воспринимает как историю, так и будущее России несколько иначе, чем среднее и старшее поколение [Андреев, Андреев, Слободенюк 2022]. По пересечении указанного возрастного порога межпоколенческие различия сглаживаются, но для самой младшей возрастной когорты они очень актуальны. Это касается и особенностей эстетического восприятия: нетрудно заметить, что медленная эстетика молодежи не подходит, и не секрет, что исторические сериалы смотрят в подавляющем большинстве телезрители старшего поколения. Возникает общественно значимая социокультурная проблема, требующая решения, в том числе путем поиска новых художественно-эстетических форматов, которые позволили бы сблизить опыт разных поколений на общей основе исторической правды. Есть, однако, сомнения в том, что эта задача достаточно ясно осознана и тем самым в полной мере подготовлена для творческой разработки.
Не обращаясь к данной проблеме во всей ее полноте и противоречивой сложности, отметим один ее важный аспект – необходимость возможно более полно использовать эстетический потенциал многовековой русской истории и, соответственно, преодолеть застарелую ее деэстетизацию, которая не обошла и художественную практику. Об этом в свое время писал Н.М. Карамзин: «Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только Русских, но и чужестранцев…» [Карамзин 1984].
Призыв знаменитого историка не остался неуслышанным: с конца 1820-х гг. на основе принципа народности происходит становление русского исторического романа, формируются так называемый русско-византийский и вслед за ним неорусский стиль в архитектуре, а несколько позже приходит пора расцвета русской исторической живописи и оперы. Безусловно, советская эпоха внесла свой вклад в художественную разработку исторической темы и конструирование исторически обоснованной идентичности. Та модель идентичности, которую эстетически оформляло советское искусство, имела достаточно солидную историческую составляющую с опорой на разработанную советскими марксистами концепцию развития России начиная с Киевской Руси. Надо заметить, что советская идентичность, имея под собой некоторое общее основание, отнюдь не была единообразной; ее дифференциация часто проявлялась именно как различия в эстетической маркировке тех или иных жизненных стилей, эпох и исторических персонажей. Скажем, в деревенской прозе или в фильмах В.М. Шукшина эстетически маркированы иные смысловые аспекты идентичности, чем в городском романе, и уж тем более в программной литгазетовской статье А.Н. Яковлева «Против антиисторизма» 1972 г.
Советский исторический нарратив и российская идентичность
За несколько десятилетий совместное влияние школы, экрана, литературных произведений, а также монументального искусства прочно закрепило в общественном сознании образы и понятия советского исторического нарратива в различных его вариантах. По сути, они и сегодня во многом определяют культурно-психологический фон современной российской идентичности и парадигмы национального самосознания. Однако в какой мере такое положение вещей соответствует вектору развития России как государства-цивилизации?
Этот вопрос не преследует цель подвергнуть советскую реконструкцию хода истории разоблачительной критике. В конце концов любое отражение действительности в мышлении неполно и не охватывает всего ее многообразия, а социальные и исторические представления подвержены, кроме того, не всегда вполне осознаваемым идеологическим искажениям, и советский нарратив в этом отношении отнюдь не исключение. Вопрос в другом – в сопряжении концептуальных схем, выстраиваемых мышлением, в формировании активной исторической субъектности и соответствующей идентичности. Говоря проще, речь идет о понимании интегральной сути момента и вытекающем отсюда целеполагании, которое задает, помимо прочего, эстетические установки и общий вектор творческой деятельности.
Понятно, что тенденции, определяющие интегральную социально-историческую ситуацию, сегодня совсем иные, чем в советское время, не исключая и его завершающего периода. Вскоре после самоликвидации СССР и советского блока известный американский политический аналитик С. Хантингтон предсказал смещение фронта политических противоречий и социальных конфликтов к линиям, разделяющим различные цивилизации. Идентичность на уровне цивилизации становится все более важной [Хантингтон 1994]. И хотя главная мысль Хантингтона о грядущем тотальном конфликте цивилизаций оказалась чересчур прямолинейной, дальнейший ход событий показал, что цивилизационные различия действительно начинают играть ведущую роль в архитектонике формирующегося на наших глазах будущего. Видимо, следует смягчить предложенную Хантингтоном формулировку: речь должна идти не о конфликте, а о самоопределении цивилизаций, включая их функциональную специализацию [Андреев 2015].
Похоже, российские политические элиты методом проб и ошибок пришли к аналогичным выводам. Во всяком случае в последнее время мы наблюдаем целый ряд последовательных шагов, направленных на укрепление российской идентичности, причем не только как непосредственного стихийного чувства, но и в форме понимания исторически определенных особенностей России как государства-цивилизации. В частности, с 2023/2024 учебного года в вузах страны был существенно расширен курс истории и введен новый учебный предмет «Основы российской государственности». Благодаря популярным масштабным выставочным проектам (Исторические парки «Россия – моя история», Международная выставка-форум «Россия» и др.) активно формируется и наглядно-образный компонент идентичности. Использование в экспозициях произведений изобразительного искусства наделяет выставочные форматы яркой и выразительной эстетической составляющей. Тем не менее это все же эстетика статичных образов, а для того, чтобы одушевить и раскрасить событийно-процессуальную сторону истории, нужна эстетика действования, то есть прежде всего театр и кино, а также другие экранные искусства.
Однако экранные искусства довольно сильно отстают от изменения общественного интереса. Да, в эстетике исторического фильма в последние четверть века наметился заметный прогресс, расширился тематический и жанровый диапазон исторических фильмов и телесериалов, хотя остались значительные лакуны. Они охватывают ключевой для понимания всей новейшей российской истории период, когда в России началось формирование индустриального общества, а сама она превращалась в своего рода несущую конструкцию евразийского геополитического пространства (хартленд). Конечно, представить в художественных образах золотой век Елизаветы или Екатерины, снять романтическое кино о фаворитах великих императриц – задача в чисто эстетическом плане более простая, а с точки зрения привлечения массового зрителя более благодарная, чем художественно осмыслить, к примеру, деятельность Николая I или Александра III. Еще сложнее становится задача, когда речь идет о последнем российском императоре Николае II – фигуре внешне, конечно же, не столь импозантной, как его отец и прадед, но в то же время, на наш взгляд, не только психологически весьма интересной, но и объективно недооцененной. Достаточно сказать, что именно при нем Россия, наряду с США, стала мировым лидером по темпам развития системы образования (как, впрочем, и по ее качественным характеристикам) [The Transformation… 1982, 12–18]. Безусловно, в образах императорской России последних десятилетий ее существования можно найти предмет эстетического любования: вспомним, к примеру, какое сильное эмоциональное впечатление на великого В.И. Сурикова произвел богатырски величественный облик Александра III. Исключительный эмоциональный отклик вызывали неорусский стиль, эстетика всероссийских художественно-промышленных выставок, воспетое на полотнах Б.М. Кустодиева и фотографиях С.М. Прокудина-Горского широкое многоцветье народной жизни. Все это огромный, но лишь эпизодически используемый в наших экранных произведениях эстетический ресурс, позволяющий объемно, стереоскопически представить себе реальную российскую повседневность последних десятилетий существования империи.
Мы видим здесь социокультурную проблему, причины которой было бы полезно понять. Очевидно, что немалую роль в данном случае играет инерция стереотипов, сформированных в русле официально принятой в советское время трактовки отечественной истории. Николай I? Ну, понятно: «Николай Палкин», «царь с зимними глазами», безжалостно расправился с такими светлыми, романтичными молодыми людьми – декабристами, а заодно ещё с петрашевцами и Тарасом Шевченко, пытался соблазнить жену Пушкина и едва ли не сам подстроил его роковую дуэль, насаждал шагистику и шпицрутены, преследовал свободомыслие, из жизни же ушел, потерпев сокрушительное поражение в Крыму. Александр II? Да, провел уже назревшие реформы, но как бы нехотя, да и основную выгоду от этого получили только помещики. Александр III? Ограниченный субъект, националист и реакционер («контрреформы» и т.д.). О Николае II и говорить нечего – ничтожная личность, только и знал, что стрелять по воронам, а страну упустил. Примерно в том же духе, за единичными исключениями, оценивался и вклад государственных деятелей России XIX – начала ХХ в. Между тем обаяние империи последних десятилетий ее существования – объективный факт, и, как ни парадоксально, ее привлекательный образ даже трансформировался в значимый фактор мягкой силы СССР. Известный польский историк русской философии А. Валицкий, хорошо знакомый с англоязычной интеллектуальной средой, отмечал, что почти для всего принимавшего активное участие в идеологических битвах холодной войны старшего поколения западных советологов было характерно своеобразное ретроспективное русофильство, которое выражалось в стремлении освободить историческую Россию от коммунизма [Переписка… 2022]. Вопрос об эстетическом восприятии «обаяния империи» И.В. Сталиным и некоторыми его соратниками пока открыт.
Вместе с тем изображение истории пореформенной, предреволюционной, да и послеоктябрьской России осложнено крайней противоречивостью происходивших в то время социальных процессов, противоречивостью, которая в конечном счете приняла трагический характер. В данном случае возникает ситуация, когда этически и эстетически привлекательными могут быть разные (а порой и все) стороны трагических конфликтов, и потому к ней совершенно не подходят одномерные оценки противоборствующих сил, тем более что и фронты противостояния постоянно менялись. Представить такую сотканную из подвижных противоречий реальность, не погрешив против исторической и художественной правды, можно, видимо, только дистанцируясь от пронизанной трагическими противоречиями реальности. Речь идет о возрождении традиций масштабного эпического реализма, примеры которого дает творчество классиков отечественного кино – С.А. Герасимова, С.Ф. Бондарчука, Г.Л. Рошаля. Заметим, кстати, что потенциал этого метода художественного осмысления остро проблемных исторических явлений и событий подтверждает опыт современного китайского кино – в особенности творчество одного из самых известных китайских кинорежиссеров Фэн Сяогана.
Ныне, по крайней мере в «респектабельной» части интеллектуального пространства, сформированный в советское время образ старой России стал восприниматься как анахронизм. Да и в массовом сознании явно наметился пересмотр вклада последних российских императоров в развитие страны – их роль оценивают не ниже, чем советских лидеров, не исключая В.И. Ленина [Историческое сознание… 2022]. Однако одно дело отринуть очевидно тенденциозные стереотипы и совсем другое – создать в противовес им совершенно новый по эстетической модальности образ. Для этого нужно преодолеть психологический барьер, что требует не только неординарных творческих усилий, но и интеллектуальной смелости, поскольку в преодолении привычного часто срабатывает некое внутреннее торможение, провоцирующее неуверенность в себе.
Пока в экранных искусствах, театре, а в значительной степени и художественной литературе (если только не принимать во внимание литературные биографии из серии ЖЗЛ) этот барьер все еще не преодолен, что препятствует художественному освоению истории Российского государства-цивилизации как целостного процесса, этапы которого связаны отнюдь не только логикой диалектического снятия определенного качества (от тезиса к антитезису), но и логикой преемственности (наличие такого типа связи, кажется, не в полной мере осознавали Гегель и Маркс). Без такого освоения отечественной истории на всем ее протяжении, без эстетической эмпатии, которая распространялась бы и на противоречивый период поздней империи, трудно в полной мере рассчитывать на формирование чувства сопричастности стране.
1 Аналитический обзор ВЦИОМ. 27.03.2023.
About the authors
Andrey L. Andreev
Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences; National Research University of the Moscow Power Engineering Institute
Author for correspondence.
Email: Sympathy_06@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1692-573X
Doctor of Sciences (Philosophy), Professor, Chief Research Fellow, Institute of Sociology of the Federal Scientific Research Center in Sociology of the Russian Academy of Sciences; Professor, National Research University, Moscow Power Engineering Institute
Russian Federation, Moscow; MoscowTatiana V. Kuznetsova
Lomonosov Moscow State University
Email: 89163805403@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8062-8495
Doctor of Sciences (Philosophy), Professor, Philosophical Faculty
Russian Federation, Building 4, Lomonosov prospect, 27, Moscow, 119234References
- Андреев А.Л. (2015) Специализация цивилизаций и аттракторы мирового развития // Общественные науки и современность. № 1. С. 139–147. / Andreev A.L. (2015) Specialization of civilizations and attractors of world development. Obschestvennye nauki i sovremennost, no. 1, pp. 139–147.
- Андреев А.Л., Андреев И.А., Слободенюк Е.Д. (2022) Представления россиян о будущем России // Социологические исследования. № 10. C. 49–61. / Andreev A.L., Andreev I.A., Slobodenyuk E.D. (2022) Representations of Russians about the future of Russia. Socis, no. 10, pp. 49–61.
- Зябликов А.В. (2022) Формирование советской идентичности средствами отечественного кинематографа в 1920-е – 50-е гг.: к постановке проблемы // Вестник Костромского государственного университета. Т. 28. № 3. С. 52–62. / Zyablikov A.V. (2022) The formation of Soviet identity by means of domestic cinema in the 1920s – 50s: towards the formulation of the problem. Vestnik Kostromskogo Gosudarstvennogo Universiteta, vol. 28, no. 3, pp. 52–62.
- Историческое сознание россиян: оценки прошлого, память, символы (2022). М.: Весь мир. 248 с. / Istoricheskoe soznanie rossiyan: ocenki proshlogo, pamyat’, simvoly [The historical consciousness of Russians: assessments of the past, memory, symbols] (2022). M.: Ves mir. 248 p.
- Карамзин Н.М. (1984) Письма русского путешественника. Л.: Наука. 718 с. / Karamzin N.M. (1984) Pis’ma russkogo puteshestvennika [Letters of a Russian traveler]. Leningrad: Nauka. 718 p .
- Переписка Анджея Валицкого и М.А. Маслина (2022) // Историко-философский альманах. Вып. 7. М.: Изд. Воробьёв А.В. С. 159–200. / Perepiska Andzheya Valickogo i M.A. Maslina [Correspondence of Andrzej Walicki and M.A. Maslin] (2022). In: Historical and philosophical Almanah. Is. 7. Moscow: Ed. Vorobyov A.V. Pp. 159–200.
- Флигстин Н., Макадам Д. (2022) Теория полей. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 462 с. / Fligstin N., Makadam D. (2022) Teoria poley [Theory of fields]. Moscow: Vysshaya Shkola ekonomiki. 462 p.
- Хантингтон С. (1994) Столкновение цивилизаций? // Полис. Политические исследования. № 1. С. 33–48. / Huntington S. (1994) Clash of Civilizations? Polis, no. 1, pp. 33–48.
- Цыркун С. (2009) «Очень приятно, царь». «Иван Грозный», режиссёр Андрей А. Эшпай // Искусство кино. № 5. (https://old.kinoart.ru/archive/2009/05/n5-article9). / Tsyrkun S. (2009) “Very nice, tsar”. “Ivan the Terrible”, directed by Andrey A. Eshpai. Iskusstvo kino, no. 5. (https://old.kinoart.ru/archive/2009/05/n5-article9).
- The Transformation of Higher Learning. 1860–1930 (1982) / Ed. by K. Jarausch. Stuttgart: Klett-Cotta. 375 р.
Supplementary files