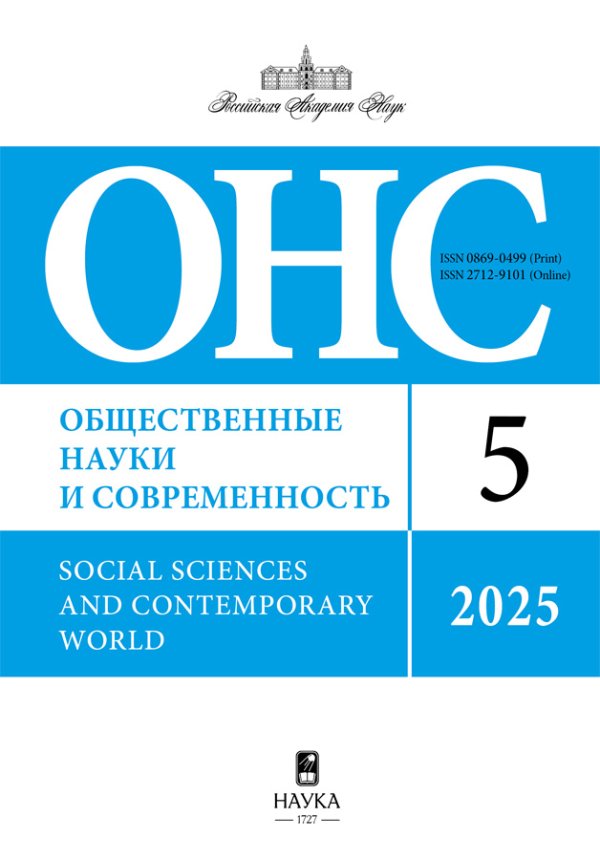Detective stories of cross-media narratives of political news... (the “Skripal case”)
- Authors: Radina N.K.1, Andriyanova M.O.2
-
Affiliations:
- Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod – National Research University
- National Research University Higher School of Economics
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 72-85
- Section: Media studies
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-0499/article/view/281121
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869049924050061
- EDN: https://elibrary.ru/JUSYEV
- ID: 281121
Cite item
Full Text
Abstract
The study analyzes detective narratives in Russian and British media about the “Skripal case.” The methodological basis is the understanding of political news in the context of agenda theory, the interpretation of mass media discourse as a cross-media narrative and the frame of a literary detective (to analyze the case of a spy detective story). The aim is to characterize the framing features of cross-media detective stories about political events in the media of Russia and the UK and the narrative form of media influence. The research materials included 1,510 Russian-language texts and 588 English-language texts identified by keywords from March to December 2018. The frequency of word usage was applied as an analysis tool. As a result, it was found that the Russian media is dominated by a focus on “documentary”, while the British mass media present news narratives consistent with the frames of literary spy detective stories. It is concluded that media framing used by the British media activates literary reception, the imagination of the reader of political news, and involves him/her in the spy story. It is emphasized that in the information competition of Russian and foreign media, Russian mass media need to develop strategies for the production of news narratives which could be more attractive in a comparative context without losing factuality and connection with reality.
Keywords
Full Text
Ресурсы массмедиа как инструмента в управлении большими группами, массами являются ключевым фактором жизнедеятельности демократического общества. Если авторитарные режимы, используя принуждение физическим насилием, имеют широкую линейку инструментов воздействия на население, при демократических режимах необходимо профессионально владеть меньшим количеством инструментов, опираясь на убеждение, а не силовое принуждение [Alves 2014], то есть «брать не числом, а умением».
Цифровизация медиа, технологически изменившая массмедийный ландшафт, не только сформировала «новые медиа» (блоги, социальные сети и т.п.), но и изменила «старые»: в настоящее время все печатные СМИ, как правило, имеют цифровые площадки, формируют смешанные стратегии донесения информации до читателей. Изменились формы медийного информирования, а вместе с этим система понятий для означивания новой реальности. К. Молони представляет новые понятия, характеризующие изменения медийного пространства, в виде формул [Moloney 2014]:
- мультимедиа – одна история, много форм, один канал;
- кроссмедиа – одна история, много каналов;
- трансмедиа – один мир историй, много историй, много форм, много каналов.
Изменились требования к характеру информационного воздействия. В исследованиях и в информационной практике в отношении медийного материала все чаще используют термин «нарратив» для обозначения целенаправленной аффективной формы общения. Нарративы содержат истории, акторов, сцены для воспроизводства культурной самобытности сообщества, «конструируют реальность» [Maggs, Chabay 2022] и состоят из трех компонентов: (1) сообщения, передаваемого посредством повествования, истории; (2) особенностей подачи материала (как рассказывают, о чем умалчивают), (3) силы резонанса и значимости, которую нарративы занимают в представлениях получателей [Helgeson, Glynn, Chabay 2022]. Нарративы вообще и медийные нарративы в частности в исследованиях предстают как материал для репрезентации идентичности индивидов и групп [Heersmink 2020], поэтому они не просто информируют читателей медиа, а «работают» на поле мы-идентичности общества.
Медийные новостные нарративы: медиафрейминг и литературная рецепция
Ежедневные новости в СМИ изменили представление о новостях как о чем-то случайном, трансформировали восприятие новостей в контексте профессиональных компетенций журналиста, сформировали правила создания новостей [Алгави, Кадырова, Расторгуева 2017]. Новости стали очередным инструментом конструирования окружающей реальности и в этом контексте – инструментом пропаганды. Опираясь на модель Хермана–Хомского в понимании пропаганды [Pedro-Carañana, Broudy, Klaehn 2018], производство новостей в медиа можно рассматривать как способ развлечения и отвлечения от политической активности, как способ предложить интерпретацию реальности, объединяющую общество в консенсусе, предотвратить социальные кризисы и недовольство [Радина 2023].
С точки зрения действенности пропаганды в СМИ создается не просто новостной дискурс как языковое пространство коммуникации (продукт речевой деятельности и тематический коммуникативный контекст) [Добросклонская 2017], а непрерывно производятся новостные нарративы (истории), способные интегрироваться в идентичность получателей новостей и формировать их картину мира (отвлекать или мобилизовать в контексте политических задач).
В обзорных статьях о медиаисследованиях нарративный подход («сторителлинг» – рассказывание историй) и медиафрейминг рассматривают как независимые способы медиавоздействия [Сарна 2020], однако, по сути, любая история (любое повествование) выстраивается по особым правилам, то есть имеет в основе некую схему (фрейм), создается по правилам фреймирования истории. В литературоведении фреймирование находится в исследовательском фокусе, когда речь заходит о правилах создания литературных произведений различных жанров, например, детективов [Флистова 2007]. Таким образом, литературный детектив можно рассматривать и с точки зрения нарративного подхода (как историю о преступлении и наказании), а также в контексте фрейм-анализа – как художественный текст, созданный по определенным правилам.
Детективы, однако, не только литературные истории. Новостные СМИ практически без остановки создают медийные нарративы о расследованиях, преступлениях, шпионских скандалах. Фигурантами медийных детективов в разное время становились известные лица, так или иначе связанные с политикой: журналист Дж. Ассанж, семья Скрипалей (С. Скрипаль – бывший сотрудник ГРУ), бывший сотрудник ЦРУ Э. Сноуден, экс-президент Франции Н. Саркози, экс-президент США Д. Трамп и т.д. При этом медийные детективы в СМИ – это типичные кросс-медийные нарративы, когда история о преследовании оказывается распределенной и во времени, и по различным медиа.
Читатели медиа, вовлеченные в наблюдение за тем, как разворачивается история медийного расследования и повествования, включены в литературную рецепцию – феномен, объясняющий, как читатель интерпретирует и понимает читаемый художественный текст [Эко 2005]. Знакомый с фреймом детектива по художественной литературе получатель новостей считывает и интерпретирует новости-детективы, ищет дополнительную информацию, создавая в воображении (на основе реальных событий из новостей) художественный образ «реальной политики». Можно предположить, что захватывающее фантазию получателя новостей изложение детективного повествования является идеальным продуктом в контексте медиа-пропаганды, поскольку, создавая воображаемую реальность политических драм, СМИ трансформируют героев детективов (как бы превращая реальных людей в литературных персонажей).
Цель данной статьи – охарактеризовать особенности фреймирования кроссмедийных детективов о политических событиях в СМИ России и Великобритании, а также обсудить возможный потенциал нарративной формы кроссмедийного медиавоздействия.
Методы и методология исследования
В качестве политических новостей в данном исследовании понимаются тематические публикации, касающиеся любых аспектов политической жизни (внутриполитической или внешнеполитической), которые СМИ считают наиболее значимыми на момент их обнародования в контексте теории «установления повестки дня» [Гуо, Тьен, МакКомбс 2019]. Убедительность политических новостей достигается путем обращения к нарративной форме, то есть к созданию «медийных историй» о событиях в новостях.
Проведение сравнительного анализа при изучении медийных детективов предполагает выбор истории (нарратива), равноценно представленного в медийном дискурсе изучаемых стран. Для данного исследования (СМИ России и Великобритании) таким медийным нарративом стала история «отравления» семьи Скрипалей (Сергея, бывшего разведчика, и его дочери Юлии). Поскольку изучаемая детективная история распределена во времени и представлена на различных медиаплощадках, «история Скрипалей» служит примером кроссмедийного нарратива (детектива), а артикулированный статус «бывшего разведчика» как героя нарратива реконструирует внешнеполитический дискурс публикаций.
Инцидент, который вошел в массмедиа-историю как «дело Скрипалей», произошел 4 марта 2018 г. в Солсбери (Великобртания). Согласно версии британского следствия, бывший разведчик ГРУ, осужденный в РФ за государственную измену, полковник С. Скрипаль и его дочь Ю. Скрипаль подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок» 1.
Теоретическая рамка исследования – фрейм-анализ в литературоведческом изложении (то есть как фрейм-анализ детективного повествования) [Ермоленко 2015, Лесков 2005]. Фрейм литературного детектива является фрейм-сценарием, то есть содержит ролевой подфрейм и событийный подфрейм. Слоты ролевого подфрейма: сыщик, преступник, жертва и свидетель. Слоты событийного подфрейма: преступление, тайна, расследование и наказание [Флистова 2007].
Поскольку изучаемый кроссмедийный детектив репрезентирует расследование преступления, совершенного в отношении бывшего российского разведчика на Западе, при анализе материала принимались во внимание литературные каноны, связанные с шпионскими детективами в художественной литературе, а именно акцент на образе политического врага (известного до расследования), заостренная этическая поляризация («мы» – хорошие, «они» – плохие) и обязательная победа над врагом («хэппи-энд») [Норец 2013].
Материалом исследования стали тексты массмедиа, доступные в цифровом формате в сети Интернет:
- русскоязычных российских цифровых и гибридных СМИ (1510 текстов, 371173 слов, 3079427 знаков), из 122 медиаисточников («Вечерние ведомости», «Москва–Баку.ru», «РБК Лента новостей», «РосБалт», «Татар-информ», «Aif.ru» и др.: коллекция текстов на основе ключевого слова «Скрипаль»);
- англоязычных британских цифровых и гибридных СМИ (588 текстов, 680363 слов, 4100613 знаков) из 41 медиаисточникa («The Guardian», «CNBC», «Economist», «Global News» и др., коллекция текстов на основе ключевого слова «Skripal») за период с марта по декабрь 2018 г.
Инструменты сбора и анализа эмпирики – методы корпусной лингвистики, в качестве основного инструмента анализа применялась частотность словоупотреблений с использованием индекса ipm (Instances per Million – количество употреблений на миллион слов), на базе программного обеспечения Python, AntConc и Microsoft Office Excel.
Исследование, опирающееся на методы компьютерной лингвистики, было спланировано в русле количественного подхода. Так, для анализа использовалось не любое упоминание какого-либо факта в тексте, а исключительно распространенное упоминание, то есть в качестве материала для анализа выступали лексемы, обладающие высокими показателями ipm (высокий ipm указывает на то, что частотная лексема встречается в доминирующем большинстве текстов).
В ходе исследования на основе программного обеспечения AntConc в массиве текстов (две коллекции текстов – русскоязычная и англоязычная, сформированные на основе ключевого слова «Скрипаль»/«Skripal») была подсчитана частотность всех лексем (частотность словоупотребления). Далее анализировались только лексемы с частотностью ipm выше значений, представленных в НКРЯ 2 (Национальный корпус русского языка). Среди частотных лексем в каждой коллекции были отобраны те, которые соответствовали элементам ролевого подфрейма (сыщик, преступник, жертва и свидетель) и событийного подфрейма (преступление, тайна, расследование и наказание). Результаты классификации представлены в сравнительных таблицах и проанализированы.
Было высказано предположение, что российские и британские СМИ, создавая детективные нарративы, могут воспроизводить литературный канон детектива, то есть в кроссмедийных нарративах (как в российских, так и британских СМИ) при помощи инструментов корпусной лингвистики можно идентифицировать релевантный лингвистический материал и реконструировать фрейм-сценарий литературного детектива (с ролевым и событийным подфреймами).
Детектив о Скрипалях в российских и британских массмедиа
Литературный канон детектива, прежде всего непосредственно фрейм детектива, и в ролевой, и в событийной логике, на первый взгляд, механистично отражает преступление и расследование с точки зрения социальной реальности. Преступник, жертва, свидетель и сыщик – набор основных ролей в социальном фрейме преступления и в писательском детективе. Однако событийная логика отличает социальный фрейм от литературного канона в художественной литературе. Для социального фрейма событийный подфрейм – преступление, расследование и наказание, а литературный событийный подфрейм детектива включает как обязательный компонент еще и «тайну» (конкретизированную в описании психологии преступника, его мотивов и особенностях планирования преступления) [Флистова 2007].
Таким образом, согласно литературному фрейму, событийная канва детектива должна выстраиваться в логике: преступление – тайна – расследование – наказание. Что касается кроссмедийных нарративов в России и Великобритании, то литературный фрейм детектива российские массмедиа воспроизводили условно (документальность истории в российских СМИ больше соответствовала не литературному детективу, а описанию полицейского расследования).
Слот «Преступлен́е», который раскрывал события, связанные с покушением (через «отравление») на семью бывшего разведчика Скрипаля, для российских СМИ включал тексты за март (с 5 марта по 12 апреля 695 публикаций о покушении). Британские СМИ собственно о покушении писали в первой половине марта (с 5 по 14 марта 97 публикаций о покушении), а во второй половине марта перешли к обвинениям, не подкрепленным расследованием (с 15 марта по 23 мая 228 публикаций с обвинениями до расследования).
Активность в обвинениях до расследования со стороны британских медиа раскрывала медийные действия с обсуждением мотивации и интереса Российской Федерации к данному «отравлению» (британские СМИ использовали факт покушения для реконструкции образа коварного врага в лице России), отражая такой слот литературного детектива, как «Тайна».
Слот «Расследование» представлен российскими публикациями о всех этапах расследования (собственно о расследовании с 13 апреля по 1 июля 388 публикаций; о показаниях свидетелей с начала июля до начала сентября – 177 публикаций и 208 статей с начала сентября до начала декабря о подозреваемых). В британских СМИ с конца мая до начала декабря расследование представлено в 240 публикациях (116 текстов вообще о расследовании и 124 текста конкретно о подозреваемых-отравителях – российских гражданах А. Петрове и Р. Боширове).
Слот «Наказание» в изучаемой версии медийного детектива как самостоятельный слот представлен не был, поскольку обвинение и наказание российскому государству британская сторона вынесла до окончания расследования: летом 2018 г. в России и в Великобритании появились публикации, разъясняющие, что по итогам «дела Скрипалей» против РФ со стороны США и Великобритании были введены санкции. Иначе говоря, в медийном детективном нарративе слот «Наказание» был наложен на слот «Расследование» (наказание объявлено до окончания расследования). Позднее, в 2019 г., пакеты санкций обновлялись и дополнялись, а их мишенью стало российское государство в целом.
Подобная этическая поляризация и лишение презумпции невиновности обвиняемой стороны свидетельствует в пользу предположения, что «дело Скрипалей» (преимущественно в британских массмедиа) представлено по лекалам фрейма литературного детектива, точнее – шпионского детектива, характеризующегося этической поляризацией и реконструкцией образа врага.
Поскольку ролевой подфрейм для фрейма литературного детектива составляет важную часть общего фрейма, были реконструированы ролевые подфреймы на материалах российских и британских СМИ согласно списку возможных ролей в детективе (с учетом частотности словоупотреблений в текстах возможных претендентов на исполнение той или иной роли ролевого подфрейма). Логически они были объединены с этапами, поскольку в реальной жизни у слотов литературного фрейма детектива присутствует временная логика (см. таблицу 1).
Таблица 1
Реконструкция ролевого подфрейма в кроссмедийных нарративах-детективах на основе частотности словоупотреблений (ipm)
Table 1
Reconstruction of the role subframe in cross-media detective narratives based on the frequency of word usage (ipm)
Слоты и этапы | Российские массмедиа | Британские массмедиа |
«Преступление» | Юлия [Скрипаль] (ipm 6345), Сергей [Скрипаль] (ipm 6328), британские [власти]/ [власти] Великобритании (ipm 1047), Российское [государство] (ipm 655), двоюродная [сестра] (ipm 393) | sergei [skripal] (ipm 1098), [theresa] may (ipm 996), [skripal] daughter (ipm 826), russian [state] (ipm 596), british [government] (ipm 212) |
«Тайна» | – | sergei [skripal] (ipm 791), [theresa] may (ipm 754), yulia [skripal] (ipm 505), russian [state] (ipm 337), british [government] (ipm 274) |
«Расследование» с элементами «наказания» | Сергей [Скрипаль] (ipm 5568), [Петров] и [Боширов] (ipm 4316), Виктория [Скрипаль] (ipm 2843), [дочь] Юлия (ipm 1912), британские [власти]/британская [сторона] (ipm 2145), Российское [государство] (ipm 961) [Владимир] Путин (ipm 491) | [sergei] skripal (ipm 988), [theresa] may (ipm 850), russian [state] (ipm 573), [alexander] petrov (ipm 498), [theresa] may (ipm 481), skripal daughter (ipm 443), [ruslan] boshirov (ipm 407), [charlie] rowley (ipm 318) |
Источник: составлено авторами
Source: compiled by the authors
Анализ частотности словоупотреблений в разделенной на слоты/этапы коллекции текстов показывает, что основные роли в литературном детективе: преступник, жертва, свидетель, сыщик – в кроссмедийных детективах были представлены, однако не повторяют буквально логику художественных произведений.
Жертва «отравления» (точнее жертвы – С. Скрипаль и его дочь Юлия) наиболее активно фигурировали на этапе описания факта преступления (слот «Преступление»): Юлия [Скрипаль] (ipm 6345), Сергей [Скрипаль] (ipm 6328) в российских медиа и sergei [skripal] (ipm 1098), [skripal] daughter (ipm 826) – в британских.
На роль свидетелей в российских и британских СМИ были «назначены» разные лица. В российских СМИ «свидетелем» выступила родственница С. Скрипаля (представитель семьи), находящаяся на территории РФ: двоюродная [сестра] (ipm 393) (слот «Преступление»), Виктория [Скрипаль] (ipm 2843) (слот «Расследование»). Виктория как член семьи Скрипалей была доступна российским СМИ, однако находилась в России и фактически не была свидетелем «отравления». В британских СМИ свидетелями выступали выжившие «случайные жертвы» другого отравления ([charlie] rowley (ipm 318), слот «Расследование»). Фактически роли «свидетель» и «жертва» были смешаны, что придавало достоверности суждениям свидетелей независимо от того, что речь шла о другом преступлении.
Роль преступника также по-разному была разыграна в российских и британских кроссмедийных нарративах. В российских СМИ транслировалась версия с обвинением А. Петрова и Р. Боширова (лица со статусом то ли туристов, то ли разведчиков: [Петров] и [Боширов] (ipm 4316) (слот «Расследование»: примечательно, что эти две фигуры всегда представлялись в связке). В британских СМИ А. Петров и Р. Боширов фигурировали как исполнители преступления, но также активно обвинялась «преступная российская сторона» как организатор преступления.
Роль сыщика в российских и британских СМИ была расписана по-разному, однако и в британских, и в российских СМИ шло расследование (что, например, обусловило активное включение в нарратив фигуры псевдосвидетелей в британских и представителя семьи Виктории Скрипаль в российских СМИ), то есть на роль сыщика претендовали сами массмедиа. Именно СМИ после собственных расследований опубликовали «подлинные имена» подозреваемых в «отравлении».
Кроме того, в кроссмедийном нарративе фигурировала роль обвинителя – нетипичная для литературного детектива. Эта роль особенно активно была представлена в историях британских СМИ (обвинения в адрес России звучали с британской стороны, кроме того, премьер-министр Великобритании в 2018 г. Тереза Мэй выступала за санкции в адрес РФ до окончания расследования). В российских СМИ обвинения опровергали, звучали претензии к Великобритании, скрывающей факты, выявленные при расследовании дела Скрипалей.
Таким образом, ролевой список литературного детектива в ключевых позициях (преступник, жертва, свидетель, сыщик) вполне угадывается в детективном кроссмедийном нарративе российских и британских СМИ, при этом роль сыщика (ведущего расследование) отчасти выполняют непосредственно СМИ. В то же время отличия между российскими и британскими медиа просматриваются в особенностях конструирования роли: российские массмедиа пытаются привлечь факты (например, в отсутствие доступа к материалам следствия привлекают родственников жертвы на территории России), а британские СМИ творят, конструируют повороты сюжета, опираясь в большей степени на фантазию, нежели факты (в роли свидетелей оказались жертвы другого преступления, которое СМИ без доказательств связали с «делом Скрипалей»). Нетипичной характеристикой фрейма детектива кроссмедийного нарратива (с точки зрения фрейма литературного детектива) является плавающая позиция слота «Наказание»: российское государство было обвинено до завершения расследования и «наказано» санкциями на этапе расследования. Кроме того, российские СМИ активнее британских транслировали версию с россиянами А. Петровым и Р. Бошировым в качестве подозреваемых (ipm у данных лексем в российском дискурсе значительно выше, что также трактуется в пользу поиска фактологичности), а в британских акцентирована фигура премьер-министра Терезы Мэй, поддерживающей санкции против России из-за «дела Скрипалей».
Событийный подфрейм задает логику описания событий преступления, расследования и наказания. Как и в случае с ролевым подфреймом, были выделены наиболее частотные лексемы, описывающие событийную канву детектива в российских и британских СМИ (табл. 2).
Таблица 2
Реконструкция событийного подфрейма в кроссмедийных нарративах-детективах на основе частотности словоупотреблений (ipm)
Table 2
Reconstruction of the event subframe in cross-media detective narratives based on the frequency of word usage (ipm)
Слоты и этапы | Российские массмедиа | Британские массмедиа |
«Преступление» | [в] солсбери (ipm 3508), нервно-паралитическое [вещество] (ipm 800), [были] отравлены (ipm 1386), критическое [состояние] (ipm 884) | chemical [weapons] (ipm 723), [alexander] litvinenko (ipm 459), [national] security (ipm 332), [counter] terrorism (ipm 306) |
«Тайна» | chemical [weapons] (ipm 1498), nerve [agent attack] (ipm 432), russian [diplomats] (ipm 402), salisbury [attack] (ipm 380) | |
«Расследование» с элементами «Наказания» | [в] Солсбери (ipm 4401), [были] отравлены (ipm 2122), [категорически] отрицает (ipm 1407), видеообращение [Юлии] (ipm 905), [международный] скандал (ipm 607), заранее написанный [текст] (ipm 583) | [military] intelligence (ipm 772), chemical [weapons] (ipm 697), [two] suspects (ipm 340), [counter] terrorism (ipm 273), [organized] crime (ipm 249), novichok [poisoning] (ipm 240); wiltshire [police] (ipm 184) |
Источник: составлено авторами
Source: compiled by the authors
Согласно частотным лексемам, в российских СМИ обсуждалось место преступления в Солсбери (ipm 3508), орудие преступления (нервно-паралитическое [вещество] (ipm 800), характер преступления: [были] отравлены (ipm 1386), состояние пострадавших (критическое [состояние] (ipm 884). Эти ключевые элементы слота «Преступление» давали привычное представление о начале детектива – собственно о свершившемся преступлении.
Слот и этап «Расследование», согласно частотным лексемам в российских текстах, вновь реконструировал ситуацию преступления, а также содержал элементы, раскрывающие активность свидетелей (видеообращение [Юлии] (ipm 905), [категорически] отрицает (ipm 1407), заранее написанный [текст] (ipm 583), а также последствия ([международный] скандал (ipm 607). Таким образом, событийная канва российской версии детективного нарратива буквально повторяла события реального расследования.
В британских СМИ событийные элементы слотов реконструировали иное семантическое пространство. На этапе описания преступления (моделирование слота «Преступление») был реконструирован контекст, определены связи с отравлением (экс-сотрудника КГБ и ФСБ РФ Александра Литвиненко ([alexander] litvinenko (ipm 459), принципиально иначе был означен сам инцидент – как покушение на национальную безопасность Великобритании ([national] security (ipm 332) и государственный терроризм ([counter] terrorism (ipm 306) со стороны России (не обычное покушение на убийство). Нагнетая напряжение, в событийный контекст были включены «российские дипломаты» (russian [diplomats] (ipm 402), реконструирована ситуация нападения с химическим оружием (chemical [weapons] (ipm 1498), nerve [agent attack] (ipm 432). «Покушение» в британском нарративе стало частью эпической истории с героями – от пенсионеров в парке до чиновников, дипломатов и членов королевской семьи Великобритании.
Присутствие «Тайны» в британской версии нарратива мы связали с высокой частотностью в описаниях «атаки» с использованием неизвестного (таинственного) химического оружия, с частотным упоминанием российских дипломатов (как контекст «виновности» России). В русскоязычных текстах предложенная британцами история отражена без сохранения ярких деталей: российская сторона словно опровергает навет, но не предлагает свою версию детектива.
Этап, связанный с расследованием, и формальный слот «Расследование» наполнены элементами, типичными для шпионского детектива: поддерживается контекст терроризма со стороны РФ ([counter] terrorism (ipm 273), а именно использование химического оружия (chemical [weapons] (ipm 697), novichok [poisoning] (ipm 240) против Великобритании, контекст работы военной разведки ([military] intelligence (ipm 772) и полиции (wiltshire [police] (ipm 184), которая вышла на двух подозреваемых ([two] suspects (ipm 340).
Если российские массмедиа шли в фарватере документального детектива, следили за фактами, пытались создавать новостные события (например, обращаясь к участию родственников семьи бывшего разведчика), то британские СМИ конструировали параллельную реальность, не корреспондирующую с фактами, представляли историю сражения Великобритании с фантастическим террористическим государством, не просто детектив, а эпическую историю борьбы и победы.
На первый взгляд, и российские, и британские медиа, создавая детективную историю, как бы ориентируются на правила детектива, однако британский кроссмедийный детективный нарратив раскрывается именно как настоящее литературное произведение.
Обсуждение результатов: использование детективных сюжетов в массмедиа
В настоящее время интерес к медийным нарративам возрастает как в российском социогуманитарном поле [Качанов 2021, Шестеркина, Исмаилов 2019], так и среди зарубежных исследователей [Helgeson, Glynn, Chabay 2022, McCann, Sienkiewicz, Zard 2023], включая интерес к медийным нарративам по следам преступлений [Алгави, Волкова, Кадырова, Расторгуева 2019, Radina, Iakupova 2022]. В то же время понимание того, как формируются и существуют медийные нарративы, пока не отражает множество вопросов об их влиянии на читателей. Инструменты компьютерной лингвистики в изучении медийных нарративов используют, как правило, в контексте предметного поля компьютерной лингвистики [Stern, Tuckett, Smith, Nyman 2018], не определяя закономерностей с точки зрения социальной коммуникации. Однако кроссмедийные нарративы (современные носители ключевых общественных идей) невозможно продуктивно изучать вне методов компьютерной лингвистики – иначе не собрать релевантный эмпирический материал, распределенный по множеству медиа. Качественные методы в изучении массмедиа позволяют точечно рассмотреть определенную проблему, однако не дают информацию о горизонтах медиакоммуникации. Таким образом, медиаисследователям необходимо догонять опережающую социальную реальность, формировать междисциплинарные исследовательские команды, компетентные как в проблемах коммуникаций, так и в современных лингвистических методах.
Значимая проблема – восприятие читателями кроссмедийных нарративов. Получая из разных медиаисточников согласованную информацию, читатели медиа пропускают ее через индивидуальные матрицы литературной рецепции, увлекаются сюжетами новостей, вовлекаются в новостной мир как мир художественного вымысла. По-прежнему открытым остается вопрос относительно возможностей провокации литературной рецепции при погружении читателей в новостной нарратив. Медиапропаганда нуждается в управлении общественным мнением через конструирование нарративов, а следовательно, и в оценке продуктивности воздействия.
Результаты представленного исследования позволяют сравнить стратегии создания кроссмедийных нарративов о преступлениях (кроссмедийных детективных нарративов), используемые СМИ России и Великобритании. Как видим, это принципиально разные стратегии медиавоздействия.
В российских СМИ доминирует ставка на документальность и буквальное цитирование: значительное количество медийных площадок (в данном исследовании российских медийных площадок – 122, британских – 41) транслируют новости как пересказ фактов из других новостных источников. При этом стихийный кроссмедийный детективный нарратив отчасти строится по канонам литературного фрейма детектива, где СМИ выполняют роль сыщика: используют родственников жертв «отравления» (находящихся на момент преступления не в Великобритании, а в России) и конструируют «объективность» с опорой на факты. Однако следование литературному канону в российских массмедиа – условное и схематичное. Высокие показатели ipm (Instances per Million – количество употреблений на миллион слов) для частотной лексики в изучаемых текстах свидетельствуют о единстве используемых языковых штампов. Кроссмедийный детективный нарратив российских СМИ претендует на фактологичность и цитирование, поэтому вторичен по отношению к реальности (пытается адекватно отразить реальность, а не создавать/конструировать ее).
Принципиально иначе построены кроссмедийные детективные нарративы в британских СМИ. В них более определенно просматривается фрейм литературного шпионского детектива, включая отсыл к тайне как важнейшему элементу художественного вымысла. Ключевые признаки фрейма шпионского детектива отражены в этических координатах, навязанных конструированием истории: с первых публикаций как бы включается опция «продолжение сериала», и история «дело Скрипалей» (сезон № X) связывается с другими выдуманными преступлениями, но главное – с обоснованием враждебного образа России. Британские СМИ не озабочены фактологичностью, творят вымышленную реальность не на доказательствах, а на случайных артефактах, которые вписывают в нарратив, воспроизводя литературные каноны. Поскольку речь идет о кроссмедийных нарративах (распределенных по разным массмедиа), то подобную стратегию нельзя считать мнением отдельного СМИ: более вероятно, она характеризует направленность журналистского сообщества и массмедийного производства в целом. Таким образом, гипотеза исследования в целом подтвердилась, однако британские массмедиа оказались более ориентированными на медиафрейминг по модели художественной литературы.
Проведенное исследование позволяет предположить, что российские массмедиа, многократно цитируя обвинения и фантазии британских медийных площадок, косвенно служат эффективности именно британской стратегии, а попытки фактологичного сопротивления выглядят недостаточно убедительно, поскольку художественная фантазия всегда привлекательнее стратегии реалистичной скромности. Подобная новостная конкуренция – вызов российской журналистике, которая пытается сохранить ориентацию на факты и проигрывает в практике создания новостного мира. Если же представить, что российская журналистика попытается скопировать стратегии британских СМИ (с их опорой на художественный вымысел), она окажется в ловушке вторичности, поскольку снова вместо того, чтобы создавать повестку, будет пытаться противостоять конкуренту, играя по чужим правилам.
Серьезный вызов российскому медиапространству в области производства кроссмедийных и трансмедийных нарративов – проблема не одного десятилетия. Ранее неудачные попытки в медийной конкуренции российских и американских СМИ были описаны на примере медиатрансляции экологической повестки [Radina, Bobkova 2021]. Без сомнения, российская журналистика, по-прежнему признавая роль фактов и документальности новостей, сформирует новую лидерскую позицию в конструировании новостного мира, однако в настоящее время, на наш взгляд, этот процесс далеко не завершен.
***
Временная дистанция, позволяющая интегрировать кроссмедийный «шпионский детектив» об «отравлении» бывшего разведчика С. Скрипаля и его дочери в общую логику репрезентации России в британских СМИ и Великобритании в российских массмедиа, заостряет проблему литературной рецепции при производстве новостей. Согласно результатам исследования, кроссмедийные нарративы, представляющие истории расследования (на примере «дела Скрипалей»), в организации материала согласуются с литературными фреймами детективов, при этом российские медиа лишь отчасти воспроизводят литературную логику, а британские при конструировании новостей отрабатывают литературные каноны, воспроизводя правила создания шпионских детективов в художественной литературе. Читатели новостей британских СМИ оказываются вовлеченными в захватывающее действо, перенося представления о художественной реальности на новостные события.
В условиях информационной конкуренции российским массмедиа необходимо выработать такие стратегии производства новостных нарративов, которые, не теряя документальности и связи с реальностью, смогли бы оказаться более привлекательными для читателей в сравнении с зарубежными СМИ.
1 Евросоюз продлил санкции против россиян по «делу Скрипалей» // Известия. 14 октября 2019. (https://iz.ru/931884/2019-10-14/evrosoiuz-prodlil-sanktcii-protiv-rossiian-po-delu-skripalei).
2 Национальный корпус русского языка: (https://ruscorpora.ru/).
About the authors
Nadezhda K. Radina
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod – National Research University
Author for correspondence.
Email: rasv@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8336-1044
Doctor of Sciences (Political Science), Professor, Professor of the Institute of International Relations and World Politics, Department for General and Social Psychology, Faculty of Social Sciences
Russian Federation, Nizhny NovgorodMaria O. Andriyanova
National Research University Higher School of Economics
Email: marya.andrijanowa@yandex.ru
Master’s student at the Faculty of Humanities
Russian Federation, Nizhny NovgorodReferences
- Алгави Л.О., Волкова И.И., Кадырова Ш.Н, Расторгуева Н.Е. (2019) Особенности нарратива «Дела Скрипалей» в телепрограмме «Вести недели»: анализ сюжетной схемы // Вестник МГУ: Серия 10. Журналистика. № 3. С. 62–83. https://doi.org/10.30547/vestnik.journ.3.2019.6283 / Algavi L.O., Volkova I.I., Kadyrova Sh.N., Rastorgueva N.E. (2019) The narrative of the Skripals case in the “Vesti Nedeli” television program: an analysis of the story plot. Moscow State University Bulletin: Series 10. Journalism, no. 3, рp. 62–83. https://doi.org/10.30547/vestnik.journ.3.2019.6283 (In Russ.)
- Алгави Л.О., Кадырова Ш.Н., Расторгуева Н.Е. (2017) «Синий кит»: пять аспектов новостного нарратива // Вестник РУДН. Серия «Литературоведение. Журналистика». № 4. Т. 22. С. 660–668. https://doi.org/10.22363/2312-9220-2017-22-4-660-668 / Algavi L.O., Kadyrova Sh.N., Rastorgueva N.E. (2017) The Blue Whale game: Five dimensions of news storytelling. RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism, no. 4, vol. 22, pp. 660–668. https://doi.org/10.22363/2312-9220-2017-22-4-660-668 (In Russ.)
- Гуо Л., Тьен Ву Х., МакКомбс М. (2019). Расширенное представление об эффектах установления повестки дня. Изучение третьего уровня установления повестки дня // Коммуникации. Медиа. Дизайн. № 4(1). С. 62–83. / Guo L., Tien Vu H., McCombs M. (2019). An Expanded Perspective on Agenda-Setting Effects. Exploring the Third Level of Agenda Setting. Communications. Media. Design, no. 4(1), pp. 62–83. (In Russ.)
- Добросклонская Т.Г. (2014) Массмедийный дискурс как объект научного описания // Научные ведомости. Серия: Гуманитарные науки. № 13 (184). Выпуск 22. С. 181–187. / Dobrosklonskaya T.G. (2014) Mass media discourse as an object of scientific description // Nauchnye vedomosti. Seriya: Gumanitarnye nauki [Scientific Gazette. Series: Humanities], no. 13 (184), is. 22, pp. 181–187. (In Russ.)
- Качанов Д. (2021) Мультимедийный журналистский нарратив: к определению понятия // Медиаальманах. № 3. С. 20–29. https://doi.org/ 10.30547/mediaalmanah.3.2021.2029. / Kachanov D. (2021) Multimedia journalistic narrative: towards the definition of the concept. Mediaal’manah, no. 3, pp. 20–29. https://doi.org/10.30547/mediaalmanah.3.2021.2029 (In Russ.)
- Норец М. В. (2013) Шпионский роман как вариант детективного жанра в современном литературоведении // Культура народов Причерноморья. № 259. С. 138–149. / Norets M.V. (2013) The spy novel as a variant of the detective genre in modern literary criticism. Kul’tura narodov Prichernomor’ya, no. 259, pp. 138–149. (In Russ.)
- Радина Н.К. (2023) Медийные модели пропаганды: пандемия COVID-19 в русскоязычных СМИ с «другим мнением» // Polis (Russian Federation). № 4. С. 138–151. https://doi.org/10.17976/jpps/2023.04.10 / Radina N.K. (2023) Media models of propaganda: the COVID-19 pandemic in Russian-language media with a «different opinion». Polis, no. 4, pp. 138–151. https://doi.org/10.17976/jpps/2023.04.10 (In Russ.)
- Сарна А.Я. (2020) Технологии воздействия на аудиторию в современном медиапространстве // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. Т. 13. Вып. 2. С. 218–235. https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.207 / Sarna A.Y. (2020) Technologies of influencing the audience in the modern media space. Vestnik of Saint Petersburg University. Sociology, vol. 13, is. 2, pp. 218–235. https://doi.org/10.21638/spbu12.2020.207 (In Russ.)
- Флистова Н.А. (2007) Структура и семантика детективного нарратива (на материале текстов английских и русских рассказов). Автореферат диссертации … к. филол. наук. Тюмень. 28 c. / Flistova N.A. (2007) Struktura i semantika detektivnogo narrativa (na materiale tekstov anglijskih i russkih rasskazov) [Structure and semantics of detective narrative (based on the texts of English and Russian stories)]. Theses of the dissertation. Tyumen. 28 p. (In Russ.)
- Ермоленко И.И. (2015) Особенности структуры детективного фрейма Даниэля Пеннака // Альманах современной науки и образования. № 12 (102). С. 77–80. / Ermolenko I.I. (2015) Peculiarities of structure of Daniel Pennac’s detective frame. Al’manah sovremennoj nauki i obrazovaniya, no. 12 (102), pp. 77–80. (In Russ.)
- Лесков С.В. (2005) Лексические и структурно-композиционные особенности психологического детектива. Автореферат диссертации … к. филол. наук. СПб. 28 c. / Leskov S.V. (2005) Lexical and structural-compositional features of a psychological detective story. Theses of the dissertation. St. Petersburg. 28 p. (In Russ.)
- Шестеркина Л.П., Исмаилов А.Ю. (2019) Трансмедиа и журналистское образование: параметры взаимодействия // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. Т. 24. № 3. С. 544–553. https://doi.org/10.22363/2312-9220-2019-24-3-544-553 / Shesterkina L.P., Ismailov A.Yu. (2019) Transmedia and journalistic education: parameters of interaction. RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism, vol. 24, no. 3, pp. 544–553. https://doi.org/10.22363/2312-9220-2019-24-3-544-553 (In Russ.)
- Эко У. (2005) Роль читателя: исследования по семиотике текста. СПб.: Симпозиум. 502 с. / Eco U. (2005) Rol’ chitatelya: issledovaniya po semiotike teksta [The role of the reader: studies on the semiotics of text]. St. Petersburg: Symposium. 502 p. (In Russ.)
- Alves A.M. (2014) Jacques Ellul’s «Anti-Democratic Economy»: Persuading Citizens and Consumers in the Information Society. TripleC, vol. 12, no. 1, pp. 169–201.
- Heersmink R. (2020) Narrative niche construction: memory ecologies and distributed narrative identities. Biology & Philosophy, no. 35(53), pp. 1–23. https://doi.org/10.1007/s10539-020-09770-2
- Helgeson J., Glynn P., Chabay I. (2022) Narratives of sustainability in digital media: An observatory for digital narratives. Futures, no. 142 (103016). https://doi.org/ 10.1016/j.futures.2022.103016
- McCann K., Sienkiewicz M., Zard M. (2023) The role of media narratives in shaping public opinion toward refugees: A comparative analysis. Migration Research Series, no. 72. International Organization for Migration (IOM), Geneva.
- Maggs D., Chabay I. (2022) The algebra of the protagonist: sustainability, normativity and storytelling. Innovation: the European journal of social science research, no. 36(1), pp. 59–70. https://doi.org/10.1080/13511610.2022.2062304
- Moloney K. (2014). “Multimedia, Crossmedia, Transmedia...What’s in a Name?” Transmedia Journalism, April 21. https://transmediajournalism.org/2014/04/21/multimedia-crossmedia-transmedia-whats-in-a-name/
- Pedro-Carañana J., Broudy D., Klaehn J. (eds.) (2018) The Propaganda Model Today: Filtering Perception and Awareness. London: University of Westminster Press. 305 p. https://doi.org/10.16997/book27
- Radina N., Bobkova S. (2021) International obligations on atmosphere and climate protection in media-discurs: Propaganda models of Russian and US media. Communication Today, vol. 12, no. 1, pp. 130–147.
- Radina N.K., Iakupova K.R. (2022) Media framing and media detectives construction: a case about corruption. Communication Studies, vol. 9, no. 4, pp. 800–816. https://doi.org/10.24147/2413-6182.2022.9(4)
- Stern S.O., Tuckett D., Smith R.E., Nyman R. (2018) Measuring The Influencers. In: The News Media’s Narratives. Ed. Brandes U., Reddy C., Tagarelli A. Proceedings of the 2018 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), pp. 698–701. https://doi.org/10.1109/ASONAM.2018.8508540
Supplementary files