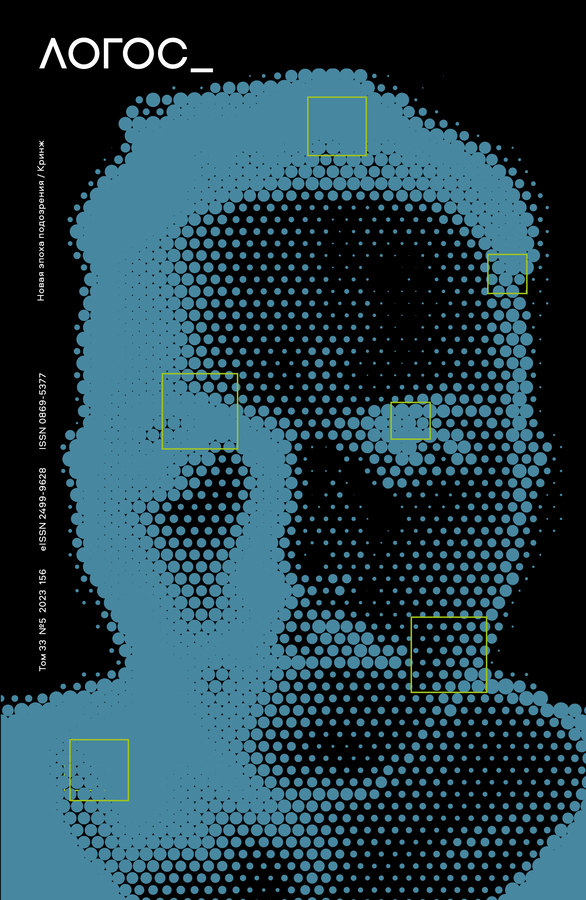Китч, кэмп и кринж как агенты профанации
- Авторы: Михайлова Л.
- Выпуск: Том 33, № 5 (2023)
- Страницы: 171-184
- Раздел: КРИНЖ
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-5377/article/view/291188
- DOI: https://doi.org/10.17323/0869-5377-2023-5-171-182
- ID: 291188
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена определению места понятия «кринж» в современном этико-эстетическом дискурсе. Автор утверждает, что наиболее близкой к кринжу оказывается эстетика кэмпа, в общих чертах описанная Сьюзан Зонтаг в «Заметках о кэмпе». Чтобы раскрыть их сходства, в актуальном понимании кринжа проводится следующее различие: кринж1 как непосредственная реакция стыда за что-то внешнее, так называемый испанский стыд, кринж в своем базовом значении; кринж2 как деактивированный, или снятый кринж, где под снятием подразумевается момент, когда кринж обращается на себя, схлопывается, позволяя человеку быть таким, какой он есть. Именно кринж2 автор сопоставляет с кэмпом как с эстетикой уязвимости и «несостоятельной серьезности», а кринж1 обнаруживает сходства с китчем.
Критический анализ кэмпа указывает на то, что кэмп как стиль по-прежнему является эксплуатацией уязвимости, следовательно, не доводит начатую им терапевтическую работу до конца. В качестве альтернативы, или эстетики посткэмпа, автор предлагает обратить внимание на концепцию слабой эстетики (гипоэстетики), через которую зритель окончательно может примириться с реальностью в ее «таковости» (бытии такой-как-есть).
На основе текстов Джорджо Агамбена «Профанации» и «Грядущее сообщество» автор осмысляет кринж как агента профанации, то есть как актора освобождения от диспозитивов власти. В отличие от другого актора — пародии, в основе которой лежит дистанция к своему предмету, в основе кринжа лежит событие исчезновения этой дистанции. По мнению автора, эта специфика кринжа позволяет случиться радикально профанному опыту откровения, а значит, становится возможной трансгрессия через кринж, пример которой можно встретить в текстах Жоржа Батая и современном психоделическом кинематографе («Всё везде и сразу», 2022).
Ключевые слова
Полный текст
Чтить только стиль высокой культуры, оставляя все другие действия или чувства в стороне, значит обмануть себя как человеческое существо.
Сьюзан Зонтаг. Заметки о Кэмпе
Профанация непрофанируемого есть политическая задача грядущего поколения.
Джорджо Агамбен. Профанации
Так плохо, что даже хорошо
Размышляя о том, как разместить кринж в современном философском и/или эстетическом дискурсе, интуитивно на ум приходит его рифма — поэтическая и смысловая — со словом китч. Хочется расположить их в какой-то общей исторической или концептуальной перспективе, но для того, чтобы это сделать, нам будто бы не хватает некой связки между ними, и этой связкой, по сути, оказывается кэмп.
Кэмп, как и китч, — это особый регистр восприятия или вкуса, а также стиль выражения, определить принадлежность к которому можно только извне. Кэмп, использующийся как умышленный стилевой метод создания произведения, текста или объекта культуры, называется кэмпизацией.
Основной текст, дающий представление о кэмповском вкусе — небольшое эссе Сьюзан Зонтаг 1964 года «Заметки о кэмпе». В предисловии она пишет, что до сего момента кэмп появлялся в печати лишь в коротком юмористическом скетче в романе Кристофера Ишервуда «Вечерний Мир» (1954). Зонтаг называет кэмп культовым1, но если для западной и, в первую очередь, американской культуры 1960–1980-х годов это может быть верным, то в русскоязычной среде как понятие он более-менее закрепился лишь в культурологических и искусствоведческих кругах, и именно благодаря «Заметкам». Впрочем, это не отменяет того факта, что современная культура, если присмотреться и заглянуть в историю ее становления, пропитана кэмпом.
Нужно сказать, в поп-культуре США кэмп был воспринят также не без потерь: это было отчетливо видно, когда в 2019 году институт моды Нью-Йоркского музея Метрополитан для своего ежегодного бала Met Gala выбрал тему Camp: Notes of Fashion. По нарядам большинства знаменитостей можно было понять кэмп как эстетику шутливого гротеска, вульгарности, искусственности и театральности и быть при этом близко к сути, но все же ее не достигнуть, или достигнуть, но очень односложно. Кажется, только музыкант Фрэнк Оушен, который пришел на розовую ковровую дорожку в полуспортивном-полуклассическом костюме и фотографировал зрителей и прессу на цифровую мыльницу, дочитал текст «Заметок» до конца — и, конечно, в журнальных статьях по следам Met Gala он упоминался исключительно как the men who didn’t get the camp2. В формуле Зонтаг есть еще как минимум две необходимые для кэмпа черты, которые совсем не прослеживались в костюмах бала — серьезность («вплоть до полного провала…») и наивность3.
Свое эссе Зонтаг заканчивает так: «Предельное выражение кэмпа: это хорошо, потому что это ужасно…»4, и здесь можно было бы продолжить: предельное же выражение китча — это настолько хорошо, что даже ужасно.
Китч как вкус стремится к исключительности, гламурности и стерильности высокого стиля, но мы замечаем, что у него не особо получается — все выходит «горячо» и прямолинейно. Кэмповский вкус, напротив, — хоть и выглядит снаружи холодным и отстраненным, все же эта холодность лукава. Внутри у него тяга к теплоте и невинности чистых объектов кэмпа:
Все, что оригинально противоречивым или бесстрастным образом, — не кэмп. Также ничто не может быть кэмпом, если оно не кажется порожденным неукротимой, фактически неуправляемой, восприимчивостью. Без страсти получается лишь псевдокэмп, который только декоративен, безопасен, одним словом, элегантен. <…> Есть две вещи — кэмп и жеманность, — которые не следует путать5.
Чтобы прорисовать концепт кэмпа чуть точнее, проиллюстрируем еще несколько заметок близкими к нашему времени примерами:
Кэмп не утверждает, будто быть серьезным значит иметь дурной вкус; это не насмешка над тем, кто преуспевает в своей серьезности. Кэмп лишь учит тому, как превращать в успех некоторые обжигающие неудачи6.
Культуролог, философ кино Александр Павлов в теоретическом введении к своему недавнему исследованию «плохого кино»7 вспоминает самый известный образец чистого кэмпа последних десятилетий — фильм Томми Вайсо «Комната» (2003). Павлов стремится пойти в своем анализе в обход теории кэмпа и выделяет внутри плохого кино несколько типов иной генеалогии, в частности, «худшие фильмы всех времен» и «хорошее плохое кино»; кэмповские же фильмы собраны здесь исключительно под именем «настолько плохих, что даже хороших». Название этого типа прямо отсылает нас к формуле из финала «Заметок о кэмпе», и именно к этому типу принадлежит «Комната». Ее шестимиллионный бюджет и огромные режиссерские амбиции поражают воображение, учитывая, что на экране мы видим лишь нелепую игру актеров (а сам Вайсо исполняет в фильме главную роль), любительский монтаж и затянутые эротические сцены, напоминающие российские поп-клипы начала 1990-х годов. Долгое время у фильма был самый низкий рейтинг на «Кинопоиске», однако со временем это стало меняться. По всему миру у «Комнаты» появилось множество искренних фанатов, фильм регулярно появляется в ретроспективном прокате, из чего можно сделать вывод, что эстетика кэмпа все более и более схватывается современным зрителем. К похожему заключению, относящемуся не только к кэмпу, но и ко всему «плохому кино» в целом, приходит и Павлов:
Упоминаемые в книге картины могут быть плохими по-своему, но с главным в отношении них спорить невозможно: мы их любим. Остается надеяться, что благодаря этому изданию как можно больше зрителей полюбят «плохое кино», интерес к которому, как видно, возрастает год от года8.
В конце нулевых в американской публицистике даже предпринимались попытки переосмыслить «Комнату» как посткэмп9, однако создается впечатление, что этот ход вырастает из недопонимания идейного ядра самого кэмпа. Текст Сьюзан Зонтаг представляет собой не «трактат о кэмпе», а всего лишь заметки, что подчеркивает их необязательность и субъективность и изначально дает понять, что кэмп всегда будет больше, чем описание его проявлений в современности. При ближайшем рассмотрении особенности, которые исследователи находят в «Комнате» (особая сюрреалистичность, независимость, трагичность и наивность10) оказываются всё теми же признаками объекта чистого кэмпа, преломленного в условиях новой эпохи.
Кэмповский вкус — это разновидность симпатии, симпатии к человеческой природе. Он скорее любит, чем судит маленькие победы и неуклюжую горячность «персонажа»… Кэмповский вкус самоотождествляется с тем, что несет наслаждение. Люди, которые разделяют это мировосприятие, не смеются над тем, что они называют кэмпом, они наслаждаются им. Кэмп — это нежность чувства11.
…Это — способ пройти через черный ход к вещам, которые высокий вкус вытесняет и клеймит, guilty pleasure, но которые от этого не перестают приносить удовольствие. Студент факультета свободных искусств идет с сокурсниками в рюмочную «На ход ноги», говоря: «Это кэмп», — подразумевая, что это игра, это понарошку; однако тратит деньги, ест селедку с бумажной тарелки и веселится он там по-настоящему.
Кэмп — это решение проблемы: как быть денди в век массовой культуры. <…> Где вкус денди постоянно был бы оскорблен, а сам он заскучал бы, ценитель кэмпа пребывает в постоянном восторге. <…> Конечно, это трюк. Трюк, подстегиваемый, при ближайшем рассмотрении, угрозой пресыщения. Кэмп по своей природе возможен только в обществах изобилия или в кругах, способных переживать психопатологию изобилия12. <…>
Кэмп утверждает: хороший вкус — это не просто хороший вкус; на самом деле, в плохом вкусе есть свой хороший. Открытие хорошего вкуса в плохом имеет огромный освободительный эффект. Требующий исключительно высоких и серьезных удовольствий лишает себя удовольствия; он раз за разом ограничивает себя в том, чем мог бы наслаждаться, и, в конце концов, скажем так, набивает себе непомерную цену. Кэмповый вкус — продолжение того же хорошего вкуса, его суть — безбоязненный и веселый гедонизм. Такая перемена полезна для пищеварения13.
Одни из лучших вневременных примеров кэмповских объектов — это детские личные дневники и детская влюбленность. Российский стендап-комик Семен Дорофеев стал известным благодаря чтению и комментированию своего детского дневника на странице в инстаграме14 — смех, который производит такое действие, не циничен — он скорее раскрепощает и имеет терапевтический эффект.
И все же кэмповский вкус только играет с уязвимостью избранных им объектов. Кэмп — это уязвимость как стиль. Чтобы произошла полезная для пищеварения перемена, денди должен обратить кэмповский вкус на самого себя — самому стать наивным: не кэмпизировать, а освободиться от слова кэмп. Очевидно, это непростое дело, для которого требуется смелость, и кэмповский вкус помогает денди потихоньку, вкрадчиво, опасливо оттаять.
В этом месте у кэмпа возникает рифма с другим концептом, а именно с гипоэстетикой, слабой эстетикой. Гипоэстетическое — это
- то, в чем эстетическое немощно, ослаблено, не достигает своей полноты и абсолютности; это как бы слабые токи прекрасного, мерцание и всполохи прекрасного, своего рода оговорка не-красоты о красоте15.
Философ Михаил Куртов пишет:
Для гипоэстетики обыденное не враг, а союзник, они всегда действуют сообща, хотя их отношения и асимметричны: мы не можем знать, что обыденное думает о гипоэстетическом, однако известно, что последнее никогда не упустит возможность засвидетельствовать свою признательность первому16.
В его же «Манифесте слабой эстетики» приведен такой список гипоэстетических объектов:
- популярное справочное издание по рыболовству, в рыхлую сердцевину которого затесалось словосочетание «покинутая слюда»;
- печатное объявление: «спил сложных деревьев»;
- выпуск новостей, в котором диктор кашляет квартами;
- план-эпизод «мыльной оперы», в котором героиня смотрит неуместно и неподобающе печально17.
Слабую эстетику можно было бы назвать эстетикой после кэмпа — не исторически, а в плане их становления — через которую зритель окончательно может примириться с реальностью — ослабшей, рыхлой, но потому не требующей ничего взамен за свою внезапную, ненарочную красоту. Но подвесим эту мысль — о ней полезно будет вспомнить в самом конце.
Поймать различие
Вероятно, вы уже догадались, к чему я веду: то, что можно сказать о кэмпе, — с той же легкостью можно сказать и о кринже, однако для этого необходимо сделать два важных замечания.
- Кринж неоднороден. В какой-то момент он разделился на две сущности: назовем их условно кринж1 и кринж2. Кринж1 — это непосредственная реакция стыда за что-то внешнее, так называемый испанский стыд, кринж в своем базовом значении. Возникновение кринжа2 зафиксировано в истории интернета в меме с пушистым котиком и подписью: «Достали!! Кринж запостил, Кринж запостил! ДА!!!!!! Дайте побаловаться поприкалываться!!! не часто такое настроение». Кринж2 — это снятый кринж, где под снятием я подразумеваю момент, когда кринж обращается на себя, схлопывается, мы позволяем себе кринжевать, и другие вслед за нами позволяют нам и себе это делать, и таким образом происходит некое избавление, всепрощение. Приход кринжа — это своеобразная благая весть, он возник в культуре, чтобы сняться. Когда я говорю о сходстве кэмпа и кринжа, я подразумеваю кринж2.
- Приравнивать кринж1 к испанскому стыду все же было бы ошибкой. Кринж, в отличие от стыда, — это не чисто этическое понятие, он возникает на стыке этики и эстетики, в обществах изобилия и пресыщения, где этические суждения вытекают из суждений вкуса, эстетики — и здесь мы снова видим сходство кэмпа и кринжа. Зонтаг датирует рождение кэмпа концом XVII — началом XVIII века18, что синхронно возникновению фигуры человека вкуса, описанному в тексте Джорджо Агамбена «Человек без содержания», — более того, Агамбен фактически пишет и о кэмповском вкусе, не называя, но точно описывая его, «как будто в глубине хорошего вкуса есть стремление к извращению в собственную противоположность»19.
В качестве первого свидетельства этой черты европейской культуры Агамбен приводит письмо французской писательницы мадам де Севинье 1671 года:
Вы, возможно, помните, до какой степени меня коробит скверный стиль — ведь я все-таки разбираюсь в хорошем, и никого не трогает очарование красноречия так, как меня. <…> Я нахожу, что стиль Ла Кальпренеда отвратителен, и, однако, не могу удержаться и ловлюсь на его приманки: красота чувств и жестокость страстей, величие событий и чудесные победы грозных фехтовальщиков — все это влечет меня, будто маленькую девочку; если бы не утешения г-на Лярошфуко и г-на Аквилля, я бы повесилась, еще хотя бы раз обнаружив в себе эту слабость20.
Однако теперь, когда мы провели различие внутри кринжа и сопоставили кринж2 с кэмпом, становится видно, что вкус мадам де Севинье здесь не является кэмповским, так как в нем нет освобождающего импульса кринжа2, а есть только тот самый стыд, обращенный к себе и собственному вкусу. Пример Агамбена — это блестящий пример базового кринжа — кринжа1.
Напрашивается вопрос — можно ли провести похожую аналогию между кринжем1 и китчем? Они хорошо рифмуются и поддаются сопоставлению, но приравнять их нельзя, поскольку китч как раз оказывается чисто эстетической категорией, направленной на объект искусства/творчества, а не на его восприятие. Китч не имеет реляционного потенциала — интенции к объединению, со-общению, какой содержится в кринже или кэмпе.
Таким образом, китч — это действительно только эстетическая категория, кэмп и кринж — категории, лежащие на стыке этики и эстетики. Хотя области философии принято разделять, в современных условиях той самой пресыщенности, когда эстетика идет впереди этики, нам необходимо смотреть именно в зоны их переплетения, а это и есть, как ни странно, кэмп и кринж. Можно условно сказать, что кэмп есть в большей мере эстетическая категория и в меньшей степени этическая (либо эстетическая категория с большим реляционным потенциалом), а кринж — больше этическая, в меньшей степени эстетическая категория. В области чистой этики остается стыд и испанский стыд.
Существует еще один мем, отлично иллюстрирующий различие первого и второго кринжа. На картинке изображены два человека: один трагично сгибается под тяжестью кирпичиков кринжа, давящих на его не-атлантовские плечи, а второй с легкой улыбкой выстраивает из все тех же кирпичиков себе лестницу — и дорога возникает под ногами кринжующего.
Человечество освобождается от самого себя
Позволение себе кринжевать — это позволение себе быть таким, какой я есть. Когда мы относимся к другим не с сарказмом, не с иронией, а с чувством кринжа2, мы даем миру быть таким, какой он есть, а это поистине любовное отношение21, и здесь я вспоминаю уже другие тексты Агамбена — «Грядущее сообщество» и «Профанации». Профанация буквально — выведение из святого места в профанное, обычное — по Агамбену означает возвращение чего-либо к естественному применению и естественному состоянию, предшествовавшему его выделению в обособленную религиозную, экономическую или юридическую сферу22; освобождение от властного диспозитива сакрального, предписывающего вещи быть не-собой.
Помимо прочего, профанация открывает возможности для нового использования чего-либо путем дезактивации старых способов применения или поведения. В пример такой профанирующей практики он приводит ludus, игру действия, которая разрушает единство сакрального акта посредством устранения из него мифа, но сохранения ритуала (хороводы, игры с мячом или настольные игры — все они выросли из древних религиозных практик); и jocus, игру слов, которая, напротив, сохраняет миф, но удаляет ритуальность. Это означает, что игра высвобождает и выводит человечество из сферы сакрального, а не просто уничтожает ее. Использование, в которое передается сакральное, есть особенное использование, не совпадающее с утилитарным потреблением23.
Jocus — joke — шутка — перекликается здесь с другой важной для Агамбена вещью — пародией, и, например, историк философии Дмитрий Хаустов в лекции об этике профанации напрямую называет пародию аналогом профанирующего жеста24, но кажется, здесь бы скорее подошло слово агент, ибо профанация именно действует через пародию. Игра, Пародия дают ей проявиться, выйти с уровня абстракции на уровень конкретных практик повседневности.
В основе пародии (как и иронии), говорит Агамбен, всегда лежит дистанция, то есть невозможность отождествления с предметом пародии25, и в этом состоит главное отличие пародии от кринжа. С одной стороны, кринж1 — это радикальная дистанция, но с другой — это аффект, повергающий в вину, точно не в принятие мира. Однако, как только из него совершается шаг в кринж2 — происходит событие схлопывания этой дистанции — это уже не «бытие в зазоре» между собой и миром, но опыт откровения через полное отождествление себя с ним, профанным и таким-как-есть:
Откровение не являет священный характер мира, но всякое откровение есть всего лишь раскрытие необратимо профанного характера мира. <…> И только здесь возникает возможность спасения — это спасение светского характера мира, его бытия-вот-такого (essere-cosi). <…> Поскольку мир абсолютно, необратимо профанен — он есть Бог26.
Кринж2, а с ним в области эстетики и кэмп, таким образом, также оказываются агентами профанации. Китч и кринж1 также можно назвать таковыми, но лишь косвенно, как необходимые подступы к подлинному кринжу-кэмпу.
Стоит подчеркнуть, что ни о пародии, ни об иронии, ни о кринже мы не говорим здесь только лишь как о юмористическом тропе — каждый из них оказывается больше, чем просто смешащий прием речи. Ибо даже когда они смешат, это скорее батаевский смех — как реакция от внезапного осознания того, каким мир является, как все состоит в мире. Смех как высмеивание из себя откровения, которое давит изнутри, — смех практически всегда истеричен, а в данном случае еще и эйфоричен:
Вот подступилась ко мне моя смелость — или, если угодно, беспечность, — говоря: «А разве ты не мог бы сам пережить такой безрассудный опыт [лицезрения Бога] — а потом посмеяться над ним?» И я отвечал себе: «Невозможно, ведь у меня нет веры! В безмолвии своем, в состоянии прямо-таки безумной свободы, я склонялся над бездной, все казалось равно смешным, безобразным, возможным… Тогда я не стал с этим считаться. И тут же узнал Бога.
Вызванное неудержимым хохотом, это случилось как нельзя более легко.
Я бросился к ногам старого призрака.
Обыкновенно мы плохо представляли себе его величие; мне же оно было явлено во всей безмерности. <…>
Я захохотал. Это было как-то бесконечно неуклюже. Но с этой неуклюжестью без усилий справилась моя легкость — она возвращала небытию то, что и было лишь небытием27.
Тема трансгрессии через кринж неожиданно отчетливо раскрыта в фильме «Всё везде и сразу» (2022), где буквально переход между параллельными мирами можно совершить, сделав на виду у всех какое-то нелепое, странное действие: съесть помаду, обмочиться, дунуть кому-нибудь в лицо и так далее. Реальность в этот момент сдвигается, расслаивается, и в этом сдвиге можно увидеть ее настоящее лицо, точнее лица.
Итак, кринж оборачивается теперь духовной практикой. Но, как в буддистских притчах (и одном философском трактате28) о духовном пути, где дхарму воспринимают как лестницу, по которой восходят к просветлению, лесенку из кринжа, которую мы выстроили и по которой вознеслись, придется потом отбросить. И даже не то, что придется — говоря «придется», мы отстраняемся от действия, выстраиваем дистанцию. Называя нечто кринжем, мы все еще находимся на дистанции к этому предмету. В современной культуре постоянно слышно слово кринж — и это связано с обостренной чувствительностью нашего времени. Но когда эта агония пройдет, когда мы все назовем кринжем, а потом назовем кринжем2 — мы умолкнем, в какой-то момент все просто останется таким, какое оно есть. И возможно тогда мы придем к состоянию рая.
1 Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 289.
2 Met Gala 2019: The Men Who Didn’t Get the Camp Theme Memo // BBC. 07.05.2019. URL: https://www.bbc.com/news/newsbeat-48186546.
3 Когда о кэмпе говорит Эндрю Болтон, куратор Института костюма музея Метрополитан, он эти черты схватывает, определяя кэмп как «несостоятельную серьезность» (failed seriousness) — становится ясно, что кэмп — неудобоваримая субстанция для любой, не только русскоязычной массовой культуры, и является скорее понятием узкоспециализированным. См.: Yotka S. On the Eve of the Met Gala, Andrew Bolton Takes Vogue on a Walking Tour of “Camp: Notes on Fashion” // Vogue. 06.05.2019. URL: https://www.vogue.com/article/camp-notes-on-fashion-exhibition-andrew-bolton-interview.
4 Сонтаг С. Указ. соч. С. 307.
5 Там же. С. 299.
6 Там же. С. 307.
7 Павлов А. В. Плохое кино. М.: Горизонталь, 2022. C. 29.
8 Там же. С. 53.
9 You Are Tearing Me Apart, Lisa!: The Year’s Work on the Room, the Worst Movie Ever Made / A. M. Rosen (ed.). Bloomington, IN: Indiana University Press, 2022. P. 18.
10 См.: Wilson S. Is This the Age of “Post-Camp Cult Film?” // MONDO 70: A Wild World of Cinema. 16.07.2010. URL: http://mondo70.blogspot.com/2010/07/is-this-age-of-post-camp-cult-film.html.
11 Сонтаг С. Указ. соч. С. 307. Курсив мой. — Л. М.
12 Там же. С. 304–305.
13 Там же. С. 307.
14 Instagram принадлежит корпорации Meta, запрещенной на территории Российской Федерации.
15 Куртов М. Рассеянность, растерянность, пористость: три режима эстетического // Разногласия. 27.07.2016. URL: https://www.colta.ru/articles/raznoglasiya/11653-rasseyannost-rasteryannost-poristost-tri-rezhima-esteticheskogo.
16 Он же. Эстетика и гипоэстетика // LiveJournal. 31.01.2012. URL: https://hypoesthetics.livejournal.com/2864.html.
17 Он же. Манифест слабой эстетики (гипоэстетики) // LiveJournal. 2006. URL: https://hypoesthetics.livejournal.com/profile.
18 «Краткая история кэмпа может, конечно, начаться и раньше — с маньеристов, подобных Понтормо, Россо или Караваджо, или причудливых театральных работ Жоржа де Латура; <…> Все же наиболее бурно зарождение кэмпа происходило в конце XVII — начале XVIII века, поскольку именно этот период был наделен чутьем на причудливость, на поверхность, на симметрию; вкусом на живописность и напряженность, элегантным обычаем передачи мимолетного ощущения и постоянным присутствием персонажа — в эпиграмме и рифмованном куплете (в словах), в завитушках (в жестах и музыке)» (Сонтаг С. Указ. соч. С. 294).
19 Агамбен Дж. Человек без содержания. М.: НЛО, 2018. С. 31.
20 Там же. С. 32.
21 «Воспринимать нечто в его бытие-таком: во всей его необратимости, которая, однако, не есть необходимость, воспринимать именно так, но не видеть в этом случайность, — это и есть любовь» (Он же. Грядущее сообщество. М: Три квадрата, 2008. С. 97).
22 Он же. Профанации. М.: Гилея, 2014. С. 93.
23 Там же. С. 81.
24 Хаустов Д. Этика профанации // Castboх. Nevlyutov M., Биофилософия. 27.03.2018. URL: https://castbox.fm/episode/Джорджо-Агамбен---Этика-профанации-id1812845-id114141997.
25 «В понятии „серьезной пародии“ есть, очевидно, противоречие, но не потому, что пародия не может быть вещью серьезной (порой она, наоборот, бывает вещью серьезнейшей), а потому, что она не может притязать на идентификацию себя с пародируемым» (Агамбен Дж. Профанации. С. 42).
26 Он же. Грядущее сообщество. С. 82.
27 Батай Ж. Сумма Атеологии. М.: Ладомир, 2016. С. 430. Курсив мой. — Л. М.
28 Витгенштейн Л. Логико-Философский трактат. М.: АСТ, 2018. С. 130.
Об авторах
Любовь Михайлова
Автор, ответственный за переписку.
Email: luba475206@gmail.com
независимая исследовательница
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М: Три квадрата, 2008.
- Агамбен Дж. Профанации. М.: Гилея, 2014.
- Агамбен Дж. Человек без содержания. М.: НЛО, 2018.
- Батай Ж. Сумма Атеологии. М.: Ладомир, 2016.
- Витгенштейн Л. Логико-Философский трактат. М.: АСТ, 2018.
- Куртов М. Манифест слабой эстетики (гипоэстетики) // LiveJournal. 2006. URL: https://hypoesthetics.livejournal.com/profile.
- Куртов М. Рассеянность, растерянность, пористость: три режима эстетического // Разногласия. 27.07.2016. URL: https://www.colta.ru/articles/raznoglasiya/11653-rasseyannost-rasteryannost-poristost-tri-rezhima-esteticheskogo.
- Куртов М. Эстетика и гипоэстетика // LiveJournal. 31.01.2012. URL: https://hypoesthetics.livejournal.com/2864.html.
- Павлов А. В. Плохое кино. М.: Горизонталь, 2022.
- Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.
- Хаустов Д. Этика профанации // Castboх. Nevlyutov M., Биофилософия. 27.03.2018. URL: https://castbox.fm/episode/Джорджо-Агамбен---Этика-профанации-id1812845-id114141997.
- Met Gala 2019: The Men Who Didn’t Get the Camp Theme Memo // BBC. 07.05.2019. URL: https://www.bbc.com/news/newsbeat-48186546.
- Wilson S. Is This the Age of “Post-Camp Cult Film?” // MONDO 70: A Wild World of Cinema. 16.07.2010. URL: http://mondo70.blogspot.com/2010/07/is-this-age-of-post-camp-cult-film.html.
- Yotka S. On the Eve of the Met Gala, Andrew Bolton Takes Vogue on a Walking Tour of “Camp: Notes on Fashion” // Vogue. 06.05.2019. URL: https://www.vogue.com/article/camp-notes-on-fashion-exhibition-andrew-bolton-interview.
- You Are Tearing Me Apart, Lisa!: The Year’s Work on the Room, the Worst Movie Ever Made / A. M. Rosen (ed.). Bloomington, IN: Indiana University Press, 2022.
Дополнительные файлы