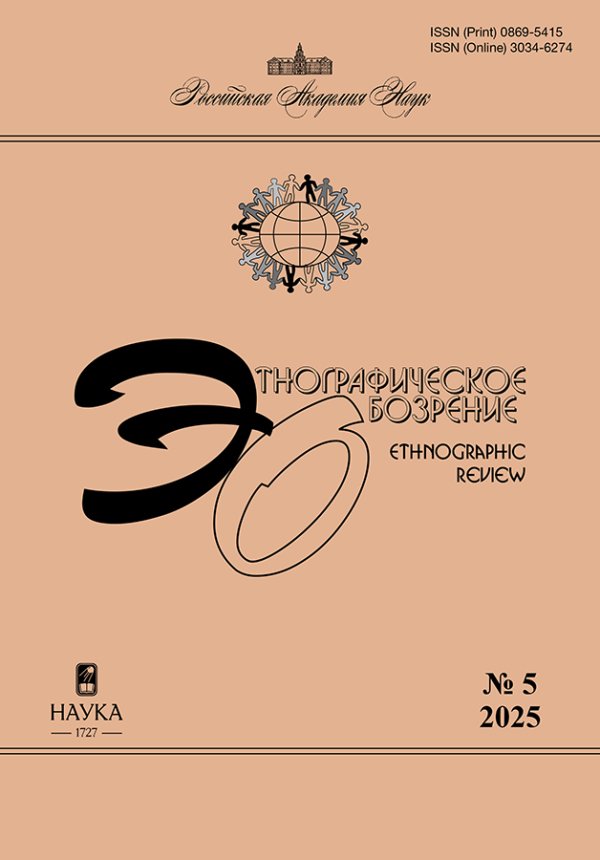Factors of self-destructive behaviors in the context of cultural transformations
- Authors: Tendryakova M.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 151-168
- Section: Revisiting the Published
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-5415/article/view/262034
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524020087
- EDN: https://elibrary.ru/CKSUSN
- ID: 262034
Cite item
Full Text
Abstract
Taking the cases of Australian aboriginal people and Siberian Evenkis, the article discusses the issue of interaction of dissimilar cultures – on the one hand, autochthonous, traditional, having no developed literacy systems, and functioning without state structures or colonizing cultures; on the other, literate, technologically oriented, and developing in the context of statehood. The two people under consideration differ as much as state politics and policies that were applied to them. What they have in common, however, are negative factors such as the increase in mortality rates due to deaths of people under 40, self-destructive behavior (alcoholism, accidents, fights, or involuntary manslaughter), and suicides that are especially prominent among the youth. The article examines the use of population models to consider the possible causes of the depressive behavior against the backdrop of a relatively decent level of social stability, and explores the ways in which traditional culture, its transformations, religious bans, and everyday norms may influence the suicide rates.
Full Text
Взаимодействие культур – одна из центральных тем социальной антропологии, которая всегда была зоной пересечения важнейших вопросов (как сугубо прикладных, так и мировоззренческих и теоретических), выступающих на первый план перед миссионерами, колониальными чиновниками, военными, путешественниками, этнографами и историками в различные исторические периоды. Как метрополиям строить отношения с колониями? Какими путями развиваются культуры и общества? По какой траектории идет история – эволюция, диффузия, цивилизационные трансформации? Как во взаимодействии культур рождаются и распространяются инновации? (Тишков 2018; Клакхон 1998).
Исследовательский проект “На фронтире культур: от индивидуальных биографий к историческим судьбам этнических сообществ (эвенки Сибири и коренные австралийцы в условиях модернизации)” фокусировался на взаимодействии в начале XXI в. культур, разительно отличающихся друг от друга: культур автохтонных, бесписьменных, традиционных, сформировавшихся и многими веками функционировавших без государственных структур, с одной стороны, и культур-колонизаторов, письменных, ориентированных на развитие техники, длительное время развивавшихся в условиях государственности, – с другой (Артемова 2021а). При этом процессы трансформации традиционных культур участниками проекта рассматривались через призму индивидуальных биографий. В личных историях необходимо было увидеть общую картину жизни людей, принадлежащих к одной культуре, живущих в конкретном времени и месте, понять, какие события представляются им значимыми, какие – счастливыми, что в их воспоминаниях игнорируется, а о чем они предпочитают умалчивать. Выбор пал на эвенков и аборигенов Австралии.
Само по себе решение сравнить то, «как сегодня, в лоне… “цивилизованного (европоцентричного. – М.Т.) мейнстрима”, живут потомки носителей этих окутанных романтическим флером культур» (Артемова 2022: 126), требует изрядной исследовательской смелости. Эти народы изначально очень разные. Их традиционные занятия – охота-рыболовство-собирательство – лишь формально (на основании того, что являются присваивающим типом хозяйства) говорят о сходстве их хозяйственных укладов. Аборигены севера Австралии, чьи потомки сегодня проживают в поселениях Аурукун, Пормпурау (Кейп Йорк), Милингимби (Арнемленд), Напарнум, Мапун и Коэн (именно в этих поселениях удалось побывать и провести работу участникам проекта), в течение тысячелетий находились в изоляции от большого мира. Они создали уникальный корпус мифов, изобрели бумеранг и копьеметалку, но не знали лука и стрел, владели приемами культивирования некоторых растений, но не стали земледельцами, и ко времени первых контактов с колонизаторами их технологии были где-то на уровне европейского неолита. Предки эвенков являлись лесными охотниками-рыболовами, но при этом они освоили кузнечное дело и слыли среди соседних народов отличными кузнецами, кочевали на огромных просторах на оленях и лошадях, создавали повозки и мобильные жилища, участвовали в военных походах Чингисхана (Токарев 1958). Их культура, мифы, шаманские практики формировались во взаимодействии с другими народами Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на несколько веков тесных контактов с такими могучими империями, как Китай времен династии Цин и Россия, эвенки сумели сохранить свою самобытность и кочевой уклад жизни до 1920-х годов.
В ХХ же веке и аборигены севера Австралии, и эвенки под давлением государств-колонизаторов, которые активно насаждали совершенно иную культуру, перешли к оседлости и изменили свой образ жизни. Политика Австралии по отношению к аборигенам и политика СССР/России по отношению к эвенкам изначально были различны и не раз претерпевали изменения. Однако сравнение и анализ этих государственных политик выходит за рамки данной работы.
В целом можно сказать, что и в России, и в Австралии, как и во всем мире, в последнее десятилетие ХХ и в начале XXI в. наметился существенный перелом в отношении прав коренных народов. Аборигены обрели новые юридические полномочия: были созданы представительства, которые озвучивают их основные проблемы, выступают как юридические лица, отстаивающие их права, в том числе права на земли, где находились священные места их предков (Австралия). Коренные народы Севера создали свою ассоциацию, участвуют в обсуждении промышленных проектов (АКМНСС и ДВ РФ1). Тем не менее ситуация далека от благополучной.
Что касается эвенков, то их права и интересы зачастую соблюдаются номинально или не реализуются в полной мере из-за противодействия властей, столкновения с интересами промышленных предприятий и других внешних подавляющих сил (Долгих и др. 2022; Кляус, Кириллов 2021). Местные предприниматели не выдерживают конкуренции с большими компаниями. Добыча урана и золота ведется технологиями, беспощадно нарушающими экосистему, уничтожающими реки и леса, угодий для охоты становится все меньше. Ликвидация традиционного оленеводства (как якобы неперспективной деятельности), ликвидация поселений, созданных в первой половине ХХ в., и переселение из них эвенков в чужие для них края ведут к разрушению традиционной культуры, оттоку населения из родных мест, печальным личным историям (см.: Михалев 2022; Долгих и др. 2022; Кляус, Кириллов 2021; Долгих, Щекин 2023).
В отношении же аборигенов “многократно признана публично огромная вина колонизаторов перед коренным населением, совершено немало искупительных деяний” (Артемова 2022: 130). Доля аборигенов среди населения Австралии постоянно растет за счет высокой рождаемости. В последние десятилетия на смену политике патернализма пришел мультикультурализм, промышленные компании отступили, за аборигенами были закреплены права на их традиционные земли. Они живут на государственные пособия, и объем государственной помощи неуклонно увеличивается с начала 2000-х годов. Но пропасть между “белой Австралией” и миром коренных австралийцев остается огромной. Во всех вышеназванных поселениях севера Австралии существуют одни и те же проблемы, проявляющиеся с разной степенью остроты. В большинстве своем аборигены не работают и не стремятся получить работу и образование, молодежь за редким исключением не покидает поселения ради поисков счастья в больших городах – они живут в своем мире за “стеклянной стеной” (Артемова 2019а, 2019б, 2022). Предоставляемые права не особенно востребованы самими аборигенами и не побуждают их к действию, а открывающиеся горизонты возможностей не увлекают.
Взаимодействие коренных народов с (пост)индустриальным Левиафаном не сводится исключительно к экономическим и юридическим аспектам. При всех различиях положения коренных австралийцев и эвенков, при относительном материальном благополучии первых и заботе о них различных государственных и общественных организаций (пособия, отличная медицина, сравнительно недорогое и более или менее благоустроенное жилье, предоставляемое государством) и отчаянно сложном положении вторых, общим в описании жизни и тех, и других в начале XXI в. будет дескриптор “депрессивный”. Основными точками пересечения линий жизни этих столь различных во всех отношениях коренных народов являются распад традиционных социально-экономических отношений и скачок смертности за счет преждевременных смертей – ухода из жизни людей, не достигших 40 лет, а также алкоголизм и разрыв между поколениями (Артемова 2022).
В разных краях земли, в различных экспедициях исследователям приходилось слышать фразу: “О плохом говорить не будем” (Артемова 2022: 132; Долгих и др. 2021). Этим “плохим” были суициды, особенно среди молодежи, несчастные случаи и убийства в драках, затеянных в состоянии алкогольного опьянения. Информанты не хотели бередить раны, раскрывать душу перед пришельцами-этнографами, но анализ полевых материалов вынуждает говорить на самые запретные и болезненные темы.
Саморазрушающее поведение в кросс-культурном контексте. Проблема алкоголизма среди коренных народов – одна из наиболее давних и в то же время не теряющих своей актуальности (Napoleon 1991). И в поселениях коренных австралийцев, и в эвенкийских поселениях исследователям часто приходилось сталкиваться с рассказами о несчастных случаях в быту или на охоте, драках, семейных драмах, странных, неоправданно рискованных поступках, многие из которых были так или иначе связаны с пьянством. Алкоголизм, импульсивность, вызывающая агрессивность и нетерпимость, которые чреваты конфликтами, разборками, когда в ход идет все, что подвернется под руку, включая ножи у аборигенов и огнестрельное оружие у эвенков (как правило, они имеют охотничьи ружья), – все это квалифицируется как косвенное саморазрушающее поведение (indirect self-destructive behavior [ISDB]2).
Описывая комплекс ISDB, психологи и социологи отмечают неоднозначность такого поведения. Конечно, оно опасно для самого носителя и свидетельствует о серьезном экзистенциальном неблагополучии. Но диапазон его социально-психологических функций широк. В некоторых случаях у одного человека оно может быть проявлением суицидальных наклонностей и даже предвестником суицида. В других же ситуациях и/или у другого человека саморазрушающее поведение становится замещением и своего рода защитой от прямых суицидальных действий (Farberow 1989: 44–52). Такого же рода поведение может выступать как уродливый и несостоятельный способ заявить о себе, как эрзац самореализации. Классик гуманистического психоанализа Эрих Фромм, акцентируя деструктивность подобных действий, назвал это “злокачественной агрессией” и дал лаконичное определение: агрессия у человека – это результат непрожитой жизни (Фромм 2016). И Фромм, и современные исследователи подчеркивают, что такого рода поведение – ответ на заданную обществом жизненную ситуацию, повседневные обстоятельства, сопровождающиеся негативными переживаниями, которые ведут к обесцениванию собственной личности, чувству неполноценности (Сычева 2018; Hosseini et al. 2017).
Самоубийство стало рассматриваться как явление с глубокими социальными корнями со времени публикации фундаментального труда Эмиля Дюркгейма “Самоубийство” (Le Suicide, 1897) (Дюркгейм 2019). Предложенная им типология (эгоистическое, альтруистическое, аномическое, фаталистическое самоубийство) до сих пор не утратила свое значение (Huffine 1989: 57–58). Феномен роста числа суицидов среди молодых представителей коренного населения в традиционных обществах разных стран неоднократно становился предметом социологических и социально-антропологических исследований во второй половине ХХ в.: самоубийства среди коренного населения США (Resnik, Dizmang 1971; Dizmang 1968), волна суицидов среди молодежи в Микронезии после Второй мировой войны (Rubinstein 1983), самоубийства на Шри-Ланке, в Японии, на Тайване и Ближнем Востоке (Headley 1983). Эти исследования пытаются дать демографический анализ трагических исходов на фоне относительно спокойного времени (не война, не голод, не катастрофа, декларируется и юридически оформляется равенство различных социальных и этнических групп) и проанализировать социокультурные аспекты самоубийств.
В 1980-е годы сложилось два основных подхода к изучению эпидемии самоубийств: популяционная модель и анализ когорт. Популяционная модель исходит из того, что есть значимая корреляция между уровнем суицидов среди молодежи и увеличением доли молодежи в общей численности населения (тогда как уровень смертности не растет с увеличением численности популяции). Анализ же когорт показывает, что риск суицидов увеличивается в каждом последующем поколении (Holinger, Offer 1989: 19–20). Пытаясь выйти за рамки чисто демографических выкладок, исследователи задаются вопросом, что именно приводит к росту числа суицидов. Ряд авторов это связывает с тем, что в относительно благоприятных экономических условиях увеличивается рождаемость и пришедшее в жизнь более многочисленное молодое поколение сталкивается с жесткой конкуренцией за хорошие рабочие места и места в учебных заведениях, и, как следствие, большее количество молодых людей не достигают успеха. Речь идет о возрастающей конкуренции не столько за жизненные ресурсы, сколько за внешние источники, подтверждающие состоятельность человека как личности, открывающие возможность для самоутверждения, – external sources of self-esteem (Holinger, Offer 1989: 30).
Популяционная модель, отрабатывавшаяся преимущественно на индустриальных обществах и многотысячных выборках, не совсем приложима к эвенкам или коренным австралийцам из удаленных от городских центров поселений. Но идея связи суицидального поведения с отсутствием возможности самоутверждения и формирования высокой самооценки заслуживает пристального внимания.
Традиционные практики и девиантное поведение. Как уже говорилось выше, и у эвенков, и у аборигенов, при всех принципиальных различиях государственных программ в отношении коренного населения, произошло разрушение традиционного уклада жизни. И это не только принудительная оседлость и невозможность свободно распоряжаться в силу введенных квот и всяческих ограничений природными ресурсами, которыми веками владели их предки, разрушение экологии и изменения природного ландшафта промышленными компаниями. Это утрата традиционных сфер деятельности, в которых можно было реализовать себя, быть востребованным и оцененным, причем именно в своей привычной системе ценностей: потеря навыков изготовления орудий, искусства охоты, конструирования жилищ, а также повозок и упряжи (в случае эвенков), забвение мифов и искусства их рассказывать. В традиционных обществах не было безликой “уравниловки”, но всегда были свои признанные авторитеты, прекрасные охотники, исполнители песен, резчики по дереву, наконец, колдуны или шаманы (Артемова 1987: 127–128; 2019а).
Существовал круг занятий, за которые можно было снискать уважение и признание, и круг “своих”, референтная группа тех, чья оценка и признание были значимы. Именно эти сферы социальной жизни и не выдерживают натиска Левиафана.
Разрушается референтная группа значимых других, которая играет важнейшую роль на всех этапах жизни личности. Коренной народ на фоне государства с привносимой им доминирующей культурой оказывается низкостатусной группой. Левиафан XXI в., даже декларируя равенство прав всех граждан, языков и культур, всегда предлагает альтернативный образ жизни как более правильный, прогрессивный, перспективный. Авторитет традиционного сообщества, традиционного уклада жизни тускнеет и сдает свои позиции. В 1970-х годах о такого рода процессах писала М. Мид, показывая, как меняются отношения между поколениями: при миграции, колонизации, резком изменении условий жизни старшее поколение перестает быть безусловным авторитетом для младшего, происходит переход от постфигуративного типа культуры к ко- и префигуративному, когда опыт предыдущего поколения не востребован или вовсе отвергается (Мид 1988). При этом, как неоднократно говорилось, это вовсе не означает, что ценности доминирующей культуры, например “белых австралийцев”, безоговорочно признаются, усваиваются, становятся жизненными ориентирами аборигенов (в отличие от технических достижений вроде мобильных телефонов или музыкальных центров, которые легко заимствуются, принципиально ничего не меняя в системе отношений) (Артемова 2019а).
Нарушаются семейные узы. Среди эвенков часто встречаются неполные семьи из-за того, что нередко один из супругов уезжает из поселения в поисках работы, заводит вдали от дома новые отношения или рано уходит из жизни. Аборигены перестали заключать браки, составляя вместо них пары de facto.
Все это создает предпосылки для нарушения связей между поколениями. Но истинной трагедией и созданием пропасти между поколениями обернулись интернаты, которые не только разлучали на долгое время родителей и детей, но, по сути, отлучали детей от образа жизни, который вели старшие поколения3. Отчасти ту же роль, что и интернаты для детей коренных народов Севера, в Австралии играли дормитории при миссиях. Поколение с синдромом саморазрушающего поведения, безвременно уходящее из жизни, – это дети, чьи родители практически не имели возможности “передать потомству установки и ценности, дающие, метафорически говоря, достаточно надежные навигационные средства и достаточно весомый якорь, чтобы удержать жизненный корабль на плаву и не дать ему безвольно носиться по волнам” (Артемова 2021б).
Разрушение традиционных институтов социализации и каналов передачи знаний от поколения к поколению чревато не только экзистенциальной депривацией молодого поколения и забвением пласта знаний бесписьменного общества (что и произошло, когда перестали проводиться возрастные инициации, бывшие средоточием духовной жизни аборигенов Австралии и посвящавшие каждое новое поколение в круг тайных знаний [Тендрякова 2022: 93–96]), но и нарушением веками существовавшего гендерно-возрастного сценария жизни.
В большинстве традиционных обществ так или иначе выделяются возрастные категории, маркируется переход из одной возрастной категории в другую (как, напр., система возрастных групп гада у народа оромо), путь жизни задан, как расписание поезда, размерен по шагам, у каждого возраста свои обязательства перед обществом, свои радости и преимущества. Это перспектива жизни, пусть общая для всех, усредненная, без посулов “кто был никем, тот станет всем” или “американской мечты”, но перспектива. Когда она исчезает вместе с обесцениванием традиционного образа жизни, а новые горизонты не открываются (или, как у аборигенов, когда горизонты “белых” совсем не вдохновляют коренных австралийцев), возникает “мир без завтрашнего дня”. Не каждый человек может преодолеть эту ситуацию самостоятельно и проложить свою индивидуальную дорогу в будущее. В большинстве случаев нужны “помочи культуры” – будь то система возрастных групп, обряды жизненного цикла или социальные/карьерные лифты.
Исследуя эпидемию суицидов среди подростков в Микронезии, антрополог Д. Рубинштейн связывает ее со стремительным переходом от натурального хозяйства, в основе которого были ловля рыбы и огородничество, к денежной экономике и работе по найму. Это привело к вымиранию традиционных мужских объединений, мужских домов и обрядов инициации, которые были важнейшими институтами социализации, формировали идентичность, способствовали переходу во взрослость молодых жителей мужского пола и во многом определяли их статус и место в обществе на всю последующую жизнь (Rubinstein 1983). Фактором риска суицидального поведения, согласно данным социологов, выступают любые резкие изменения в жизни общества (Huffine 1989).
Если следовать классификации Дюркгейма, описанные факторы риска становятся предпосылками аномических самоубийств. Но в последние десятилетия в связи с развитием индигенной психологии и признанием существования культурно обусловленных синдромов4 (Тендрякова 2020а) все больше внимания уделяется этнокультурным факторам, влияющим на распространенность суицидов в обществе.
Есть культуры и религии, строжайше запрещающие самоубийство, и, напротив, культуры, самоубийство допускающие и даже в недавнем историческом прошлом предписывавшие его (Huffine 1989; Kupfer 1989). Примерами еще не столь давно признаваемых законом и общественно одобряемых суицидов могут быть индуистские обычаи сати, самосожжение вдовы на погребальном костре мужа, и джохар, предписывавший женщинам, чьи мужья погибли в бою, свести счеты с жизнью, дабы избежать бесчестия. Эти самоубийства вызывали почтение, и такой уход из жизни был одной из женских добродетелей. Также можно привести в пример японское сэппуку/харакири как особо привилегированную казнь или как способ разрешения конфликта, когда происходит возвращение поставленного под сомнение доброго имени. В культуре народа коми самоубийство выступает как достойный способ отомстить обидчику: оскорбленный сводит счеты с жизнью на территории, принадлежащей “обидчику” (напр., в его сарае) (Дмитриева, Положий 2003). Такой поступок никак не бросает тень на самоубийцу – напротив, наносит непоправимый социальный ущерб тому, из-за кого все произошло. Аналогичный обычай – типшар, самоубийство как месть своему врагу, – встречается и среди других финно-угорских народов (удмуртов, марийцев, мордвы), а также распространен у чувашей.
В культурах, допускающих суицид, он легитимизируется давними традициями и теснейшим образом связан с наиболее значимыми ценностями жизни и образами мироустройства: джохар и сати овеяны ведическими представлениями об очищающей силе огня, сэппуку/харакири – воплощение самурайского кодекса чести, типшар являет собою форму подвижничества и/или мужественный поступок, причем знаковый, семиотически насыщенный и сокрушающий именно обидчика.
В других культурах религиозные предписания строжайше запрещают самоубийства. Христианство отказывает самоубийце в отпевании и погребении на освященной земле. Ислам считает суицид страшным грехом и грозит самоубийце адом. Но, как показывает жизнь, и в христианском, и в исламском мирах самоубийства не редкость. Доказательствами могут служить массовые гари у старообрядцев в XVII–XVIII вв., эпидемии суицидов в ХХ в. среди последователей различного рода сект и даже среди подростков, а также знаменитые публичные самосожжения женщин в Центральной Азии (в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане), которые в конце ХХ–XXI вв. обрели массовый характер. Последние иногда связывают с древними доисламскими иранскими влияниями и зороастризмом, в котором огонь почитался как очищающая стихия5.
Аборигены давно христианизированы, посещают церковь. Случаи суицида среди них в доколониальные времена не известны, по крайней мере в этнографических источниках XVIII–XIX вв. об этом нет упоминаний. Так что о влиянии дохристианских пластов культуры говорить не приходится. Среди эвенков шаманизм уже более века уживается с православием. И те, и другие прекрасно знают о том, что религия строжайше запрещает сведение счетов с жизнью. Но религиозные заветы, которые выстраивают повседневную жизнь, перестают работать, когда человек сталкивается с ситуацией невозможности6, – у каждого она своя и переживается каждым уникально, особо.
Можно предположить, что в критической ситуации актуализируются самые различные пласты культуры и маргинальные, отвергаемые в нормальных условиях модели поведения.
Не вторгаясь в область психологии личности, механизмов переживания личностного кризиса и механизмов психологических защит, заметим, что в арсенале любой культуры есть не только набор “правильных” моделей и стереотипов поведения, но и запас вариантов “антиповедения”, т.е. того, что разрушает постылый ход вещей и предлагает чаще всего мнимый, но выход из кризиса. Такие действия, как суицид, а также всяческие варианты indirect self-destructive behavior, относятся к этой категории. Они актуализируются в ситуации экзистенциального кризиса как маргинальные, девиантные, но хорошо знакомые обществу стереотипы бунта против всех. В отношении коренных австралийцев можно лишь предположить, что если суициды не входили в их традиционный репертуар девиантного поведения в доколониальный период, то позже стали печальной инновацией.
Конечно, выход за пределы нормативного поведения – это не обязательно суицид и саморазрушение7. Но иные пути преодоления кризиса – переживание и выстраивание новых смыслов жизни – требуют усилий и предполагают личностный поиск новых жизненных стратегий, как на это указывают классик экзистенциальной психологии Виктор Франкл (Франкл 2021) и автор концепции понимающей психотерапии Ф.Е. Василюк (Василюк 2023). В группе риска оказываются те, кто не справляется с кризисной ситуацией в одиночку. Тогда ждать помощи можно от священнослужителя, психотерапевта, в крайних случаях – от психиатра, но к ним надо обратиться, отрефлексировав свое неблагополучие. Во многих же традиционных культурах любые жалобы на самочувствие, обращение за помощью расцениваются как признаки слабости, и это создает дополнительный фактор риска саморазрушающего и/или суицидального поведения (Дмитриева, Положий 2003).
В каждой культуре, в каждом сообществе были свои “ритуалы бедствия” – это память о кризисах, бедах (касающихся всей группы и отдельного человека) и мерах, которые принимались, чтобы их нейтрализовать. Данные обеты и иные действия, выходящие за пределы обыденных норм, – такие, как обращение к высшим силам, окказиональные обряды и обряды перехода, –могут работать как своего рода психотехники переживания и преодоления кризиса. “Ритуалы бедствия” ставят отдельного человека и общество в целом над переживаемой ситуацией кризиса, позволяют взглянуть на него в ином ракурсе, включить отдельное событие в канву социальной памяти, помогают обрести место в “бессмертном обществе” (Адоньева 2020; Веселова 2020).
В качестве “механизмов переживания” травмы или кризиса в далеком прошлом у аборигенов и эвенков (как и во многих других традиционных обществах) могли выступать обряды перехода, очищающие обряды, обереги, ритуальные формы эмоционального проживания случившейся драмы (стоит вспомнить институт плакальщиц или описанные М. Моссом “крики за умершего”, которые начинаются как по команде, когда все прекращают свои занятия и заливаются слезами об усопшем, издают вопли, даже ранят себя [Мосс 1996: 77–79]).
Но культурный арсенал практик коренных народов, в частности эвенков и аборигенов, существенно разрушен. Да и новые проблемы требуют иных способов социальной рефлексии.
В (пост)индустриальном обществе в роли подобного рода «культурных практик» выступает многое: от литературы, искусства и публицистики до таких жанров “быстрого реагирования”, как постфольклор и ньюслор (newslore) в виде быличек, анекдотов, черного юмора, функциями которых среди прочего являются компенсация травмирующих переживаний и адаптация общества к меняющемуся контексту жизни (Байдуж и др. 2015). Коренные же народы, утратив свои “ритуалы бедствия”, не успели освоить или вооружиться подобными новыми культурными средствами и приемами защиты.
Здесь на первый план выступает такой параметр культуры, как рефлексивность: насколько в культуре разработаны возможные “инструменты” анализа и/или эмоционального переживания происходящего на уровне общества в целом, и насколько культура стимулирует или, наоборот, стигматизирует как позорную слабость внимание человека к своему собственному состоянию, физическому и душевному.
В связи с этим можно выделить еще один социокультурный фактор, так или иначе связанный с поведением человека в ситуации кризиса, а именно: насколько культура/общество склонны работать с негативом. Вышеупомянутая позиция информантов, как эвенков, так и аборигенов, – о плохом говорить не будем) – связана не только с закрытостью от чужаков. Две эти столь различные традиционные культуры в данной точке сходятся – они налагают запрет на разговор о плохом: слова материальны, не береди лихо, негативный прогноз может реализоваться. В итоге под запретом оказывается рефлексия всего неприятного, травмирующего, тревожного – как случившегося, так и печальных перспектив; в итоге негативный сценарий событий в расчет не берется. На плохое закрывают глаза, негатив не прорабатывается ни на личном, ни на общесоциальном уровнях. Такого рода аберрация воспринимаемой реальности в русле клинических исследований получила название “антиципационная несостоятельность” – табу на “разновариантное прогнозирование жизни” и предвосхищение лишь позитивных событий. Все это с точки зрения врача-психиатра Т.Б. Дмитриевой, в свою очередь, может принять характер психотравмирующего и даже суицидогенного фактора (Дмитриева, Положий 2003).
“Антиципационная несостоятельность” – это то, что особенно актуально в зоне контактов коренных культур и “цивилизованных” обществ. Когда стереотипный способ действия не приносит ожидаемый результат и нет привычки предвидеть, что что-то может пойти не так, любая неожиданность может стать источником фрустрации. Например, традиционная система отношений аборигенов – demand sharing – предполагает, что сородичи всегда поделятся друг с другом и откликнутся на любую просьбу. Так было испокон веков: делились охотничьей добычей и другими скромными материальными благами, но в новых условиях это не всегда срабатывает: “…в какое неукротимое бешенство впадает абориген, услышавший отказы (несколько подряд) в ответ на просьбу… И отказывающие, и встречающие отказы получают глубокую психологическую травму, и для тех, и для других рушится привычный мир” (Артемова 2019б: 205).
* * *
Подводя общую черту под сказанным, можно сделать предварительное заключение, что особенности традиционной культуры коренного народа выступают не столько предпосылками, сколько факторами риска саморазрушающего поведения.
При этом ни культурные, ни религиозные установки не могут стать преградой на пути самоубийства. Но снятие запретов и романтизация суицидов могут существенно увеличить шанс обращения к такому способу разрешения трудной ситуации.
Дополнительными социокультурными факторами риска представляются наличие в культуре табу на болезненные темы, связанные с жизнью и смертью, нежелание говорить или брать в расчет негативные эмоции и травмирующие события (“антиципационная несостоятельность”), равно как и культ силы, который по-своему накладывает негласный запрет на рефлексию по поводу болезней и душевных невзгод.
Миграции, колонизация, резкие перемены образа жизни во всем мире признаны факторами риска депрессивного состояния и роста суицидального поведения (Kupfer 1989).
Само столкновение автохтонных, бесписьменных культур с (пост)индустриальными, даже если государственная политика стремится быть бережной по отношению к коренному народу, так или иначе чревато созданием аномической ситуации.
Сказанное выходит далеко за пределы проблем, с которыми приходится иметь дело коренным народам. Во всем мире интенсивнейшим образом идут процессы, меняющие привычную систему отношений и сталкивающие различные системы ценностей. Нам постоянно говорят, что мы живем в эпоху перемен и в меняющемся мире и нам надо расстаться с иллюзией стабильности, привыкнуть к непредсказуемости, принять вызовы неопределенности (см. подробнее: Асмолов 2018). О нарастающей неопределенности, энтропии и связанных с ними экзистенциальных проблемах писали философ Ж.Ф. Лиотар, автор теории самоорганизующихся систем И.Р. Пригожин, эту же тему продолжил бизнес-аналитик, публицист и экономист Н. Талеб. Вопрос о том, как жить в меняющемся мире, требует пристального внимания к самым разным культурам, традиционным и (пост)индустриальным, переосмысления привычных институтов социализации, поиска путей и психотехнологий противостояния аномии, которая так или иначе сопутствует процессам, происходящим в многообразном глобализирующемся мире.
Примечания
1 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
2 ISDB включает широкий спектр вариантов поведения: от непосредственно самих актов самоубийства до членовредительства, опасных поступков и бездействия, которое может нанести вред здоровью (отказ пить, есть, принимать лекарства, пренебрежение своим физическим или психическим состоянием, несоблюдение медицинских требований) – все, что так или иначе приводит к преждевременной смерти (Hosseini et al. 2017).
3 Комплекс проблем, связанных с интернатами для детей народов Севера, неоднократно освещался в литературе (см., напр.: Лярская 2003).
4 Культурно обусловленные синдромы – расстройства психики и формы девиантного поведения, специфичные для определенной культурной группы. Этот диагноз включен в 4-е издание “Диагностического и статистического руководства по ментальным расстройствам” (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1994).
5 См.: Курбанова М. Самосожжение: символ очищения или протеста? Почему таджикские женщины предпочитают самоубийство через самосожжение? // ASIA-Plus Media group/Tajikistan. 20.03.2018. https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20180320/samosozhzhenie-cimvol-ochitsheniya-ili-protesta
6 “Ситуациями невозможности” автор концепции понимающей психотерапии Ф.Е. Василюк назвал обстоятельства, когда человек сталкивается с невозможностью жить так, как жил раньше, и вынужден предпринимать какие-то действия, чтобы что-то изменить (Василюк 1984: 25–31).
7 Необходимо оговориться, что сфера девиантного поведения отнюдь не ограничивается саморазрушающими поступками. В исследованиях культуры к таким действиям относятся смеховое поведение, шутовство, “узаконенное безумство”, выходки трикстеров, креативные деяния культурных героев и богов, юродивых, пророков и других персонажей, которым “закон не писан”, а также нестандартные поступки отдельных личностей (Лихачев и др. 1984; Успенский 1994; Лотман 1992; Иванов 2005; Асмолов 1996). Важность такого рода поведения и его инновационный потенциал для развития культуры неоднократно исследовался и подчеркивался в ряде работ (см.: Лотман 1992; Бахтин 1965; Лихачев и др. 1984; Асмолов 1996, 2018). О дозволенных и недозволенных отклонениях от нормы см. подробнее: Тендрякова 2020б: 290–329.
About the authors
Maria V. Tendryakova
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: mashatendryak@gmail.com
к. и. н., старший научный сотрудник центра азиатских и тихоокеанских исследований
Russian Federation, 32a Leninsky prospekt, Moscow, 119991References
- Adonyeva, S.B. 2020 Ritualy bedstviia i zavetnye prazdniki [Rites of Trouble and Covenant Holidays]. In Ritualy bedstviia: antropologicheskie ocherki [Disaster Rituals: Anthropological Essays], edited by S.B. Adonyeva, 7–45. St. Petersburg: Proppovskii tsentr.
- Artemova, O.Y. 1987. Lichnost’ i sotsial’nye normy v rannepervobytnoi obshchine [Personality and Social Norms in an the Early Prehistory Community]. Moscow: Nauka.
- Artemova, O.Y. 2019. Unesennye Snovideniiami: liki minuvshego, ili opyt istoricheskoi etnologii v litsakh [Gone in Dreams: Faces of the Past, or the Experience of Historical Ethnology in the Person’s Stories]. In Lichnost’ v kaleidoskope kul’tur [Personality in a Kaleidoscope of Cultures], edited by N.L. Zhukovskaia, 111–164. St. Petersburg: Nestor-Istoriia.
- Artemova, O.Y. 2019. Etos okhotnika i plody prosveshcheniia: lichnost’ i sotsium na rubezhe kul’tur [The Ethos of Hunter and the Fruits of Enlightenment: Personality and Society at the Border of Cultures]. In Lichnost’ v kaleidoskope kul’tur [Personality in a Kaleidoscope of Cultures], edited by N.L. Zhukovskaia, 165–221. St. Petersburg: Nestor-Istoriia.
- Artemova, O.Y. 2021. Proekt Uchebno-nauchnogo tsentra sotsial’noi antropologii (RGGU i IEA RAN) “Na frontire kul’tur: ot individual’nykh biografii k istoricheskim sud’bam etnicheskikh soobshchestv (evenki Sibiri i korennye avstraliitsy v usloviiakh modernizatsii)” [Project of the Educational and Scientific Center of Social Anthropology (RGGU and IEA RAS) “On the Frontier of Cultures: From Individual Biographies to the Historical Destinies of Ethnic Communities (Evenks of Siberia and Indigenous Australians in the Conditions of Modernization)]. Novye rossiiskie gumanitarnye issledovaniia 16. http://www.nrgumis.ru/articles/2170
- Artemova, O.Y. 2021. Sud’by liudei i biografii narodov [Personal Fates and Biographies of Peoples]. Novye rossiiskie gumanitarnye issledovaniia 16. http://nrgumis.ru/articles/2171
- Artemova, O.Y. 2022. Rytsari taigi, pervye avstraliitsy i obyknovennyi kapitalizm [The Knights of the Taiga, the First Australians and the Ordinary Capitalism]. Traditsionnaia kul’tura 23 (4): 125–149. https://doi.org/10.26158/TK.2022.23.4.011
- Asmolov, A.G. 1996. Kul’turno-istoricheskaia psikhologiia i konstruirovanie mirov [Cultural-Historical Psychology and the Construction of Worlds]. Moscow: Institut prakticheskoi psikhologii.
- Asmolov, A.G. 2018. Psikhologiia sovremennosti: vyzovy neopredelennosti, slozhnosti i mnogoobraziia [Psychology of Our Time: Challenges of Uncertainty, Complexity and Diversity]. In Mobilis in mobile: lichnost’ v epokhu peremen [Mobilis in Mobile: Personality in the Epoch of Changes], edited by A. Asmolov, 13–28. Moscow: Izdatel’skii Dom YaSK.
- Baiduzh, M.I., et. al., eds. 2015. Newslore i medialore v sovremennom mire: fol’klorizatsiia deistvitel’nosti: tezisy dokladov Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Moscow, 3–4 aprelia 2015 [Newslore and Medialore in the Modern World: Folklorization of Reality, Abstracts from the International Scholarly Conference: Moscow, 3–4 April 2015]. Moscow: Delo.
- Bakhtin, M.M. 1965. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul’tura srednevekov’ia i renessansa [The Work of Francois Rabelais and the Folk Culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moscow: Khudozhestvennaia literatura.
- Dmitrieva, T.B., and B.S. Polozhii. 2003. Etnokul’turnaia psikhiatriia [Ethnocultural Psychiatry]. Moscow: Meditsina.
- Dolgikh, D.A., G.S. Korytin, and M.A. Shchekin. 2021. V Verkhnebureinskom raione Khabarovskogo kraia i Severo-Baikal’skom raione Respubliki Buriatiia [In the Verkhnebureinsky District of the Khabarovsk Territory and the North-Baikal Region of the Republic of Buryatia]. Novye rossiiskie gumanitarnye issledovaniia 16. http://www.nrgumis.ru/articles/2173
- Dolgikh, D.A., and M.A. Shchekin. 2023. Chto dala modernizatsiia evenkam? Global’nye proekty veka i sud’by liudei [What Did Evenks Get from Modernization? Global Projects of the Century and People’s Destinies]. Etnograficheskoe obozrenie 5: 111–124. https://doi.org/10.31857/S0869541523050081
- Durkheim, E. 2019. Samoubiistvo [Suicide]. Moscow: AST.
- Ivanov, S.A. 2005. Blazhennye pokhaby: kul’turnaia istoriia iurodstva [Blessed Obscenities: A Cultural History of Foolishness]. Moscow: Yazyki slavianskoi kul’tury.
- Farberow, N.L. 1989. Preparatory and Prior Suicidal Behavior Factors. In Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration: Report of the Secretary’s Task Force on Youth Suicide. Vol. 2, Risk Factors for Youth Suicide, edited by L. Davidson and M. Linnoila, 34–55. DHHS PUb. No. (ADM)89-1622. Washington, D.C.: Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off. https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/120458NCJRS.pdf
- Frankl, V. 2021. Skazat’ zhizni “Da!”: psikholog v kontslagere [Say “Yes” to Life!: Psychologist in a Concentration Camp]. Moscow: Al’pina non-fikshn.
- Fromm, E. 2016. Begstvo ot svobody [The Escape from Freedom]. Moscow: AST.
- Hosseini, C., J. Walsh, and L.M. Brown. 2017. Indirect Self-Destructive Behaviour across the Lifespan. In Handbook of Suicidal Behaviour, edited by U. Kumar. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4816-6_13
- Holinger, P.C., and D. Offer. 1989. Sociodemographic, Epidemiologic, and Individual Attributes. In Report of the Secretary’s Task Force on Youth Suicide. Vol. 2, Risk Factors for Youth Suicide, edited by L. Davidson and M. Linnoila, 19–33. DHHS PUb. No. (ADM)89-1622. Washington, D.C.: Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off. https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/120458NCJRS.pdf
- Huffine, C. 1989. Social and Cultural Risk Factors for Youth Suicide. In Report of the Secretary’s Task Force on Youth Suicide. Vol. 2, Risk Factors for Youth Suicide, edited by L. Davidson and M. Linnoila, 56–70. DHHS PUb. No. (ADM)89-1622. Washington, D.C.: Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off. https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/120458NCJRS.pdf
- Kluckhohn, C. 1998. Zerkalo dlia cheloveka. Vvedenie v antropologiiu [Mirror for Man: The Relation of Anthropology to Modern Life]. St. Petersburg: Evraziia.
- Klyaus, V.L., and N.V. Kirilov. 2021. V Zabaikal’skom krae i v Respublike Buriatiia. “Konnye tungusy”, “orocheny”, “evenki”: prezhde i teper’ [In the Trans-Baikal Territory and the Republic of Buryatia, “Horse Tungus”, “Orochens”, “Evenks”: Before and Now Days]. Novye rossiiskie gumanitarnye issledovaniia 16. http://www.nrgumis.ru/articles/2172
- Kupfer, D.J. 1989. Summary of the National Conference on Risk Factors for Youth Suicide. In Report of the Secretary’s Task Force on Youth Suicide. Vol. 2, Risk Factors for Youth Suicide, edited by L. Davidson and M. Linnoila, 9–16. DHHS PUb. No. (ADM)89-1622. Washington, D.C.: Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off. https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/120458NCJRS.pdf
- Likhachev, D.S., A.M. Panchenko, and N.V. Ponyrko. 1984. Smekh v Drevnei Rusi [The Laughter in Old Russia]. Leningrad: Nauka.
- Lotman, Y.M. 1992. Kul’tura i vzryv [Culture and Bursting]. Moscow: Gnozis.
- Liarskaia, E.V. 2003. Severnye internaty i transformatsiia traditsionnoi kul’tury (na primere nentsev Yamala) [Northern BoardingSschools and the Transformation of Traditional Culture (On the Example of the Nenets of Yamal)]. PhD diss., Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera).
- Mead, M. 1988. Kul’tura i preemstvennost’. Issledovanie konflikta mezhdu pokoleniiami [Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap]. In Kul’tura i mir detstva. Izbrannye proizvedeniia [Culture and the World of Childhood: Selected Works], edited by I.S. Kon, 322–362. Moscow: Glavnaia redaktsiia vostochnoi literatury izdatel’stva “Nauka”.
- Mauss, M. 1996. Obshchestva. Obmen. Lichnost’: Trudy po sotsial’noi antropologii [Societies, Exchange, Personality: Works in Social Anthropology]. Moscow: Vostochnaia literatura.
- Mikhalev, M.S. 2022. (An)tropologiia frontira: dorogi i tropy v sud’bakh priamurskikh evenkov [Frontier Antrailpology: On the Trails and Roads in the Lives of Amur Evenks]. Vestnik antropologii 3: 221–232. https://doi.org/10.33876/2311-0546/2022-3/221-232
- Napoleon, H. 1991. Yuuyaraq: The Way of the Human Being Paperback, edited by E. Madsen. Fairbanks: University of Alaska; College of Rural Alaska; Center for Cross-Cultural Studies.
- Resnik, H.L.P., and L.H. Dizmang. 1971. Observations on Suicidal Behavior among American Indians. The American Journal of Psychiatry 127 (7): 882–887. https://doi.org/10.1176/ajp.127.7.882
- Rubinstein, D.H. 1983. Epidemic Suicide among Micronesian Adolescents. Social Science & Medicine 17 (10): 657–665. https://doi.org/10.1016/0277-9536(83)90372-6
- Headley, L.A., ed. 1983. Suicide in Asia and the Near East. Berkeley: University of California Press.
- Sycheva, N.B. 2018. Tipy i vidy samorazrushaiushchego povedeniia obuchaiushchikhsia [Types of Self-Destructive Behavior of Students]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii 3: 66–72.
- Tendryakova, M.V. 2020. Bolezn’ kak sotsiokul’turnyi sindrom: mezhdu prirodoi i kul’turoi (k postanovke problemy) [Illness as a Sociocultural Syndrome: Between Nature and Culture (Towards the Formulation of the Problem]. Voprosy psikhologii 66 (3): 92–101.
- Tendryakova, M.V. 2020. Mnogoobrazie tipichnogo. Ocherki po kul’turno-istoricheskoi psikhologii narodov [Variety of the Typicalness: Essays on the Cultural-Historical Psychology of peoples]. Moscow: Izdatel’skii Dom YaSK.
- Tendryakova, M.V. 2022. Antropologiia detstva. Proshloe o sovremennosti [Anthropology of Childhood: The Past Is about the Present]. St. Petersburg: Obrazovatel’nye proekty.
- Tishkov, V.A., ed. 2018. Antropologiia i etnologiia: uchebnik dlia bakalavriata i magistratury [Anthropology, Ethnology: Handbook and Workshop for the Bachelor’s and Master’s Degrees]. Moscow: KDU; Universitetskaia kniga.
- Tokarev, S.A. 1958. Etnografiia narodov SSSR [Ethnography of the Peoples of the USSR]. Moscow: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta.
- Uspenskii, B.A. 1994. Izbrannye trudy. T. 1, Semiotika istorii. Semiotika kul’tury [Semiotics of History. Vol. 1, Semiotics of Culture]. Moscow: Gnozis.
- Vasiliuk, F.E. 1984. Psikhologiia perezhivaniia. Analiz preodoleniia kriticheskikh situatsii [Psychology of Experience: The Overcoming of the Crisis Life Situations and Their Analysis]. Moscow: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta.
- Vasiliuk, F.E. 2023. Ponimaiushchaia psikhoterapiia kak psikhotekhnicheskaia sistema [Coexperiencing Psychotherapy as a Psychotechnical System]. St. Petersburg: Piter.
- Veselova, I.S. 2020. Iz chego sostoiat ritualy bedstviia? [What Do Disaster Rituals Consist of?] In Ritualy bedstviia: antropologicheskie ocherki [Disaster Rituals: Anthropological Essays], edited by S.B. Adonyeva, 46–71. St. Petersburg: Proppovskii tsentr.
Supplementary files