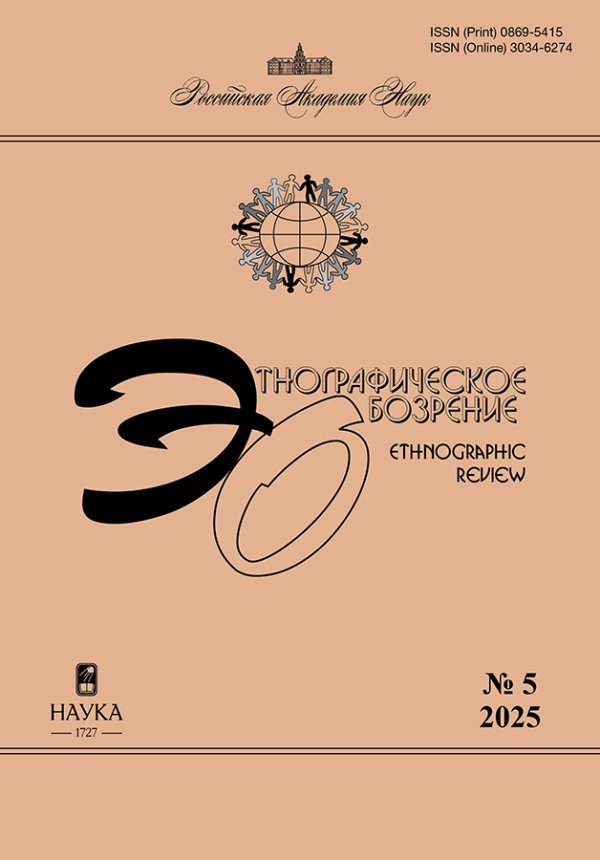Немецкие разговоры о полевой этнографии: взгляд из российской традиции
- Авторы: Бучатская Ю.В.1
-
Учреждения:
- Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), РАН
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 169-189
- Раздел: Статьи и материалы
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-5415/article/view/262035
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524020093
- EDN: https://elibrary.ru/CKNADR
- ID: 262035
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья представляет взгляд исследователя, взращенного в российской традиции на немецких коллег-этнографов как Других. В сравнении с российским материалом рассматривается восприятие немецкими этнографами полевого исследования как главной практики и метода дисциплины, проявляющееся в неформальной коммуникации о поле. Для сравнительного анализа профессиональных культур российских и немецких этнографов оказалось невозможно применить одинаковую оптику, однако выявились сходные нарративы о полевом исследовании. Причина сходства кроется в коммуникативном характере работы этнологов и в универсальных особенностях психологии людей, производящих этнологическое знание. Рефлексируя по поводу сбора этого материала в берлинском поле, автор обращает взгляд на себя, изучающего Других, и делает выводы о влиянии субъективного опыта и границ между разными научными традициями на то, как проходило исследование и какие интерпретации получил материал, а также о неблагоприятном влиянии асимметрии ролей исследователя и исследуемых, сделавшей проблематичным сопроизводство знания.
Полный текст
Одной из существенных методологических инноваций второй половины ХХ в. стало осознание того факта, что науки представляют собой социальные конструкты и потому следует не только изучать пути их развития на эпистемологическом уровне, но и рассматривать коллективы в качестве субъектов научного творчества, создателей, оформителей, носителей идей. Стивен Шейпин пишет о том, что наука производится людьми, обладающими телесностью, занимающими определенное место во времени, пространстве, культуре и обществе и различными средствами стремящимися к правдоподобности и авторитетности (Shapin 2010). Пол Стивен Сангрен, указывая на ситуативность производства знания как одного из социальных процессов, осуществляемых людьми (последними управляют различные внутренние идеологии, неформальные правила, нормы и практики), предполагает, что закулисные разговоры ученых могут рассказать об антропологии больше, чем официальное дисциплинарное самопредставление (Sangren 2007: 14, 16). Соответственно, различные профессиональные/дисциплинарные сообщества обладают собственными неформальными культурами, которые предполагают наличие общих определенных идентичностей и конституирующих их практик, символов, представлений и норм (см.: Freidson 2001; Гадеа 2011; Романов, Ярская-Смирнова 2008). Татьяна Борисовна Щепанская предприняла попытку взглянуть на практики профессиональных сообществ как на классический объект этнографии, описав их в привычных для этой науки терминах (Щепанская 2010). Мое исследование профессиональной культуры немецких этнографов и их разговоров о своей профессиональной культуре во многом было вдохновлено работами Щепанской (Щепанская 2008а, 2008б).
Антропологи изучают обычаи и ритуалы других сообществ, объективируя их, но свои собственные, которые можно описать в тех же терминах, они оставляют за скобками и проговаривают только в неофициальной, “несерьезной” коммуникации. Я решила обратиться к кулуарным разговорам немецких этнологов и рассмотреть, как воспринимают свою дисциплинарную культуру мои коллеги в Германии, а затем проанализировать свой процесс полевой работы с ними. Многолетний опыт сотрудничества с немецкой гуманитарной средой не только способствовал моему интересу к проведению сравнительного анализа отдельных аспектов двух традиций, но и наталкивал на некоторые вопросы: что общего и в чем отличие между восприятием работы в поле и рассказом о ней в Германии и в России? можно ли провести такое исследование? заинтересует ли оно моих немецких коллег и согласятся ли они на него? Экзотизируя привычные дисциплинарные практики этнографов, я провоцировала моих собеседников на рефлексию, и как профессионалы они не только производили нарратив, но предлагали его интерпретацию с антропологической точки зрения.
Исследование проходило в рамках индивидуального проекта, над которым я работала в течение 2012–2013 гг. в Берлине1. Я проводила интервью и наблюдения в двух учреждениях, специализирующихся на европейской этнологии, – в Институте европейской этнологии Берлинского университета Гумбольдта2 (ИЕЭ) и Музее европейских культур Фонда прусского культурного наследия3 (МЕК) – и сравнивала полученные материалы с наблюдениями из собственной рабочей повседневности в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (МАЭ РАН). Выбор указанных учреждений на начальном этапе проекта казался вполне оправданным: с одной стороны, немецкий институт при университете, ведущий научную, в том числе полевую деятельность, и немецкий музей, с другой – российская академическая структура, совмещающая музейную и научную деятельность. Кроме того, я руководствовалась соображениями доступности: вход в берлинское поле облегчали ранее имевшиеся контакты с директорами берлинских учреждений, российское же поле было доступно мне как многолетнее постоянное место работы. В результате годовой стационарной полевой работы мной было собрано 29 интервью и сделаны записи наблюдений, спонтанных бесед с 27 сотрудниками ИЕЭ и МЕК, включая бывших директоров этих учреждений.
Под этнографией и этнографами в данной статье я буду понимать социальные дисциплины и представителей социальных наук, работающих с этнографическими методами, как бы они ни назывались в разных национальных или институциональных традициях Германии (Ethnologie, Europäische Ethnologie, Empirische Kulturwissenschaft, Deutsche Volkskunde, Sozial- und Kulturanthropologie).
В публикациях, посвященных полевому исследованию как практике, подчеркивается центральная роль этого метода в этнографии; полевое исследование описывается как: “королевский путь” (Kaschuba 2006: 197); “маркер идентичности” (Färber 2009: 179); “характеристика, парадигма, идеология, фирменный знак и центральный метод” (Beer 2008: 11); “стена, о которую разбиваются теоретические конструкции кабинетных ученых, горнило, через которое должен пройти каждый новичок или каждая идея, прежде чем они обретут статус профессиональности” (Комарова 2012: 17). Поэтому в фокусе моего наблюдения и этой статьи оказывается именно полевое исследование и то, как о нем рассказывают сами представители этнографического сообщества.
В России профессиональный статус этнографа как эксперта по “народной жизни” традиционно связан с перемещением в географическом и социальном пространстве, что позволяет Щепанской говорить об усвоенной в процессе профессиональной социализации некой норме: истинное этнографическое знание находится далеко от городской кабинетной повседневности; чтобы его получить, ученый должен преодолеть определенные трудности, проделав долгий путь (см.: Щепанская 2008б; Смирнова 2010). В культуре российских этнографов главную роль играют экспедиции, и уже в терминологии проявляется отличие российской традиции от немецкой. В Германии примерно с 1980-х годов работа в этнографическом поле не обязательно связана с отъездом в отдаленные места, поэтому термин “экспедиция” неприменим к этнографической полевой работе. Он употребляется, например, в отношении арктических и антарктических кампаний или горных восхождений. Оттого, скажем, во время моей первой длительной полевой работы в Германии в ходе разговоров с немецкими коллегами возникало множество недоразумений и даже скрытых обид: как можно ехать в экспедицию в Германию (“ведь мы не в Антарктиде!”)? Даже этнографическая работа в неевропейских обществах, отделенных от Германии тысячами километров, именуется “полевым исследованием”. (Показательна в этой связи роль экспедиций в прежней системе так наз. стимулирующих рейтинговых надбавок МАЭ РАН, которая была реформирована несколько лет назад: баллы, которые затем выражались в ежемесячной денежной надбавке к основной зарплате, начислялись в числе прочего за экспедиционный выезд.) Тем не менее в немецкоязычной специальной литературе этнограф также предстает в образе посредника между “тем миром”, далеким, географически и культурно недоступным, и непрофессионалом или другим профессионалом – потребителем научного этнографического продукта. Факт пребывания “там” (со времен Бронислава Малиновского и становления его парадигмы полевого исследования), несмотря на нынешние дебаты, продолжает определять исключительное право этнографа на истину об изучаемых культурах (Kaschuba 2006: 200).
Основной формой полевых исследований в советском/российском профессиональном пространстве этнографов в послевоенные годы были регулярные коллективные экспедиции. На их основе формировались временные коллективы, а также более широкие и стабильные сети, которые определяли структуру этнографического сообщества. Именно такие коллективы были (и зачастую остаются) той средой, в которой транслировались неформальные профессиональные традиции. Опыт жизни в экспедиции способствует переплетению профессионального знания и бытовой повседневности. Это дает основание исследователям говорить о самом поле как о “символе знания” в неофициальном дискурсе (Щепанская 2008а: 104). Причем речь идет не только об этнографическом знании, но и о знании стратегий выживания, а также об умении организовывать быт в полевых условиях и владении разными коммуникативными навыками (нужно найти подход к информантам и ужиться с товарищами по экспедиции). Именно коллективная среда советских/российских полевых выездов играла важнейшую роль в передаче знаний и навыков от старших коллег новичкам, что позволяет говорить о поле как о лаборатории и пространстве профессиональной социализации.
Полевому исследованию в карьере этнографа может придаваться и более существенное значение. Клод Леви-Строс, как известно, видел в нем своего рода инициацию, которая делает из исследователя принципиально нового человека, которая может быть для него болезненна физически и психически и через которую он приобретает новые и осмысленные знания о себе и об изучаемом обществе (Леви-Строс 2010: 37; von Bose 1990: 5–6).
Восприятие этнографического полевого исследования как посвящения в дисциплину связано с традиционной ориентацией антропологии на так наз. экзотические культуры. Структурирующий элемент многих полевых дневников и отчетов – встреча с чужим, “другим”. Полевой опыт как инициация связан с почти мистическим опытом пересечения границ: географических, социальных, а также субъективных, если речь идет о сопряженных с таким перемещением экзистенциальных кризисах и самопознании. Однако экзотизация “другого” в антропологии критикуется как пережиток колониальных времен, а в восприятии полевого исследования как инициации усматривают среди прочего механизм отграничения представителей профессии как группы (Lange 2005: 20).
Для студентов этнографических кафедр российских университетов – петербургский материал это показывает – первый выезд в поле зачастую является и первым опытом самостоятельной жизни вне родительского дома или по крайней мере пребывания вне городской цивилизации и ее удобств. В этом смысле сама такая экспедиция считается переходом в новый статус – статус этнографа, статус профессионала. Щепанская описывает особые ритуализованные практики в ходе первой для студента работы в поле, которые на символическом уровне маркируют переход от “новичка” к “этнографу”: “обычаи посвящения в профессию”, представляющие собой определенное испытание, например ночное посещение “страшных мест” вроде заброшенных церквей или захоронений, ночевку на погребальном сооружении; определенные действия, носящие игровой характер, как, например, имитация погребения участников – “положение в могилу” (Щепанская 2008а: 103; 2010: 108–109). В европейском университетском контексте также известны подобные, порой достаточно жестокие и унизительные ритуалы инициации, например среди студентов-первокурсников или выпускников французских университетов (фр. bizutage) (Hölzl 2014). Все они могут рассматриваться в одном ряду с ритуалами перехода по Арнольду ван Геннепу.
Исходя из этих общих положений я сформулировала предварительную гипотезу о том, что так как и немецкие, и российские этнографические коллективы считают полевое исследование неотъемлемой частью своей работы, они должны обладать определенным набором сходных черт, которые проявляются в особенностях вербальной и невербальной коммуникации и транслируются в процессе профессиональной социализации новым членам коллектива, в результате чего складывается специфическая дисциплинарная (или профессиональная) идентичность, выступающая критерием принадлежности к профессиональной общности. В этом смысле можно вслед за Тимом Филлипсом (Phillips 2002), Полом Стивеном Сангреном (Sangren 1995, 2007) и Татьяной Борисовной Щепанской (Щепанская 2010) говорить о переносе концепции воображаемых сообществ Бенедикта Андерсона на иные консолидированные коллективы, в данном случае – профессиональные.
Ожидалось, что профессиональная идентичность будет доминировать над национальной и институциональной, что означало бы возможность “взаимного узнавания” этнографов обеих изучаемых стран, при котором “этнографический глаз” выхватывал бы “своих” коллег, отличая их от представителей других академических дисциплин. Иными словами, моя гипотеза базировалась на моей “домашней” перспективе и моем личном опыте работы в российском этнографическом учреждении. Размышляя над своим восприятием российского материала, я каждый раз отмечаю, что именно эта родная реальность была принята мной за норму и масштаб сравнения. Домашняя ситуация оказалась, таким образом, спроецирована на исследовательские цели и, соответственно, на мои ожидания, а реальность берлинских этнографических коллективов по этой причине представлялась мне как некое отклонение от нормы. В результате ряд аспектов исходной гипотезы не подтвердился.
Поле в разговорах: место, практика и ритуал
Как-то мой петербургский коллега N.N. не без профессиональной гордости рассказал историю из одной из своих регулярных экспедиций по Балканам. Группа N.N. встретила в горах известного немецкого ученого Т.К., также специализирующегося на этом регионе. Одно время все ехали вместе, а затем их пути разошлись. Российские этнографы отправились дальше в горы, а господин Т.К. спустился в ущелье, где через пару километров располагалась туристическая деревня с отелем и рестораном. Там немецкий коллега, по предположению N.N., скорее всего уселся под тентом, заказал кружку пива и, заведя беседу с местными за столиком, собирал свой материал, в то время как “наши этнографы” работали под палящим солнцем в отдаленных горных селениях, куда можно добраться только на осле. Этот рассказ иллюстрирует приведенный выше тезис о буквальной труднодоступности настоящего научного знания.
Сходные рассказы о полевом исследовании, где важным и необходимым этапом получения знания является движение/перемещение, встречаются и в рассуждениях моих немецких коллег – информантов из МЕК:
Но ты знаешь, ведь действительно есть разница, если ты проводишь исследования в своем обществе, в своем окружении, да еще и в том же месте, в том же городе – или если ты действительно отваживаешься и предпринимаешь попытку вырваться и податься в другое место, это большая разница. Я имею в виду Дагмар, они [ее группа] тогда во время учебы в университете осуществляли так наз. “Проект по равнине”, исследовали Магдебургскую равнину. Они должны были уехать из Берлина, чтобы попасть туда и там проводить свое исследование. И это совсем другое дело, чем если ты здесь, в Берлине, разок съездишь на Котти (берлинская улица Коттбусер-дамм. – Ю.Б.) и проведешь одно интервью. Для меня это не поле (ПМА 2013: E.T.).
Это было непросто в то время. Конечно, ехали через Бухарест, не было возможности приехать прямо в деревни и сказать: госпожа такая-то, меня интересует, как вы живете… Все должно было пройти через Бухарест, в Бухаресте еще можно было обойтись немецким языком, но потом нас послали в Сибиу (Германштадт), и там объясниться можно было только по-французски. Но проблема была потом, в деревне, когда пришла милиция: тогда мы показали бумагу с разрешением, “легитимацию”, и все были в восторге, все повторяли: “Делегация”, – это было волшебное слово, все с ним получалось (ПМА 2013: K.V.).
В одну поездку я ужасно много времени провела в попытках попасть в архив, постепенно это стало самоцелью исследования, мне уже было неважно, что я, собственно, хотела в архиве, – намного интереснее стало, что еще от меня потребуют, чтобы получить допуск в этот архив, в конце концов мы остановились на справке об отсутствии ВИЧ, которую мне надо было предъявить. То есть постепенно это становилось отдельным полевым исследованием того, “кто что теперь должен подписать”, и “кто как за меня должен поручиться”, и “что я еще должна сделать”, и “надо ли берлинскому посольству написать для меня еще одно письмо”, но берлинское посольство не подписывает ничего, что не подписано берлинским сенатом, т.е. это приняло уже форму протеста и занимало меня достаточно долгое время (ПМА 2013: M.K.).
В последних двух примерах видится показательным не только факт преодоления трудностей как доказательство высокого профессионализма, но и мотив противостояния профессионала бюрократии и ироничный тон, которым описывается немного преувеличенная ситуация конфронтации ученого с властными инстанциями в изучаемых странах – Румынии и Азербайджане.
Мой берлинский материал не обнаружил каких-либо коллективных ритуализованных практик в поле, маркирующих вступление в профессию, т.к. по большей части он касался индивидуальных проектов. Тем не менее, рефлектируя над первым полевым опытом, мои берлинские коллеги определяют его в привычных терминах этнографии – как дисциплинарную инициацию:
Это был своеобразный ритуал инициации, без сомнения, для этнолога, который еще ни разу не был в поле, не проводил полевого исследования. Абсолютно. Я тогда так это воспринимала, и это так и есть. Должна сказать, этнолог, занимающийся другими культурами и ни разу не выезжавший в поле, – для меня это не обсуждается. Просто не обсуждается. Это невозможно. Я имею в виду, тогда я была молодой – 27 или 28 лет, для меня это было невероятное событие: познакомиться с другой страной, узнать других людей; я сама очень сильно продвинулась в своем развитии. В плане личностного развития я получила такой большой опыт, я получила опыт опасных ситуаций и опыт того, что не все люди доброжелательны к тебе. Я с тех пор ничего не боюсь. Я узнала, каково это, когда люди бывают наглыми и провоцируют конфликты. То есть я получила в поле большой жизненный опыт. Это сделало меня сильной, так ведь? (ПМА 2013: E.T.)
Примечательно, что в этом рассказе о первом полевом опыте в африканской стране (Кения) внимание акцентируется на эмоциональном напряжении, но не на физических испытаниях, как ожидалось бы в случае такой существенной разницы между домашним европейским контекстом исследователя и непривычным для новичка полем.
Это было великое событие! Одна только подготовка поездки чего стоила! <…> Это такие впечатления, которые никогда не забыть! <…> Или люди, у которых мы жили, всегда говорили: “Конрад, ешь, только ешь, пожалуйста, Конрад”. И что они мне дали? Густой жирный куриный бульон из восхитительных домашних кур, огромную тарелку. Я раньше не переносил такого, потому что не было привычки. Но мы все заметно поздоровели, и это было фантастически. <…> Речь шла все время о еде. <…> Я видел, как варят мыло, какая была вонь! Да, это было так, никуда не денешься. Этим мылом мы стирали свою одежду и мыли руки, и мылись сами. И конечно, все мы заболели. Смертельно! Потому что мы не переносили, не переваривали еду. И, конечно, первый глоток воды из крана привел к знаменитому поносу! <…> После моей первой болезни я еле держал в руках диктофон. Такой я был слабый! И к этому нужно было быть готовым, нужно было принимать определенные таблетки. Потом у меня никогда ничего подобного не было. Я мог есть все. Все! И никогда больше не болел! (ПМА 2013: K.V.)
В этом фрагменте много внимания уделяется телесной стороне впечатлений и переживаний, вызванных встречей с неприятными незнакомыми запахами и практиками, физическим страданиям, эксплицитно выражен мотив болезни. На лексическом уровне буквально воспроизводится сценарий смены состояний, которые переживает в традиционных обществах проходящий инициацию человек: болезнь или болевые ощущения как символическая смерть (“заболели”, “смертельно”, “прямо умирали”) с последующим возрождением в новом статусе и приобретением новых качеств (“потом… я мог есть все” и “никогда больше не болел”).
Немецкий социолог и этнограф Рольф Линднер, который тоже пользуется терминологией классической этнографии и прямо называет полевое исследование одним из “академических ритуалов инициации”, пишет о “страхе исследователя перед полем” (Lindner 1981: 61). Первое поле играет особенно важную роль в формировании этого ощущения и поисках способов его преодоления. Социологи указывают на страх исследователя перед установлением контакта с информантами, вызванный возможной потерей контроля над ситуацией (Gans 1968; Kloos 1969: 510–511). Исследователь понимает, что, пытаясь завоевать доверие информанта, он создает неестественную ситуацию, “притворяется” и боится, что это притворство будет раскрыто:
Попытки произвести впечатление естественности воспринимаются именно как попытки хотеть произвести впечатление естественности и напоминают поведение в темном подвале пугливого ребенка, который своим громким свистом или пением хочет доказать себе самому и другим, что совсем не боится темного подвала. Эти явные потуги вызывают в тех, для кого ситуативный контекст действительно нормален и естественен, неудобство или даже недоверие по отношению к (еще не идентифицированной как исследователь) личности. В зависимости от ситуативного контекста можно предположить и другие реакции информантов, например, что они подшутят над этим странным типом, который хочет казаться своим (курсив мой. – Ю.Б.) (Lindner 1981: 55).
Рефлексии моих собеседников из ИЕЭ перекликались с наблюдениями Р. Линднера, который, к слову, долгое время был их коллегой по институту:
Это было волнительно и смешно. Мне казалось это довольно веселым, само ощущение преодоления начала, чтобы заговорить с кем-то (ПМА 2013: B.B.).
Это было для меня довольно ужасно, надо сказать. Потому что я тогда действительно оказалась будто бы в воде без спасательного круга. Оказаться в поле и в поле действовать. <…> Я тогда довольно робко вошла во двор, постучалась в какую-то дверь и так неуверенно начала по-русски, – я тогда не так уж хорошо говорила по-русски – и вот как-то спросила что-то, кажется, и мне ответили по-немецки, потом я вошла, и вот в доме я уже впервые испытала шок. <…> Сегодня я бы уже достаточно профессионально спросила, не помешает ли людям, если я положу на стол диктофон, потому что уже с самого начала были довольно интересные ситуации. Но в то время я была как ребенок: “О господи, о господи, что же делать? Что я здесь делаю?” (ПМА 2013: S.S.).
В воспоминаниях и текстах европейских этнографов первое полевое исследование остается без вдумчивой теоретической рефлексии по причине некоторой несерьезности его характера: первое поле воспринималось как обязательная учебная практика и, как правило, рациональные размышления заглушались сильным эмоциональным фоном. В первых двух приведенных выше примерах пережитое испытание состояло в физическом преодолении трудностей (путь, языковой барьер, болезнь). Эмоциональность последних двух отрывков относится к переживанию субъектом психологического вызова и стресса (“преодоление начала”, “ужасно”). Смысл первого исследования как инициации состоит в преодолении страха конфронтации с “этнографическим визави” и маркируется в интервью специфической лексикой: от “робко”, “не так уж хорошо”, “неуверенно”, “испытала шок”, “как ребенок”, “в воде без спасательного круга” до “достаточно профессионально”, “иметь мужество” (ПМА 2013: B.B.; S.S.).
При этом в беседах проговаривается происходящая трансформация и – особо – телесность этнографа. Последняя выражается в представлении о профессии как стигме/болезни, как будто у тех, кто занимается этнографией, имеются коммуникативные или поведенческие особенности/отклонения, которые отличают их от других (“нормальных”) людей:
Я поняла, что этнологи, которые изучают чужие культуры, не в ладах со своей собственной. Что многие из них эскаписты, что они просто хотят убежать от своей культуры. То есть у нас в институте это было довольно экстремально, все этнологи были одиночками. Ну, если ты занимаешься только другими обществами, тогда ты и правда далек от мира (ПМА 2013: E.T.).
Мотив профессии как стигмы дополняют представления о неких инкорпорированных, буквально “встроенных в тело” свойствах, которыми будто бы отмечен этнолог и не отмечены иные специалисты. «Еще в студенчестве ходила такая присказка: “Этнографы не брезгливы, этнографы едят все”» (ПМА 2013: D.N.). Метафоры “глаза”, “особого взгляда” указывают на способность этнографа получать скрытые знания об изучаемом объекте непонятными и необъяснимыми для стороннего наблюдателя способами:
Я достаточно давно помню разговоры, в которых, в частности, речь шла о том, что этнографы немного больше одарены, в общем, обладают способностью заговаривать с людьми, вести беседу и хорошо оценивать ситуацию, и что это такая компетенция, которая очень хороша везде, все равно, в какую профессию ты потом пойдешь, потому что для очень многих профессий требуется умение найти подход к различным людям и умение наблюдать, да, короче – иметь острый взгляд наблюдателя. Что все это этнографы получают как особенную квалификацию, что ли (ПМА 2013: S.S.).
Представления об особых коммуникативных талантах этнологов не только становятся предметом неформальных разговоров и шуток, но и инструментализируются в прямом смысле этого слова. Во время моего стационарного полевого исследования, в связи с нехваткой рабочих мест в университетских центрах, директор ИЕЭ инициировал профориентационную кампанию для магистров и защитившихся докторов “Новый маршрут” (“Quer einsteigen”), которая фактически означала смену сферы деятельности. Основным доводом в пользу “профессионального поворота” служила убежденность в продвинутых коммуникативных навыках этнологов, развитых и усовершенствованных среди прочего в полевых выездах, которые обогащают жизненный опыт и упрощают старт в других профессиях, связанных с людьми и социальной сферой.
Немецкие нарративы о поле определяют его как испытание и подтверждение автономного профессионального статуса, как место приобщения к профессиональной культуре, как чувственный, эмоциональный и телесный опыт приобретения новых профессиональных качеств. Такое “немецкое” восприятие поля обнаруживает много сходств с “российским” по причине коммуникативного характера работы этнологов и универсальных особенностей психологии людей, производящих этнологическое знание.
Этнографы – общая профессиональная культура?
При всех указанных сходствах в способах рассказывания о главном методе и маркере идентичности этнографии у меня сохранялось субъективное ощущение, что существуют непроницаемые границы между мной и немецкими коллегами, исключающими меня из сложившейся у них профессиональной культуры, что общей профессиональной культуры этнографов, с которой изначально был связан мой исследовательский вопрос, вообще нет. Поэтому неудивительно, что за анализом собранного полевого материала следовали новые вопросы: почему при сходстве практик полевого исследования и нарративов о них сложно говорить об общей профессиональной культуре этнографов? о какой или каких культурах тогда может идти речь? какое место в этих культурах занимает поле?
Известно, что в советской и постсоветской российской этнографии отсутствовала практика самоанализа во время полевого исследования (Щепанская 2008а: 104), принятая с конца 1980-х годов в европейской и мировой антропологии после общественной и научной дискуссии, вызванной книгой Джеймса Клиффорда и Джорджа Маркуса (Сlifford, Marcus 1986), и рефлексивного поворота. В большинстве отечественных исследований первичной ценностью до сих пор обладает сам материал. Интересно, что одну из причин этого видят в опасности деконструкции неформальных профессиональных традиций саморефлексией, поскольку она может породить сомнения в “само собой разумеющихся стандартах” и поставить под угрозу их консолидирующую роль (Щепанская 2008а: 105). “Само собой разумеющиеся стандарты” указывают на наличие имплицитных хитростей, вроде ремесленных умений, неотрефлектированных на рациональном уровне, а также каналов трансляции методического знания внутри профессии через регулярное применение навыков в коллективной экспедиционной деятельности. Щепанская говорит в этом случае о регулярной полевой практике как “подкреплении статуса профессионала” и “критерии принадлежности к профессии”. В этом состоит наиболее заметная разница между российским и немецким способами организации этнографической науки. В Германии стабильные сети профессиональных коллективов образуются и консолидируются на иных основаниях, нежели общая дисциплинарная идентичность, а потому к их (коллективов) описанию с трудом можно применить концепцию воображаемых сообществ. Здесь можно говорить об ограниченных коллективах людей, объединенных актуальной совместной деятельностью, но не полем как специфической профессиональной практикой. Материал выстроился таким образом, что получился анализ практик и коммуникации внутри отдельных коллективов берлинских этнологов (см.: Бучатская 2017).
Так, оказалось, что в МЕК полевые исследования представляют собой совершенно отличную от описанной выше практику: они фокусируются на бытовании и истории вещей, предназначенных к экспонированию в конкретном проекте, и не являются обязательными. Коллектив музея (сами его члены обозначили его как “команду”, team), обладающий общими культурой и нормами, сформирован на основе “производственной” музейной повседневности. Принадлежность к команде манифестируется в обсуждениях на еженедельных “конференциях” за чайным столом у директора.
В ИЕЭ полевое исследование, несмотря на признание его маркером профессии, не играет роли неоспоримого символа институтской культуры, а активность этнографа в поле не служит критерием ни принадлежности к коллективу, ни профессионализма, и в этом, как кажется, заключается самое значительное противоречие между декларируемым значением поля и реальной практикой. Весь полевой опыт моих информантов относился к обязательным студенческим проектам или фазам написания квалификационных работ:
В общем, я проводила два полевых исследования, как это обычно делают студенты во время учебы, для моей курсовой работы (ПМА 2013: S.S.).
Делала два маленьких исследования в рамках работы по семинарам “Теории культуры” и “Методы”, потом этот студенческий проект, это было уже исследование побольше, потом курсовая работа была тоже своего рода исследованием, магистерская работа – т.е. пять собственных полевых исследований, различных по величине (ПМА 2013: C.K.).
Собственно говоря, до окончания моей диссертации я ведь работала только в области истории. То есть, конечно, помимо маленьких упражнений в полевой работе, которые у меня были во время учебы в университете (ПМА 2013: B.B.).
Все процитированные собеседники при этом представляли “ядро” института, поскольку имели долгосрочный трудовой договор, получали университетское финансирование и занимали ведущие позиции, включая профессорскую.
Это оказалось для меня самой большей неожиданностью: в университетской этнографической среде Германии полевое исследование – лишь один из этапов карьеры, после защиты зачастую не повторяющийся. Подчиненная роль полевого исследования иначе конституирует пути освоения профессиональных навыков: их получают в виде методических установок на семинарах в аудитории или в самом поле на лекции руководителя проекта. Такое “введение в полевую работу” ограничивается 1,5–2 часами (длительность обычного семинарского занятия), после чего начинаются индивидуальные выходы в поле, во время которых предполагается апробация полученных на занятиях знаний. При этом объяснение студентам методик этнографического интервью вызывает у преподавателей затруднения, как показали мои наблюдения за совещаниями профессорско-преподавательского состава.
Если рассматривать коллектив как группу людей, объединенных совместной деятельностью, отождествляющих себя с нею и обладающих общими культурой, ценностями, нормами и критериями принадлежности (Hillmann 1994: 421), то нельзя говорить, например, об ИЕЭ как о едином коллективе, сложившемся “на основе” полевой этнографии. Как показывают мои наблюдения, институт состоит из групп, а в самую многочисленную группу, которая ведет основную исследовательскую деятельность и регулярно совершает сезонные полевые выезды в далекое, “классическое” поле, входят внештатные сотрудники, финансируемые не из университетского бюджета, а за счет грантов, выделяемых на реализуемые ими проекты (нем. Drittmittelleute, Projekte). Внештатники не вовлечены в управленческие и методические процессы, а потому в неформальной иерархии института состоящая из них группа находится ниже всех остальных – администрации, профессоров и преподавателей: “О, это сложно. Это все такие незначительные мелочи, но я думаю, в коммуникации, в общении это всегда подчеркивается, – университетское финансирование или другое, дополнительное” (ПМА 2013: E.G.).
На уровне невербального поведения это приводит к исключению регулярно работающих в поле сотрудников из круга “своих”, что ощущается как некая “непроницаемость” его границ и бесплодность попыток ориентироваться в коллективе института:
Здесь регулярно проводятся обсуждения преподавательского коллектива, и у меня такое чувство, что существуют какие-то правила. Но они не обсуждаются, и представление, что придет кто-то новый и будет их не знать, как-то отсутствует вообще. В конце концов, все это выглядит немного похожим на партсобрание: всем понятно, кто может говорить, а кто, собственно, говорить и не может (ПМА 2013: M.K.).
Основными практиками берлинских коллег, определяющих политику коллектива института и критерии принадлежности к нему, являются учебный процесс, консультирование студентов и управление институтом, но никак не поле:
Принадлежность определяется не дисциплинарными основаниями или чем-то подобным, она в том, за что ты отвечаешь, какую сферу ответственности ты берешь на себя, насколько хорошо ты справляешься с рабочими задачами, оцениваешь контексты, понимаешь, что значит тот или иной жест и действие, насколько ты вовлечен в жизнь института. Я думаю, это те критерии, по которым люди могут набрать баллы в свою пользу (ПМА 2013: J.N.).
Оценивая ситуацию, сложившуюся в ИЕЭ, из своей российской перспективы, в которой утверждение автономии этнографов напрямую связано с полевыми исследованиями как основной профессиональной практикой, я столкнулась с еще одним кажущимся противоречием: чем выше позиция в институте, тем ниже вероятность того, что сотрудник занимается полевой работой. Очевидно, что гипотеза о возможности переноса концепции воображаемых сообществ на профессиональное сообщество не подтвердилась не только в отношении этнографов вообще, но даже применительно к этнографам одной национальной исследовательской традиции.
Возможности и границы исследования
Вернусь к теме саморефлексии в этом проекте и в тексте. Если “делание этнографии” рассматривается как ремесло, связанное не только с поездкой к иным культурам, но и с рутинным написанием текстов (Clifford, Marcus 1986), то и в полевом дневнике, и в научной статье каждый автор вынужден решать вопросы: как репрезентировать себя и показать реальный опыт бытия в культуре, но не утратить свой авторитет ученого? как достигнуть баланса субъективной позиции и критериев научности? Мари Луиза Пратт пишет о том, что профессиональный текст, полученный в результате личного чувственного опыта в поле, создается по нормам научного дискурса, а авторитет этого дискурса вынужденно выдавливает из текста “получающего опыт и говорящего субъекта” (Pratt 1986: 32). Вольфганг Кашуба спустя 20 лет после дискуссии, вызванной книгой Клиффорда и Маркуса, уже говорит о культуре создания текстов и отмечает, что этнограф, побывавший в поле, обладает экспертным знанием, которое придает его личности и работе харизматические черты, и что именно через описание субъективного опыта фигура этнографа в тексте делается “правдоподобной и авторитетной” (Kaschuba 2006: 201).
Действительно, все мои тексты, рожденные из этого проекта, формируют довольно героический образ исследовательницы, однако не содержат полноценного анализа меня как субъекта создания источника и как автора производимого на его основе знания. Отсылая к выражению Шейпина о “нечистоте антрополога” (Shapin 2010), соглашусь с его наблюдением о том, что для придания авторитетности себе как исследователю авторы обычно стремятся устранить из текста свои несовершенства, а текст подогнать под принятые в академическом дискурсе нормы. С одной стороны, я работала над проектом в немецком институте, с другой – по-прежнему оставалась в рамках российской этнологической традиции, которой присущи приведенные выше критерии значимости источника и способы придания авторитетности себе и своей работе. Иначе говоря, я оказалась перед вызовом – перед необходимостью понравиться и тем, и другим: и изучаемому мной немецкому сообществу, и моему российскому академическому окружению, которому, как предполагалось, будут представлены умозаключения и материалы проекта. Таким образом, на мое видение и репрезентацию себя в тексте повлияли эти негласные, неформальные установки. Поэтому я вижу своей задачей показать “изнанку” произведенного мной знания, а также описать свое понимание границ, ошибок, пробелов и субъективного контекста, которые обусловили неполноту и несовершенство этого знания.
Для меня берлинское поле, как и другие мои поля, означало перемещение в физическом и культурном пространстве и выход за рамки повседневности. В то же время, находясь более года в стационарном поле, я так или иначе выстраивала свою рутинную жизнь и потому вынуждена была искать баланс и совмещать приватное и профессиональное. Я была официально зачислена в Берлинский университет Гумбольдта и получила рабочее место гостевого ученого в ИЕЭ, посещала ряд семинаров и лекций, готовилась к ним, как и местные студенты. Эта особенность поля вполне встраивается в одобренный моим домашним академическим контекстом формат экспедиции как выезда и погружения в изучаемую – “другую” – культуру.
Моя ситуация полевой работы отличается тем, что в силу личных обстоятельств это всегда исследование в сопровождении семьи (детей) (accompanied fieldwork). Неизбежное присутствие детей обычно положительно влияло на выстраивание отношений и репрезентацию меня в изучаемых сообществах, о чем неоднократно размышляли коллеги-антропологи и на страницах публикаций (Давыдов, Давыдова 2020; Korpela et al. 2016; Braukmann et al. 2020; и др.), и в кулуарных беседах. Позволяя людям наблюдать за моими взаимоотношениями с детьми, я переставала восприниматься как соглядатай, который ищет повод заглянуть в личную жизнь информантов. Я становилась понятной моим собеседникам, обычной матерью с обычными проблемами. Это отлично работало во время полевых выездов в немецкие деревни или небольшие города, где, фокусируясь на биографических интервью в приватных покоях дома, я была невольно вовлечена в жизнь интервьюируемых.
Ситуация с исследованием берлинских коллег-этнографов была совершенно другой. Она была противоположна той, о которой писали финский антрополог Лаура Хирви и ее соавторы (Korpela et al. 2016): не изолированный от своего социального контекста исследователь наблюдает вплетенных в свои социальные сети информантов. Напротив, меня в моих приватных отношениях во время исследования наблюдали временно изолированные от подобных отношений информанты. Моя полевая работа проходила по большей части в стенах ИЕЭ на Моренштрассе и в дирекции МЕК в Далеме. Все сотрудники в своем рабочем пространстве представали в роли профессионалов, а иные идентичности и социальные роли (матери/отца, жены/мужа) лишь подразумевались. Для моей позиции исследователя продуктивнее был бы сходный образ ученого, но я вынужденно брала с собой на рабочее место своих детей. Дети в поле не только обозначали границы моего присутствия в наблюдаемом пространстве, заставляя порой отказываться от критически важных событий, потому что им пора было спать или их нахождение где-либо было неуместно; иногда дети создавали и иные помехи. Я оставляла сыновей в своем кабинете, но они не тихо рисовали или играли за закрытой дверью, а шумели и постоянно были на виду у сотрудников института. Видимое присутствие детей в профессиональном пространстве явно снижало мой статус и, как мне было очевидно, сводило мою роль равнозначной коллеги либо к нуждающейся женщине, которая не может позволить себе няню или иные формы делегированной заботы о детях, либо к дилетантке, пытающейся совместить трудно совместимые роли.
Такая реальность, во-первых, противоречила идеалу и романтике полевого исследования с полным и интенсивным погружением в изучаемую культуру, включением в нее как на языковом, так и на более широком уровне, – настройке на время, практики, коммуникацию и следование за повседневностью изучаемого коллектива. Получается, что я придерживалась представления об имидже “идеального этнографа-полевика”, очень сходного с описанным Хирви, которая исключает из него детей и прочие проявления всего того, что не относится к профессиональной сфере (Korpela et al. 2016: 8). Осознавая этот факт и представляя себя в несколько героическом свете (осложненные интенсивным материнством, но успешные полевые исследования), я в своих текстах проявляла “осознанное лицемерие”, как охарактеризовал Сангрен (Sangren 2007: 16) практику воспроизводства в публикациях и риторике выступлений идеала чистой науки – вопреки пониманию его утопичности и недостижимости – из-за боязни подвергнуть риску удачную коллегиальную коммуникацию, если практики производства знания не будут соответствовать принятому академическому дискурсу; иначе говоря – из-за боязни “не понравиться” или не достигнуть той авторитетности, о которой писал Кашуба (Kaschuba 2006: 201).
Во-вторых, эта реальность создавала неблагоприятную асимметрию социальных позиций. Французские социологи Мишель Пэнсон и Моник Пэнсон-Шарло, анализируя социальные исследования высокостатусных групп, пишут о неизбежности столкновения в поле с агентами, наделенными в гораздо большей степени различными формами капитала, включая культурный, и способными продемонстрировать неоспоримость занимаемой ими позиции (Пэнсон, Пэнсон-Шарло 1996). Несмотря на формальное сходство профессиональных позиций, я нахожу, что мои берлинские информанты относились именно к высокостатусной группе, поскольку, если оперировать концепцией “туземной” и “провинциальной” науки (Соколов, Титаев 2013: 239–275), их организации располагались на европейской шкале дисциплинарной авторитетности выше других этнологических институтов Германии. Кроме того, из многолетнего опыта научной коммуникации я усвоила, что немецкие коллеги по большей части не интересуются российскими академическими институтами и скептически относятся к методологии их исследований и используемым концепциям. Эту высокостатусную группу академических ученых я делала объектом, примеряла на них роль условных “индейцев”, что создавало потенциально конфликтную ситуацию.
Любые изучаемые группы стремятся сохранить контроль над информацией о себе и ее интерпретацией, но у высокостатусных групп есть достаточное влияние, чтобы дезавуировать неподходящую интерпретацию, как пишут Пэнсон и Пэнсон-Шарло (Пэнсон, Пэнсон-Шарло 1996). Социальный статус интерпретирующего имеет решающее значение, а легитимность интерпретации зависит от социальной позиции, с которой она производится. Возможное решение такого конфликта интерпретаций я видела в попытке дать слово самим информантам с их легитимным статусом экспертов собственной повседневности, усиленным властной позицией монополии в академическом ландшафте, и попросить их отреагировать на промежуточные результаты исследования; иначе говоря – в практике сопроизводства знания исследователем и информантами. Для этого после окончания проекта я разместила во внутренней институтской сети, доступной не только сотрудникам, но и студентам-тьюторам, свой текст, который на тот момент намеренно не был доработан, представлял собой выдержки из интервью, мои интерпретации и предварительные выводы; многое в тексте было снабжено цветовой маркировкой и вопросами, побуждающими читателя дать свой комментарий, опровергнуть или интерпретировать иначе. Для меня включение информантов в сопроизводство знания не было проблемой – не только из-за принятой этической нормы прозрачности исследования, но и из вполне корыстных целей. Мои информанты-эксперты могли бы помочь заполнить некоторые ощущаемые мной пробелы в собственной методологии. Но этого не случилось, и на публикацию в сети письменного обращения к институтскому сообществу и предварительных результатов исследования не последовало никакой реакции в течение полугода. В частных разговорах с теми же собеседниками спустя некоторое время я выяснила, что текст не остался незамеченным. Его бурно обсуждали между собой, но главный вопрос, который занимал моих берлинских коллег, относился к анонимизированным выдержкам из интервью, касавшимся их субъективных мнений относительно иерархической структуры института: “Да, после твоего текста в сети, помню, шептались все в институте: кто это был? а это кто мог сказать?” (W.K., устное сообщение, декабрь 2018 г.). Этот постпроектный эпизод показал мне, что и высокостатусные группы в исследовании могут чувствовать себя уязвимыми несмотря на преимущества их положения и обладание значимым культурным капиталом. Пэнсон и Пэнсон-Шарло отмечают, что исследования высокостатусных групп не приветствуются ими самими, так как показывают механизмы власти и ее воспроизводства, а также раскрывают тайну, которой окружают себя привилегированные классы, нарушают правила социальной коммуникации, обеспечивающие сохранение иерархического порядка (Пэнсон, Пэнсон-Шарло 1996). Получается, что моя позиция в этом исследовании выглядела как “шпионская”, поскольку институт принял меня в свою среду, позволил “подглядывать” за процессами внутри него, его сотрудники открыто делились своими соображениями, а в результате опубликованный текст “выдавал” и обнародовал скрытые механизмы коммуникации и воспроизводства иерархической структуры института. Сопроизводство знания оказалось, таким образом, проблематичным.
* * *
Исходно ошибочная гипотеза позволила выявить невозможность применения одинаковой исследовательской оптики для сравнительного изучения профессиональных культур российских и немецких этнографов. И тем не менее, несмотря на множество институциональных и дисциплинарных различий, удалось выявить ряд сходных нарративов, определяющих этнографическое поле как испытание и подтверждение автономного профессионального статуса, как место приобщения к профессиональной культуре, как чувственный, эмоциональный и телесный опыт приобретения новых профессиональных качеств. Сделанные мной выводы, с одной стороны, не могут претендовать на обобщения и распространяться на всю этнографическую профессиональную культуру, поскольку я анализирую три конкретные ситуации и три институциональных контекста, с другой – те аспекты, которые я рассматриваю, обнаруживают много сходств по причине коммуникативного и интерактивного характера работы этнологов и объясняются универсальными особенностями психологии людей, производящих этнологическое знание.
Исходная гипотеза о существовании единой профессиональной культуры, разделяемой немецкими и российскими этнографами, не подтвердилась. Сходный опыт полевой работы оказался недостаточным условием для того, чтобы признать российских этнографов равными по статусу коллегам-профессионалам из Германии. Сказывалась и моя явная институциональная чужеродность: я не принадлежала ни к одному из “научных лагерей” или школ, чтобы хоть как-то соотноситься с немецким научным ландшафтом и быть локализованной на понятной шкале. Определяющим фактором единства и взаимного узнавания оказались не профессиональные, а институциональные культуры, завязанные на традиции, и практики той или иной организации. В то же время приходится признать, что неписаные правила и скрытые иерархические порядки существуют в любом академическом учреждении, и такое же исследование российских научных институтов, скорее всего, показало бы похожую непроницаемость внутренних границ для иностранного исследователя. Пожалуй, рассуждая о самом факте наличия неформальной коммуникации и специфических иерархических структур в научных институтах разных национальных традиций, можно говорить об их сходстве на этом основании и предполагать взаимное узнавание: “Да, и у нас точно так”.
Рефлексия над опытом полевого исследования нарративов о полевом исследовании показывает, что личная ситуация ученого, границы его возможностей и несовершенства методологии влияют на то, как проходит работа и какие интерпретации получает материал. Асимметрия ролей исследуемых и исследователя, неблагоприятная для последнего, заметно проблематизирует возможность сопроизводства знания и легитимность интерпретаций, поскольку изучение делает публичными скрытые процессы воспроизводства иерархии и власти внутри высокостатусных групп, к которым я отнесла коллективы этнологов Берлина. Сопроизводство знания и легитимность интерпретаций могут быть проблематичными и в других контекстах этнографического поля по сходным причинам, однако в заключительной части этой статьи я ставила перед собой цель поразмышлять над вопросом, почему лично мне так тяжело далось само это исследование, каждое интервью, и особенно тяжело – публикация его результатов.
Источники и материалы
ПМА 2013 – Полевые материалы автора. Антропология академической жизни Берлина. Записи интервью 2013 г. (информанты S.S., M.P., M.K., W.K., C.K., J.N., E.G., B.B. – ИЕЭ; K.V., D.N., E.T. – MEK).
Hölzl 2014 – Hölzl V. Aufnahmerituale an französischen Unis. “Sie wollen dich brechen und neu formen” // Spiegel Panorama. 23.12.2014. https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/aufnahmeritual-bizutage-franzoesische-studenten-quaelen-erstsemester-a-1008077.html
Примечания
1 Индивидуальный исследовательский грант фонда Stiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin 2012–2013. https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/ehemalige-mitarbeiter-innen/butschatskaja
2 Институт европейской этнологии является крупнейшим научным учреждением, занимающимся исследованиями по этнологии и смежным дисциплинам в немецкоязычном пространстве. На сегодняшний день в нем насчитывается 11 профессур, большая часть сотрудников которых являются совместителями. Основные направления исследований – миграции и глобализация, исследования сексуальности и гендера, медицинская антропология, пространство и инфраструктура, STS, городская антропология, Европа и постколониальные исследования и т.д. https://www.euroethno.hu-berlin.de/de
3 Музей (МЕК) расположен на окраине Берлина в районе Далем, удаленном от туристических мест (в отличие от других музеев Фонда прусского культурного наследия, размещенных в павильоне “Гумбольдт-Форум” в реконструированном Королевском замке). На сегодняшний день в штате МЕК 15 человек, пятеро из которых – научные сотрудники. Темы выставочных проектов касаются Европы и европейских культурных пересечений, а также новых взглядов на традиционный этнографический материал. https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-europaeischer-kulturen/ueber-uns/profil
Об авторах
Юлия Валерьевна Бучатская
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: julia.butschatskaja@yahoo.de
к. и. н., старший научный сотрудник
Россия, Университетская наб. 3, Санкт-Петербург, 199034Список литературы
- Бучатская Ю.В. Этнографические коллективы Берлина: взгляд из Кунсткамеры // Experto crede Alberto. Cборник статей к 70-летию Альберта Кашфулловича Байбурина / Под ред. А. Пиир, М. Пироговской. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2017. С. 85–123.
- Давыдов В.Н., Давыдова Е.А. Профессиональное и личное: опыт полевой работы на Чукотке всей семьей // Этнографическое обозрение. 2020. № 3. С. 121–140.
- Гадеа Ш. Социология профессий и социология профессиональных групп. В защиту изменения подхода // Антропология профессий, или Посторонним вход разрешен / Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, 2011. С. 15–35.
- Комарова Г.А. Академическая жизнь: поле междисциплинарных научных исследований. М.: ИЭА РАН, 2012.
- Леви-Строс К. Печальные тропики. М.: АСК, 2010.
- Пэнсон М., Пэнсон-Шарло М. Отношение к объекту исследования и условия его принятия научным сообществом // Socio-Logos’96. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии РАН. М.: Socio-Logos, 1996. С. 39–48.
- Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Я. Мир профессий как поле антропологических исследований // Этнографическое обозрение. 2008. № 5. С. 3–17.
- Смирнова Т.Б. Записки этнографички // Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования / Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. Т. 2. С. 296–314.
- Соколов М., Титаев К. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 239–275.
- Щепанская Т.Б. Проекции социального контроля в пространстве профессии // Этнографическое обозрение. 2008а. № 5. С. 23–25.
- Щепанская Т.Б. Символические репрезентации знания в неформальном дискурсе “поля” // Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008б. С. 100–141.
- Щепанская Т.Б. Сравнительная этнография профессий: повседневные практики и культурные коды. Россия, конец XX – начало XXI в. СПб.: Наука, 2010.
- Beer B. Einleitung: Feldforschungsmethoden // Methoden ethnologischer Feldforschung / Hg. B. Beer. Berlin: Reimer, 2008. S. 9–37.
- von Bose A. Feldforscher über Feldforschung: Probleme und Methoden der ethnologischen Feldforschung. Norderstedt: Grin, 1990.
- Braukmann F., Haug M., Metzmacher K., Stolz R. (ed.) Being a Parent in the Field: Implications and Challenges of Accompanied Fieldwork. Bielefeld: Transcript, 2020.
- Clifford J., Marcus G.E. (eds.) Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkley: University of California Press, 1986.
- Färber A. Das unternehmerische ethnographische Selbst. Aspekte der Intensivierung von Arbeit im ethnologisch-ethnographischen Feldforschungsparadigma // Horizonte ethnographischen Wissens. Eine Bestandsaufnahme / Hg. I. Dietzsch, W. Kaschuba, L. Scholze-Irrlitz. Köln: Böhlau, 2009. S. 178–203.
- Freidson E. Professionalism, The Third Logic. On the Practice of Knowledge. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.
- Gans H. The Participant Observer as a Human Being: Observations on the Personal Aspects of Field Work // Institutions and the Person. Papers presented to Everett C. Hughes / Eds. H.S. Becker et al. Chicago: Aldine Publishing Company, 1968. P. 300–317.
- Hillmann K.H. Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart: Kröner-Verlag, 1994.
- Kaschuba W. Einführung in die Europäische Ethnologie. München: C.H. Beck, 2006.
- Kloos P. Role Conflicts in Social Fieldwork // Current Anthropology. 1969. Vol. 10 (5). P. 509–512.
- Korpela M., Hirvi L., Tawah S. Not Alone: Doing Fieldwork in the Company of Family Members // Suomen antropologi. 2016. Vol. 41 (3). P. 3–20.
- Lange C. “Zurückholen, was uns gehört”. Indigenisierungstendenzen in der arabischen Ethnologie. Bielefeld: Transcript, 2005.
- Lindner R. Die Angst des Forschers vor dem Feld. Überlegungen zur teilnehmenden Beobachtung als Interaktionsprozeß // Zeintschrift für Volkskunde. 1981. Vol. 77. S. 51–63.
- Phillips T. Imagined Communities and Self-Identity: An Exploratory Quantitative Analysis // Sociology. 2002. Vol. 36 (3). P. 597–617.
- Pratt M.L. Fieldwork in Common Places // Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography / Eds. J. Clifford, G.E. Marcus. Berkley: University of California Press, 1986. P. 28–50.
- Sangren P.S. Comment on “Ethnography: Storytelling or Science?” by Robert Aunger // Current Anthropology. 1995. Vol. 36 (1). P. 121–122.
- Sangren P.S. Anthropology of Anthropology? Further Reflections on Reflexivity // Anthropology Today. 2007. Vol. 23 (4). P. 13–16.
- Shapin S. Historical Studies of Science as if It Was Produced by People with Bodies, Situated in Time, Space, Culture, and Society, and Struggling for Credibility and Authority. Baltimore, Md.: The Johns Hopkins University Press, 2010.
Дополнительные файлы