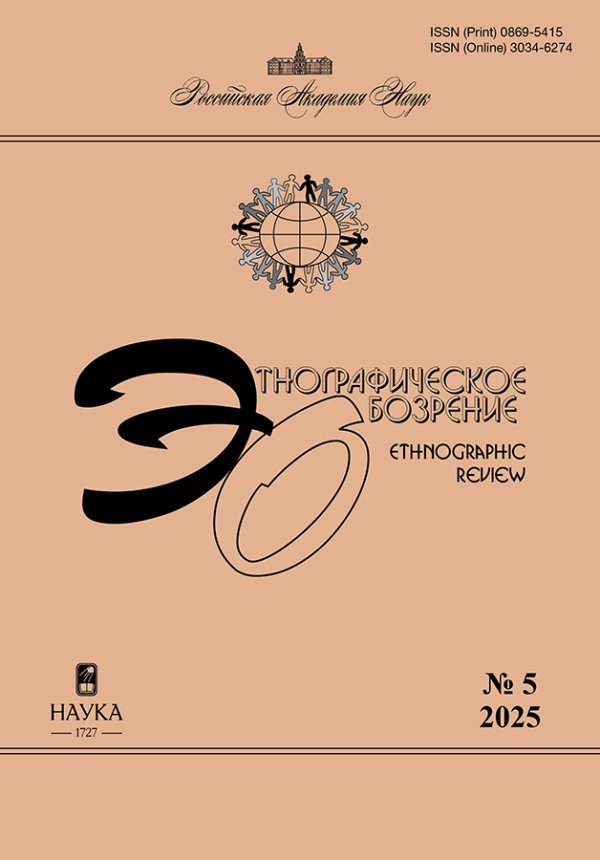Происхождение и родственные связи тагарцев: взгляд полвека спустя
- Авторы: Козинцев А.Г.1
-
Учреждения:
- Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 70-93
- Раздел: Физическая антропология
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-5415/article/view/271241
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524040056
- EDN: https://elibrary.ru/AYYXWJ
- ID: 271241
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Для выяснения генезиса и родственных связей тагарского населения (VIII–III вв. до н. э.) 36 мужских краниологических тагарских серий сопоставлены со 117 сериями других эпох и территорий с помощью многомерных статистических методов спустя почти полвека после моей книги 1977 г. Главными претендентами на роль предков тагарцев сегодня выглядят андроновцы, ключевую роль которых подтверждают и генетические факты. Роль доадроновского субстрата могли сыграть чаахольцы, возможно и елунинцы. Участие карасукцев в формировании тагарской популяции по-прежнему ничем не засвидетельствовано. Из соседей тагарцев к ним особенно близки пазырыкцы Урсула (Алтай) и некоторые саглынцы Аймырлыга (Тува). Судя по датам, эти группы возникли в результате миграции части тагарского (в частности сарагашенского) населения на юг. Поскольку чаахольцы, как было показано раньше, чрезвычайно близки к степным скифам, а среди тагарцев – к людям сарагашенского этапа, можно предположить, что сарагашенцы или их потомки мигрировали не только на юг, но и далеко на запад – в восточноевропейские степи. Предшествующая данной миграции архаическая скифская культура могла распространяться по тому же маршруту, но диффузионным путем.
Полный текст
Происхождение тагарской общности раннего железного века (VIII–III вв. до н. э.) остается загадочным, и это тем более удивительно, что она чрезвычайно детально исследована как в археологическом отношении (обзор см.: Савинов 2011), так и в антропологическом (Дебец 1931, 1932, 1948; Алексеев 1961б, 1973, 1975). Радикальных изменений в периодизации тагарской культуры не произошло. Предложенная М.П. Грязновым схема в основном осталась неизменной, за исключением того, что наиболее ранний, баиновский этап было предложено перенести из эпохи раннего железа (тагарской) в эпоху поздней бронзы (карасукскую) (Поляков 2022: 285), а представители одного из этапов – биджинского, считавшегося промежуточным, обнаружили антропологическое своеобразие (Лазаретова 2006).
Итоги краниометрического изучения были подведены в моей книге, написанной до внедрения в антропологическую практику компьютеров и современных статистических методов (Козинцев 1977). Ее выводы, следовательно, требовали проверки на современном уровне методики. Они в основном подтвердились на новом, компьютерном этапе обработки информации в работах А.В. Громова и его учеников (см., напр.: Учанева и др. 2017), которые продолжили исследование тагарцев по предложенной мной краниоскопической программе (Козинцев 1988: 150–151; Громов и др. 2016). Кроме того, они изучили корни позднетагарского (тесинского) населения, оставшегося за рамками моей работы (Громов, Учанева 2013). Краниометрический же материал, важный для понимания происхождения собственно тагарцев, увеличился за последние десятилетия не настолько, чтобы это само по себе могло существенно приблизить решение проблемы (Лазаретова 2006; Громов, Лазаретова 2021).
Зато появились измерительные данные о множестве групп, с которыми тагарцы прежде не сопоставлялись (их список см. ниже), а также гораздо более подробные сведения о культурной, локальной и хронологической изменчивости в пределах тех общностей, с которыми сопоставления уже проводились, прежде всего андроновской и карасукской. На этом фоне сравнивать тагарцев с афанасьевцами, как я делал прежде, по-видимому, уже не имеет смысла, несмотря на их краниологическую близость, вызванную общностью глубоких восточноевропейских корней. В самом деле, даже если углубить нижнюю дату тагарской культуры до X–IX вв. до н. э. (Боковенко и др. 2003), то все равно от финала афанасьевской культуры ее отделяет разрыв в полторы тысячи лет. Кроме того, появившиеся недавно генетические данные свидетельствуют о преемственности тагарцев не с афанасьевцами, характеризующимися Y-хромосомной гаплогруппой R1b, а с андроновцами, которым, как и тагарцам, присущи варианты гаплогруппы R1a1. Андроновцы, судя по всему, и принесли эту гаплогруппу в Южную Сибирь (Черданцев и др. 2021)1.
На повестке дня – обработка всего доступного краниометрического материала, относящегося к антропологическим связям тагарской палеопопуляции. На первом этапе будут определены вероятные предки тагарцев, на втором изучены связи с соседями и прочими ранними кочевниками восточной части скифского мира, на третьем я попытаюсь выяснить, в какой мере тагарцы родственны обитателям западной части этого мира – скифам.
Использованы измерительные данные о 153 мужских краниологических сериях, из которых 36 представляют тагарцев, а 117 относятся к иным эпохам и территориям.
А. ТАГАРЦЫ:
- Тагарская культура, подгорновский этап, суммарная группа (Учанева и др. 2017) (VIII–VI вв. до н. э.)2.
- То же, биджинский этап (Там же).
- То же, сарагашенский этап (Там же).
- То же, Гришкин Лог, баиновский этап, IX–VIII вв. до н. э.
- То же, Черновая I и IV, подгорновский этап.
- То же, Барсучиха I (сарагашенский этап), V (подгорновский этап), VI (подгорновский, биджинский и сарагашенский этапы) и VII (сарагашенский этап).
- То же, Сарагаш (сарагашенский этап).
- То же, Копьево (VII–V вв. до н. э.).
- То же, Кичик-Кюзюр I, подгорновский этап.
- То же, биджинский и сарагашенский этапы.
- То же, Улуг-Кюзюр I (подгорновский и сарагашенский этапы).
- То же, Саргов улус (VII–V вв. до н. э.).
- То же, Малые Копены III (сарагашенский этап).
- То же, Средне-Абаканская группа (VIII–VI вв. до н. э.).
- То же, Кызыл-Куль (в основном сарагашенский этап, VI–V вв. до н. э.).
- То же, Нижне-Абаканская группа (в основном VII–VI вв. до н. э.).
- То же, Откнин улус (в основном VII в. до н. э.).
- То же, Самохвал (подгорновский и сарагашенский этапы, VII–VI вв. до н. э.).
- То же, Федоров улус (II стадия, по С.В. Киселеву – видимо, в основном сарагашенский этап).
- То же, Каменка I (подгорновский этап).
- То же, Сыда (VII – начало V в. до н. э., в основном VI в. до н. э.).
- То же, Усть-Сыда (VII–V вв. до н. э.).
- То же, Бузуново (VII и VII–VI вв. до н. э.).
- То же, Туран I, подгорновский этап, VI в. до н. э.
- То же, Туран I, сарагашенский этап, VI в. до н. э.
- То же, Туран II (сарагашенский этап, VI–V и V в. до н. э.).
- То же, Туран III (сарагашенский этап).
- То же, Тепсей IX (подгорновский этап).
- То же, Тагарский о-в (кроме кург. 42) (баиновский и подгорновский этапы, VIII–VI вв. до н. э.).
- То же, Тагарский о-в, кург. 42 (V в. до н. э.).
- То же, Усть-Тесь (подгорновский этап, VII–VI вв. до н. э.).
- То же, Кочергино (в основном подгорновский этап, VI в. до н. э.).
- То же, Восточно-Минусинская группа, ранняя (VIII–VI вв. до н. э.).
- То же, Восточно-Минусинская группа, поздняя (VI–IV вв. до н. э.).
- То же, Есино I, II, подгорновский этап (Громов, Лазаретова 2021).
- То же, Есино XIII–XVIII (Там же)3.
Б. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ТАГАРЦЕВ:
37. Окуневская культура, Хакасско-Минусинская котловина, Тас-Хазаа (Громов 1997).
38. То же, Уйбат (Там же).
39. То же, Черновая (Там же).
40. То же, Верх-Аскиз (Там же).
41. Чаахольская культура, Аймырлыг, Тува (Алексеев и др. 1987).
42. Елунинская культура, Верхнее Приобье (Солодовников, Тур 2003).
43. Самусьская культура, Томско-Нарымское Приобье (Солодовников 2005)4.
44. Гумугоу, первая половина II тыс. до н. э., Синьцзян (Хань Кансинь 1986).
45. Синташтинская культура, Волго-Уралье (памятники потаповского типа) и Зауралье5.
46. Петровская культура, Южный Урал и Северный Казахстан.
47. Андроновская (федоровская) культура, Центральный, Северный и Восточный Казахстан.
48. То же, Барабинская лесостепь.
49. То же, Рудный Алтай.
50. То же, Барнаульское Приобье, Фирсово XIV.
51. То же, Барнаульско-Новосибирское Приобье.
52. То же, Причумышье.
53. То же, Томское Приобье, Еловка II.
54. То же, Кузнецкая котловина.
55. То же, Минусинская котловина.
56. То же, суммарная федоровская группа (суммированы данные по группам № 47–55).
57. Андроновская (алакульско-кожумбердынская) культура, Южный Урал и Западный Казахстан.
58. Андроновская (алакульская) культура, Центральный, Северный и Восточный Казахстан.
59. То же, Омское Прииртышье, Ермак IV.
60. То же, суммарная алакульская группа (суммированы данные по группам № 57–59).
61. Карасукская культура, “классический” вариант (Рыкушина 2007).
62. То же, каменноложская стадия (Там же).
63. Атипичная карасукская группа, суммарно (Козинцев 1977; суммированы данные по группам № 64–67).
64. То же, северная группа – каменноложские погребения на р. Карасук (Там же).
65. То же, Малые Копены III, по неопубликованным измерениям Г.Ф. Дебеца (Там же).
66. То же, Федоров улус, по измерениям В.П. Алексеева (Алексеев 1961а; Козинцев 1977).
67. То же, Восточно-минусинская группа – лугавские (бейские) погребения на правобережье Енисея к югу от р. Тубы, по измерениям Г.Ф. Дебеца и В.П. Алексеева (Там же).
68. Карасукская культура, северная группа (Рыкушина 2007)6.
69. То же, южная группа (суммированы данные Г.В. Рыкушиной (Там же) и А.В. Громова (Громов 1991, 1995) по группам № 80–84.
70. То же, ербинская группа (Рыкушина 2007).
71. То же, левобережная группа (Там же).
72. То же, правобережная группа (Там же).
73. То же, Хара-Хая (Там же).
74. То же, Тагарский Остров IV (Там же).
75. То же, Кюргеннер I (Там же).
76. То же, Кюргеннер II (Там же).
77. То же, Карасук I (Там же).
78. То же, Северный берег Варчи I (Там же).
79. То же, Сухое Озеро II (Там же).
80. То же, Арбан I (Громов 1991).
81. То же, Белое Озеро (Громов 1995).
82. То же, Сабинка II (Там же).
83. То же, Терт-Арба (Там же).
84. То же, Есинская МТС (Там же).
В. СОВРЕМЕННИКИ ТАГАРЦЕВ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СКИФСКОГО МИРА:
85. Тува, алды-бельская культура, Аржан-2 (Чикишева 2012).
86. То же, Копто (Там же).
87. То же, уюкско-саглынская культура, Догээ-Баары II (Там же).
88. То же, Саглы (вероятно, Саглы-Бажи II), по измерениям В.В. Гинзбурга (Козинцев, Селезнева 2011)7.
89. То же, Аймырлыг, уюкский этап (скопления Г–Е) (Громов и др. 2020).
90. То же (скопления VII и VIII) (Там же).
91. То же, саглынский этап (скопления II и III) (Там же).
92. То же (скопление VI) (Там же).
93. То же (скопления VIII–XII) (Там же).
94. То же, Эки-Оттуг, переход от алды-бельской культуры к уюкско-саглынской (Е.Н. Учанева, личное сообщение).
95. То же, ранняя стадия уюкско-саглынской культуры (Е.Н. Учанева, личное сообщение).
96. Ранние кочевники, Западная Монголия, Улангом, чандманьская культура (Мамонова 1980).
97. Древнейшие кочевники, Алтай (Тур 1997).
98. Пазырыкская культура, Горный Алтай, Средняя Катунь (Тур 2003).
99. То же, Нижняя Катунь, Барангол (Бородовский, Тур 2015).
100. То же, северные предгорья Алтая (Тур 2004).
101. То же, Кызыл-Джар (Тур, Рыкун 2004).
102. То же, Уландрык (Чикишева 2012).
103. То же, Юстыд (Там же).
104. То же, Барбургазы (Там же).
105. То же, Укок (Там же).
106. То же, Чуя (Там же).
107. То же. Урсул и Средняя Катунь (Там же).
108. Пазырыкская культура, суммарная группа (Там же).
109. Кара-кобинская культура, Горный Алтай (Там же).
110. Саки, Восточный Казахстан (Гинзбург, Трофимова 1972).
111. Саки и усуни, Северный и Центральный Казахстан (Там же).
112. Саки, Центральный Казахстан, тасмолинская культура (Бейсенов и др. 2015).
113. То же, Семиречье (Китов и др. 2019).
114. То же, Нарын (Там же).
115. То же, Иссык-Куль (Там же).
116. То же, Талас (Там же).
117. То же, Кетмень-Тюбе (Там же).
118. То же, Кочкор (Там же).
119. То же, Атбаши (Там же).
120. То же, Тянь-Шань, суммарная группа (Там же).
121. То же, южные предгорья Тянь-Шаня, Синьцзян, Чауху-4 (Поздняков, Комиссаров 2007).
122. То же, Алай (Гинзбург, Трофимова 1972).
123. То же, Памир (Там же).
124. То же, Южное Приаралье, Тумек-Кичиджик и Тарым-Кая (Яблонский 1996).
125. То же, Южный Тагискен и Уйгарак (Гинзбург, Трофимова 1972).
126. Савроматы, Приуралье и Нижнее Поволжье (Балабанова 2014).
Г. СКИФЫ И ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ8:
127. Степные скифы, Фронтовое I.
128. То же, Акташ.
129. То же, Керчь.
130. То же, Присивашье.
131. То же, Гайманово Поле.
132. То же, Носаки.
133. То же, Златополь.
134. То же, Мамай-Гора.
135. То же, Каховка.
136. То же, Широкое.
137. То же, Михайловка, Кут, Калиновка.
138. То же, Александрополь (Луговая Могила).
139. То же, Никополь.
140. То же, Верхне-Тарасовка.
141. То же, Ингулецкая группа.
142. То же, Северо-Западное Причерноморье.
143. То же, Николаевка на Днестре.
144. Степные скифы, суммарная группа.
145. Лесостепные скифы, Сейминская группа.
146. То же, Посульская группа.
147. То же, Ворсклинская и Бориспольская группы.
148. То же, Медвин.
149. То же, сборная серия из правобережной лесостепной Украины; суммированы трипольская (сборная) и днестровско-побужская группы.
150. Лесостепные скифы, суммарная группа.
151. Носители черногоровской культуры Украины (Круц 2017).
152. Носители черногоровской культуры Нижнего Подонья (Батиева 2011).
153. Носители предсавроматской культуры Нижнего Поволжья (Балабанова 2014).
Программа включает 14 признаков: продольный, поперечный и высотный диаметры, наименьшую ширину лба, скуловой диаметр, верхнюю высоту лица, высоту и ширину носа, ширину и высоту орбиты, назомалярный и зигомаксиллярный углы, симотический указатель и угол выступания носа. Данные обработаны с помощью канонического анализа и подсчета расстояний Махаланобиса с поправкой на численность (D2c). Матрица расстояний подвергнута неметрическому многомерному шкалированию. Построены минимальные остовные деревья, показывающие кратчайший путь соединения точек на плоскости. Использовалась программа CANON Б.А. Козинцева и пакет PAST Э. Хаммера (версия 4.05).
На графике (см. Рис. 1) зоны изменчивости трех основных популяций бронзового века – окуневской, андроновской и карасукской – располагаются в том порядке, который уже неоднократно был продемонстрирован, а именно, карасукская промежуточна между двумя более древними (Рыкушина 2007; Козинцев 2023а, 2024), что свидетельствует о ее метисности. Это особенно наглядно видно по расположению центроидов усредненных карасукских групп (VI, № 61–63) по отношению к окуневским (I) и усредненным андроновским (V, № 56, 60). При этом позднекарасукские серии – каменноложская (№ 62) и “атипичная” (№ 63) – обнаруживают по сравнению с классической карасукской (№ 61) сдвиг в сторону усредненных андроновских (V, № 56 и 60) и усредненных тагарских (VII, № 1–3) соответственно, что подтверждает выводы, сделанные Г.В. Рыкушиной (Рыкушина 2007: 122) и мной (Козинцев 1977: 28; 2024).
Рис. 1. Положение центроидов мужских краниологических серий тагарской и более ранних культур Южной Сибири и Центральной Азии на плоскости неметрического многомерного шкалирования матрицы обобщенных расстояний (D2c). Номера серий соответствуют списку в тексте. Прямые линии – ребра минимального остовного дерева, показывающие кратчайший путь между точками на плоскости.
а – окуневские, б – доандроновские западного тяготения, в – андроновские, г – карасукские, д – тагарские. Группировки, выделенные по археологическому принципу (показаны штрих-пунктирными овалами и пятнами): I – окуневская; II – доандроновская западного тяготения и андроновская, кроме Еловки II (№ 53); III – карасукская; IV – тагарская, кроме Нижне-Абаканской группы (№ 16) и Тепсея IX (№ 28); V – усредненные андроновские группы: федоровская (№ 56) и алакульская (№ 60); VI – усредненные карасукские: “классическая” (№ 61), каменноложская (№ 62) и “атипичная” (№ 63); VII – усредненные тагарские: подгорновская (№ 1), биджинская (№ 2) и сарагашенская (№ 3).
Усредненные тагарские группы близки к усредненным андроновским, и в целом тагарская область изменчивости на графике практически полностью находится внутри андроновской. Данная закономерность нарушается тремя тагарскими сериями: из Кызыл-Куля (№ 15), сближающейся с карасукскими9, Нижне-Абаканской (№ 16) и из Тепсея IX (№ 28). Две последние серии малы10 и не сходны ни с одной из известных мне групп, а потому можно предположить, что их аберрантность – результат случайности.
При этом тагарская область изменчивости занимает лишь часть андроновской, причем пять из 12 андроновских серий находятся за ее пределами. Сюда относятся три федоровские серии: из Центрального, Северного и Восточного Казахстана (№ 47), из Фирсова XIV в Барнаульском Приобье (№ 50) и из Причумышья (№ 52), а также алакульско-кожумбердынская из Южного Приуралья и Западного Казахстана (№ 57). Вне тагарской зоны находится и довольно изолированная федоровская серия из Еловки II в Томском Приобье (№ 53), принадлежащая, судя по всему, ассимилированным андроновцами сибирским аборигенам (Дрёмов 1997; Чикишева 2012; Козинцев 2023б).
В своей книге 1977 г. я писал, что тагарцы ближе к андроновцам Восточного, Центрального и Северного Казахстана (не разделенным тогда на федоровскую и алакульскую группы), чем к андроновцам Минусинской котловины (Козинцев 1977: 37). Выясняется, однако, что данный вывод верен лишь по отношению к казахстанским алакульцам (№ 58, без западных), которые действительно ближе к тагарцам, чем федоровцы Минусинской котловины (№ 55). Для федоровцев же Казахстана (№ 47) справедливо обратное (см. расположение усредненных тагарских групп (VII) и андроновских № 47, 55 и 58 на графике).
Итак, нет сомнения, что основными предками тагарцев были носители андроновской культуры или, скорее, их потомки. Согласно новым данным, в Минусинской котловине данная культура доживает лишь до XV в. до н. э. (Поляков 2022: 222). Но в XIII–XI вв. до н. э. туда с юга (из Синьцзяна через Монголию) вновь проникают носители андроновских традиций, определивших облик карасук-лугавского этапа периода поздней бронзы (Там же: 311). Правда, некоторые археологи считают, что и тагарская культура была результатом очередной миграции откуда-то извне (Там же: 318), но антропологические факты заставляют и в этом случае приписывать решающую роль потомкам андроновцев.
Весомые антропологические свидетельства участия карасукцев в сложении тагарской популяции по-прежнему отсутствуют. Центроид усредненной классической карасукской серии (№ 61) находится вне зоны внутритагарской изменчивости, центроиды каменноложской и “атипичной карасукской” групп (№ 62 и 63) – на самой ее периферии, что можно приписать усилению андроновского влияния (см. выше). А усредненные тагарские серии отклоняются от усредненных андроновских отнюдь не в сторону карасукских. Куда же именно?
Наилучшими претендентами на роль второго компонента в сложении тагарской общности являются чаахольцы Тувы (№ 41), а возможно, и елунинцы Верхней Оби (№ 42). Эти доандроновские группы европейского тяготения, вернее, их потомки, могли послужить субстратом для складывающейся тагарской популяции. Подробнее мы на этом остановимся в разделе, посвященном связям тагарцев и скифов.
Обратимся теперь к сериям, представляющим современников тагарцев в восточной части скифского мира, прежде всего к тем, которые находятся внутри тагарской зоны изменчивости (см. Рис. 2). Наиболее близки к тагарцам (D2c ≤ 1,5) пазырыкцы Урсула и Средней Катуни (№ 107), обнаруживающие сходство более чем с половиной тагарских серий (21 из 36 – 58%), люди, захороненные в двух группах саглынских могил на Аймырлыге (№ 91 и 92 – 15, т. е. 42%, и 9, т. е. 25% соответственно), а также саки Таласа (№ 116) (8, т. е. 22%). Савроматская серия (№ 126) находится на периферии тагарской зоны и близка лишь к четырем тагарским11. Итак, ближние связи тагарцев ведут прежде всего на Алтай и в Туву. Речь явно идет о близком родстве, но к происхождению тагарцев эти связи едва ли имеют отношение. В самом деле, вышеназванные алтайские и тувинские группы не относятся к ранним стадиям кочевнической культуры, но при этом обнаруживают близость к тагарцам всех трех этапов, в том числе и самого раннего – подгорновского. Центроиды же серий, представляющих более ранних кочевников Алтае-Саян (№ 85, 86, 94, 97), находятся вне тагарской зоны изменчивости. Видимо, миграционный импульс был направлен из Минусинской котловины на юг и привел к частичной смене населения.
Рис. 2. Положение центроидов мужских краниологических серий тагарской и современных ей культур Центральной и Средней Азии на плоскости неметрического многомерного шкалирования матрицы обобщенных расстояний (D2c). Обозначения см. в подписи к Рис. 1.
а – тагарские серии; б – серии из Тувы, Монголии, Алтая; в – серии из Восточного и Центрального Казахстана, Притяньшанья; г – серии из Памиро-Алая; д – серии из Южного Приаралья, Южного Приуралья и Нижнего Поволжья.
Светлым пятном обозначена область изменчивости тагарских групп, кроме Нижне-Абаканской (№ 16) и Тепсея IX (№ 28), темным – усредненных тагарских (№ 1–3).
Более перспективным в плане происхождения было бы сравнить тагарцев с ранними кочевниками Южного Приаралья (№ 124). Представляющая их серия находится вблизи тагарской зоны и обнаруживает сходство с тремя тагарскими группами: из Барсучихи (№ 6), из биджинско-сарагашенских погребений Кичик-Кюзюра (№ 10) и из Улуг-Кюзюра (№ 11). Этого, конечно, мало, чтобы говорить о миграциях. Еще меньше поводов предполагать связь с памирскими саками (№ 123), близкими лишь к одной, наиболее “средиземноморской” по облику тагарской группе – из Копьева (№ 8).
Связи тагарцев со скифами отражены на Рис. 3. Различия между лесостепными и степными сериями уже рассматривались мной. Судя по всему, эти группы имели разное происхождение: первые были автохтонными, вторые – пришлыми “из глубин Азии” (Козинцев 2007). Эти различия хорошо видны на графике. Все шесть лесостепных групп находятся “к западу” от тагарской зоны изменчивости, тогда как треть степных групп (6 из 18), в том числе и суммарная (№ 129, 132, 134, 137, 142, 144), попадает внутрь этой зоны и еще пять (№ 127, 128, 138, 141, 143) – на ее периферию. Из семи оставшихся одна (№ 130 – из Присивашья), в отличие от большинства прочих, отклоняется от тагарских групп не в “западном” направлении, как лесостепные скифы, а в противоположном, “восточном”. Она ближе всего к сериям из Тувы: к монгун-тайгинской (Козинцев 2007), из Аржана-2 (№ 85) и Саглы (№ 88), а также к сакской из Северного и Центрального Казахстана (№ 111).
Рис. 3. Положение центроидов мужских краниологических серий тагарской, скифской и доскифских культур на плоскости неметрического многомерного шкалирования матрицы обобщенных расстояний (D2c).
а – тагарские, б – степные скифские, в – лесостепные скифские, г – доскифские. Обозначения см. в подписях к рис. 1, 2.
Я уже указывал на исключительную роль чаахольской группы из Аймырлыга (№ 41) в качестве предположительно предковой для степных скифов (Козинцев 2007). Показатель обобщенного различия с поправкой на численность (D2c) в этом случае отрицателен (–0,23), т. е. различие меньше ошибки. Расчеты А.А. Казарницкого подтвердили мои выводы (Казарницкий 2017), которые находят соответствие и в археологических данных (Ковалев 2014)12, между тем как прежде такого соответствия обнаружить не удавалось.
Можно ли предположить такую же роль чаахольцев по отношению к тагарцам? Как показывает график (см. Рис. 4), это может быть справедливым для самой поздней – сарагашенской группы (D2c = 0,62), противостоящей обеим более ранним – подгорновской и особенно биджинской (2,48 и 5,42 соответственно).
Рис. 4. Показатели обобщенного отличия (D2c) чаахольской серии из Аймырлыга от сборных тагарских серий разных этапов и от сборной скифской из степи. В последнем случае показатель отличия с поправкой на численность отрицателен, т.е. различие меньше его ошибки.
Переход к сарагашенскому этапу ознаменовался существенными изменениями в облике тагарской культуры, в частности усилением алтайского влияния (Членова 1967: 135–144; Савинов 2004). Антропологические данные, правда, позволяют предположить миграцию в противоположном направлении – из Минусинской котловины на юг (см. выше). Так или иначе, усиление связей, судя по всему, имело место.
Учитывая поздние даты скифских серий из степи (Круц 2017; Козинцев 2007), можно допустить, что именно приток населения из Алтае-Саян определил антропологическое своеобразие степных скифов по сравнению с лесостепными. Но что это было за население? Вполне возможно, что тагарское, конкретно сарагашенское или родственное ему, распространившееся, следовательно, не только на юг (в Туву и на Алтай), но и на запад, вплоть до Северного Причерноморья. Антропологические факты определенно указывают на такую возможность (тот же вывод см.: Казарницкий 2017).
Связи с прочими группами ранних кочевников Центральной Азии отмечены в восьми скифских группах из степи (в лесостепных – ни разу). Никакой повторяемости в этих связях нет – лишь близость к предсавроматской группе из Нижнего Поволжья (№ 153; см. Рис. 3), несомненно, пришлой с востока, отмечена в трех степных скифских сериях (к савроматской – в четырех, см. выше). Однако суммарная степная скифская группа не близка ни к одной из синхронных восточных, тогда как к чаахольской близки 10 степных серий, в том числе – и в ничуть не меньшей степени – суммарная.
Почему же именно чаахольская группа, отделенная от тагарских (особенно сарагашенских) и степных скифских огромным хронологическим разрывом, проявляет к ним такую близость? Это загадка, а потому приходится ограничиться выводом, к которому вслед за мной пришел и А.А. Казарницкий (см. выше): ничем, кроме родства, это не объяснить.
Что же касается архаической скифской культуры, распространенной в лесостепи и на Северном Кавказе, то, как я предположил, она могла распространиться из тех же “глубин Азии”, но раньше, и притом не миграционным, а диффузионным путем (Козинцев 2007). Судить об этом можно будет лишь после появления антропологического материала по скифской архаике.
Предскифская черногоровская группа из Украины (№ 151) близка к чаахольской и к семи степным скифским, в том числе и суммарной, но заметно отличается от всех тагарских, уклоняясь от них не в “восточном”, а в “западном” направлении – в сторону лесостепных скифов (см. Рис. 3). Предполагать ее восточное происхождение нет никаких оснований, но субстратная ее роль вполне вероятна (Там же). Иначе обстоит дело с черногоровской группой из Нижнего Подонья (№ 152), явно пришлой с востока и близкой к предсавроматской, к трем степным скифским группам, но не к чаахольской, и лишь к одной из тагарских. Следовательно, и данная популяция не сыграла решающей роли в генезисе основной массы скифского населения степи.
Итак, мы приходим к следующим выводам:
- Наиболее вероятные предки тагарцев – носители андроновской культуры; доандроновский субстрат был, скорее всего, представлен чаахольцами.
- Вероятная причина отличия некоторых пазырыкских групп Алтая и саглынских групп Тувы от более ранних – миграция части сарагашенского населения на юг.
- Отличия степных скифов от лесостепных вызваны, скорее всего, продвижением сарагашенцев или их родственников из Алтае-Саян в восточноевропейские степи.
- Особую роль в данной миграции могли сыграть группы, сохранившие антропологические черты доандроновского, в частности чаахольского субстрата.
Благодарности
Я признателен за помощь М.П. Грязнову и другим сотрудникам Красноярской археологической экспедиции, а также Н.Л. Членовой, передатировавшей для меня весь опубликованный, а отчасти и новый материал, и И.П. Лазаретову за консультацию. Благодарю Т.А. Чикишеву за полезное обсуждение рукописи статьи и Е.Н. Учаневу за предоставление неопубликованных данных по группе из Эки-Оттуга.
1 Два других исследования по генетике ранних кочевников Северной Евразии (Unterländer et al. 2017; Krzewińska et al. 2018) сколько-нибудь интересных для нас результатов не дали, вероятно, из-за слишком формального подхода генетиков к антропологическому материалу и недостаточно тесного контакта их с археологами.
2[2] Этапы даны по схеме М.П. Грязнова. Дата баиновского этапа приведена по А.В. Полякову (Поляков 2022: 302), подгорновского – по А.В. Полякову и С.В. Святко (Поляков, Святко 2009), прочие даты – по Н.Л. Членовой (Членова 1967 и личные сообщения). Более подробные сведения о тагарских сериях № 4–34 см.: Козинцев 1977: 138–142.
3 В анализ не включена подгорновская серия из Станции Казановской-1, отличающаяся аберрантно высокими значениями зигомаксиллярного угла – 135,2° у мужчин и 138,5° у женщин (Кишкурно 2022).
4 Использованы только данные о мужских черепах.
5[5] Источники данных о доандроновских и андроновских сериях № 45–60 см.: Козинцев 2023б.
6[6] Здесь и далее принадлежность серий к классической или каменноложской (лугавской) группе не уточняется из-за расхождений между археологами и культурной неоднородности могильников.
7 Точные данные о происхождении саглынской серии из раскопок А.Д. Грача, к сожалению, отсутствуют. По личному сообщению К.В. Чугунова, речь, скорее всего, идет о могильнике Саглы-Бажи II.
8[8] Источники данных о скифских сериях № 127–148 см.: Круц 2017; Козинцев 2007.
9 Черепа из Кызыл-Куля добыты в конце XIX в., и полной уверенности, что все они тагарские, нет.
10 Некоторые размеры определены на одном-двух черепах.
11 То же относится к не отраженной на данном графике предсавроматской группе из Нижнего Поволжья IX–VII вв. до н. э. (№ 153), явно имеющей восточное происхождение (Балабанова 2014). Ее статус мы обсудим ниже.
12 А.А. Ковалев объясняет культурные особенности чаахольцев влиянием населения Монгольского Алтая и находит сходные черты в елунинской и чемурчекской культурах (Ковалев 2014). Антропологически елунинская серия действительно сближается с чаахольской, но, в отличие от нее, входит в зону изменчивости лишь скифских, но не тагарских групп. Два мужских чемурчекских черепа отчетливо монголоидны (Солодовников и др. 2019; Козинцев 2021).
Об авторах
Александр Григорьевич Козинцев
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: alexanderkozintsev@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0165-8109
д. и. н., главный научный сотрудник
Россия, Университетская наб. 3, Санкт-Петербург, 199034Список литературы
- Алексеев В.П. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья эпохи неолита и бронзы // Антропологический сборник. Труды Института этнографии АН СССР. 1961а. Т. 71. № 3. С. 107–206.
- Алексеев В.П. Палеоантропология Хакассии эпохи железа // Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР. 1961б. Т. 20. С. 238–327.
- Алексеев В.П. К происхождению таштыкского населения Южной Сибири // Проблемы археологии Урала и Сибири. Сборник статей, посвященных памяти Валерия Николаевича Чернецова / Отв. ред. А.П. Смирнов. М.: Наука, 1973. С. 220–232.
- Алексеев В.П. Антропологические данные о локальных различиях населения тагарской культуры // Первобытная археология Сибири / Отв. ред. А.М. Мандельштам. Л.: Наука, 1975. С. 109–119.
- Алексеев В.П., Гохман И.И., Тумэн Д. Краткий очерк палеоантропологии Центральной Азии (каменный век – эпоха раннего железа) // Археология, этнография и антропология Монголии / Отв. ред. А.П. Деревянко, Ш. Нацагдорж. Новосибирск: Наука, 1987. С. 208–241.
- Балабанова М.А. Роль восточных миграций в формировании савромато-сарматского населения восточноевропейских степей // Сарматы и внешний мир: материалы VIII Всероссийской научной конференции “Проблемы сарматской археологии и истории” / Отв. ред. Л.Т. Яблонский, Н.С. Савельев. Уфа: Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, 2014. С. 20–29.
- Батиева Е.Ф. Население Нижнего Дона в IX в. до н. э. – IV в. н. э. (палеоантропологическое исследование). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011.
- Бейсенов А.З., Исмагулова А.О., Китов Е.П., Китова А.О. Население Центрального Казахстана в I тысячелетии до н. э. Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2015.
- Боковенко Н.А. и др. К проблеме хронологии раннетагарских памятников Енисея // Степи Евразии в древности и Средневековье: к 100-летию со дня рождения Михаила Петровича Грязнова / Отв. ред. Ю.Ю. Пиотровский. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2003. Кн. 2. С. 19–21.
- Бородовский А.П., Тур С.С. Барангольский некрополь пазырыкской культуры в горной долине Нижней Катуни (антропологический аспект) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. Т. 43. № 3. С. 128–141.
- Гинзбург В.В. Трофимова Т.А. Палеоантропология Средней Азии. М.: Наука, 1972.
- Громов А.В. Палеоантропологические материалы из карасукского могильника Арбан I // Новые коллекции и исследования по антропологии и археологии. СПб.: Наука, 1991. С. 42–47.
- Громов А.В. Население юга Хакасии в эпоху поздней бронзы и проблема происхождения карасукской культуры // Антропология сегодня. 1995. № 1. С. 130–150.
- Громов А.В. Происхождение и связи населения окуневской культуры // Окуневский сборник / Отв. ред. Д.Г. Савинов, М.Л. Подольский. СПб.: Петро-РИФ, 1997. С. 301–358.
- Громов А.В., Лазаретова Н.И. Краниологические материалы из раннетагарских курганов Могильной степи // Творец культуры. Материальная культура и духовное пространство человека в свете археологии, истории и этнографии. К 80-летию профессора Дмитрия Глебовича Савинова / Отв. ред. Н.Ю. Смирнов. СПб.: ИИМК РАН, 2021. С. 211–223.
- Громов А.В., Лазаретова Н.И., Учанева Е.Н. Краниоскопия тагарских могильников: норма и вариации // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты Музея антропологии и этнографии РАН в 2015 г. СПб.: Музей антропологии и этнографии РАН, 2016. С. 344–350.
- Громов А.В., Учанева Е.Н. Раннетесинское население Минусинской котловины по данным краниологии (опыт сопоставления двух систем признаков) // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты Музея антропологии и этнографии РАН в 2012 г. СПб.: Музей антропологии и этнографии РАН, 2013. С. 32–38.
- Громов А.В., Учанева Е.Н., Широбоков И.Г., Жогова Н.А. Население Центральной Тувы в скифское время по данным краниологии (по материалам могильника Аймырлыг) // Население раннего железного века и Средневековья Северной Евразии по материалам музейных коллекций. СПб.: Музей антропологии и этнографии РАН, 2020. С. 208–222.
- Дебец Г.Ф. Еще раз о белокурой расе в Центральной Азии // Советская Азия. 1931. № 5–6. С. 195–209.
- Дебец Г.Ф. Расовые типы Минусинского края в эпоху родового строя (к вопросу о миграциях в доклассовом обществе) // Антропологический журнал. 1932. № 2. С. 26–48.
- Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1948.
- Дрёмов В.А. Население Верхнего Приобья в эпоху бронзы (антропологический очерк). Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1997.
- Казарницкий А.А. Данные физической антропологии о формировании населения Северного Причерноморья в античное время // Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом (III в. до н. э. – VII в. н. э.) / Отв. ред. А.И. Иванчик, В.И. Мордвинцева. М.; Симферополь: ИП Т.В. Зуева, 2017. С. 213–302.
- Китов Е.П., Тур С.С., Иванов С.С. Палеоантропология сакских культур Притяньшанья. Алматы: Хикари, 2019.
- Кишкурно М.С. Новые данные по краниологии носителей подгорновского этапа тагарской культуры Хакасии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2022. Т. 28. С. 555–562.
- Ковалев А.А. Происхождение скифов из Джунгарии; основание гипотезы и ее современное состояние // Арии степей Евразии: эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях. Сборник памяти Елены Ефимовны Кузьминой / Отв. ред. В.И. Молодин, А.В. Епимахов. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2014. С. 124–136.
- Козинцев А.Г. Антропологический состав и происхождение населения тагарской культуры. Л.: Наука, 1977.
- Козинцев А.Г. Этническая краниоскопия. Л.: Наука, 1988.
- Козинцев А.Г. Скифы Северного Причерноморья: межгрупповые различия, внешние связи, происхождение // Археология, этнография и антропология Евразии. 2007. № 4 (32). С. 143–157.
- Козинцев А.Г. Основные направления популяционной динамики в Северной Евразии от мезолита до эпохи ранней бронзы // Археология, этнография и антропология Евразии. 2021. Т. 49. № 4. С. 121–132.
- Козинцев А.Г. На кого были похожи карасукцы? // Этнографическое обозрение. 2023а. № 3. С. 150–164.
- Козинцев А.Г. Происхождение андроновцев: статистический подход // Археология, этнография и антропология Евразии. 2023б. Т. 51. № 4. С. 142–151.
- Козинцев А.Г. Происхождение карасукцев (по краниологическим данным) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2024. Т. 52. № 2. С. 143–153.
- Козинцев А.Г., Селезнева В.И. Краниометрические особенности населения Тувы эпохи железа: черепа из могильника Саглы // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты Музея антропологии и этнографии РАН в 2010 г. СПб.: Музей антропологии и этнографии РАН, 2011. С. 217–222.
- Круц С.И. Скифы степей Украины по антропологическим данным. Киев; Берлин: Видавець Олег Фiлюк, 2017.
- Лазаретова Н.И. Краниологические материалы из биджинских курганов в контексте межгрупповой изменчивости населения тагарской культуры // Некоторые актуальные проблемы современной антропологии / Отв. ред. И.И. Гохман, А.В. Громов. СПб.: МАЭ РАН, 2006. С. 66–75.
- Мамонова Н.Н. Антропологический тип древнего населения Западной Монголии по данным палеоантропологии // Исследования по палеоантропологии и краниологии СССР / Отв. ред. И.И. Гохман. Л.: Наука, 1980. С. 60–74.
- Поздняков Д.В., Комиссаров С.А. Антропологические материалы из могильников группы Чауху (Синьцзян, КНР) // Алтае-Саянская горная страна и соседние территории в древности / Отв. ред. В.Е. Ларичев. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2007. С. 84–90.
- Поляков А.В. Хронология и культурогенез памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин. СПб.: Институт истории материальной культуры РАН, 2022.
- Поляков А.В., Святко С.В. Радиоуглеродное датирование археологических памятников неолита – начала железного века Среднего Енисея: обзор результатов и новые данные // Теория и практика археологических исследований. 2009. Вып. 5. С. 20–56.
- Рыкушина Г.В. Палеоантропология карасукской культуры. М.: Старый Сад, 2007.
- Савинов Д.Г. Население Среднего Енисея в эпоху сложения скотоводческих обществ // Journal of Turkic Civilization Studies. 2004. № 1. С. 107–134.
- Савинов Д.Г. Проблема хронологии и периодизации тагарской культуры в историческом контексте // “Terra Scythica”. Материалы международного симпозиума “Terra Scythica” (17–23 августа 2011 г., Денисова пещера, Горный Алтай) / Отв. ред. В.И. Молодин, С. Хансен. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2011. С. 208–217.
- Солодовников К.Н. Краниологические материалы из могильника андроновской культуры Фирсово XIV в свете проблем формирования населения Верхнего Приобья в эпоху бронзы // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Горно-Алтайск: АКИН, 2005. Вып. 1. С. 35–47.
- Солодовников К.Н., Тумен Д., Эрдэнэ М. Краниология чемурчекской культуры Западной Монголии // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции). Т. 2 / Отв. ред. А.В. Поляков, Е.С. Ткач. СПб.: Институт истории материальной культуры РАН, 2019. С. 79–81.
- Солодовников К.Н., Тур С.С. Краниологические материалы елунинской культуры эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья // Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Тишкин А.А. Погребальный обряд населения эпохи ранней бронзы Верхнего Приобья (по материалам грунтового могильника Телеутский Взвоз-1). Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2003. С. 142–176.
- Тур С.С. Краниологические материалы из раннескифских могильников Алтая // Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. 1. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1997. С. 136–147.
- Тур С.С. Антропологический состав населения Средней Катуни скифского времени (внутригрупповой анализ) // Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. 2. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2003. С. 137–169.
- Тур С.С. Краниологические материалы из могильников северных предгорий Алтая скифского времени // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии / Отв. ред. Ю.Ф. Кирюшин, А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2004. С. 253–257.
- Тур С.С., Рыкун М.П. Краниологические материалы пазырыкской культуры из могильников в урочище Кызыл-Джар // Древности Алтая. 2004. № 12. С. 32–49.
- Учанева Е.Н., Казарницкий А.А., Громов А.В., Лазаретова Н.И. Население Минусинской котловины в раннем железном веке: к вопросу о внутригрупповой и межгрупповой изменчивости // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017. № 1 (36). С. 78–87.
- Хань Кансинь. Антропологическое изучение могильника Гумугоу на р. Кончедарья, Синьцзян // Каогу сюэбао. 1986. № 3. С. 361–384. (на кит. яз.)
- Черданцев С.В. и др. Генетический состав носителей тагарской культуры: современное состояние и перспективы исследования // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2021. Т. 27. С. 723–729.
- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2012.
- Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.: Наука, 1967.
- Яблонский Л.Т. Саки Южного Приаралья. Археология и антропология могильников. М.: Институт археологии РАН, 1996.
- Krzewińska M. et al. Ancient Genomes Suggest the Eastern Pontic-Caspian Steppe as the Source of Western Iron Age Nomads // Science Advances. 2018. No. 4. Art. eaat4457. https://doi.org/10.1126/sciadv.aat4457
- Unterländer M. et al. Ancestry and Demography and Descendants of Iron Age Nomads of the Eurasian Steppe // Nature Communications. 2017. No. 8. Art. 14615. https://doi.org/10.1038/ncomms14615
Дополнительные файлы