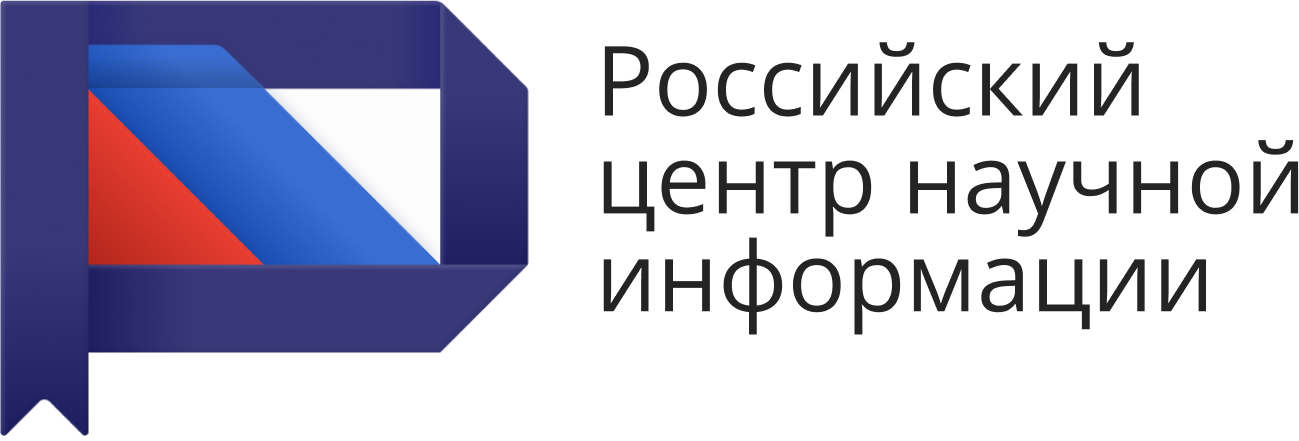“Dialogue” between Russian and (Post/Anti)Boasian Anthropologies
- Авторлар: Kuznetsov I.V.1,2
-
Мекемелер:
- Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences
- Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
- Шығарылым: № 2 (2024)
- Беттер: 5-24
- Бөлім: Special theme of the issue: domestic ethnography and international scholarship in the 20th century: contacts, influences, and confrontations
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-5415/article/view/261988
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869541524020018
- EDN: https://elibrary.ru/CLRDZB
- ID: 261988
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
The article touches on the problem of self-perception of domestic scholars in a long on-going dialogue with American anthropology. The focus is on the figure of the latter’s founding father, who, as is known, maintained intensive contacts with many prominent Russian scholars (L. Shternberg, W. Bogoras, J. Averkieva, etc.). Thanks to him, they received their positions and degrees, weight in the scientific world. But there is much that is paradoxical in the Boasian influence on Russian anthropology. Bogoras, who was most strongly associated with him personally and adopted Boas’s fieldworks methods, nevertheless made little reference to him in his works. On the other hand, Averkieva, who quoted “Papa Franz” many times, practically remained unaffected by his intellectual influence. In the modern Russian history of anthropology, there is a growing desire to participate in the “sharing” of Boas’s legacy, together with their recognized American colleagues (G. Stocking, R. Darnell, etc.). However, the genealogy of professional connections between Russian and American anthropologists is not easy to construct. Mutual relationship sometimes appears in the most unexpected points (anthropological linguistics, physical anthropology), while parallels are often explained by “similar ways of thinking”.
Негізгі сөздер
Толық мәтін
Несмотря на изолированность в постреволюционное время российской/советской этнографии/этнологии, судьбы многих ее представителей оказались переплетены с американской антропологией причудливее, чем в других европейских школах и традициях (исключая немецкоязычную). В годы подготовки, работы и опубликования материалов Джесуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции российско-американские антропологические связи значительно интенсифицировались. Основными акторами выступали с одной стороны Ф. Боас, К. Уисслер, Б. Лауфер и сотрудники Американского музея естественной истории (АМЕИ), с другой – директор МАЭ (Кунсткамеры) В.В. Радлов и знаменитая “этно-тройка” – Л.Я. Штернберг, В.Г. Богораз, В.И. Иохельсон.
Проблема боасовского влияния
Начну с того, что Л.Я. Штернберг, В.Г. Богораз и В.И. Иохельсон в своих работах демонстрируют примерно тот же “филогенез в онтогенезе”, что и боасовцы.
В юности Л.Я. Штернберг увлекался чтением “индейских” романов Ф. Купера и других авторов – так же, как Р. Лоуи и А.Л. Крёбер, но не Ф. Боас. Зато позднее, находясь в поле, он, в точности как Ф. Боас, штудировал И. Канта. Л.Я. Штернберг, В.И. Иохельсон и даже В.В. Радлов переписывались с Ф. Боасом по-немецки (тот же старался отвечать им по-английски), и только легко овладевавший языками В.Г. Богораз писал на английском. Однако, впервые принимая у себя на квартире В.Г. Богораза и В.И. Иохельсона, Ф. Боас нашел их “так сильно отличающимися” и “необычайно чудны́ми”, а его жена Мари (из немецкой католической семьи) вообще невзлюбила за то, что засиживались дотемна, и ничем нельзя было заниматься, “пока русские не уйдут”. Впечатления о русских антропологах сохранила переписка Ф. Боаса (FB) и М. Боас (MB) с Софи Боас (SB) – матерью Франца Боаса (BFP: FB/SB 03.06.1900, MB/SB 03.23.1900; Cole 1999: 197). Такая настороженность вполне объяснима: “этно-тройка” представляла то идишеговорящее революционно настроенное поколение (в боасовском окружении к нему относились Э. Сепир, П. Радин и А. Гольденвейзер), которое, заполонив Нижний Ист-Сайд, угрожало превратить в трущобы соседние более респектабельные районы Нью-Йорка, где осели немцы и немецкоговорящие евреи побогаче.
После советизации, в “красное десятилетие”, заработали программы академических обменов при активной протекции В.Г. Богораза и Ф. Боаса (сам он, несмотря на многочисленные заверения, воздержался от посещения России/СССР). Тогда в Советский Союз смогли приехать для проведения исследований боасовский сотрудник и информант А. Финни, защитивший в Ленинграде кандидатскую диссертацию, студенты и докторанты А.Л. Крёбера (Э. Гоник, Е.А. Голомшток, Р. Бартон) и Э. Сепира (А. Хадсон, Э. Бэкон) (Кан 2007: 218–219; Кузнецов 2020: 55–60, 64–65). С советской стороны после окончания Ленинградского университета на два года в США была командирована Наркомпросом РСФСР Ю.П. Аверкиева для стажировки в женском Барнард-колледже; она прошла музейную практику в АМЕИ и приняла участие в последней экспедиции престарелого уже Боаса на о-в Ванкувер к кваквакьавакв (Кузнецов 2018). После возвращения Ю.П. Аверкиевой в качестве очередного кандидата для стажировки в США В.Г. Богораз рассматривал Л.А. Надежину-Крынкину – но к этому времени программа была уже свернута (см.: СПбФ АРАН).
В эпоху “железного занавеса” и холодной войны сообщество антропологов США (причем все четыре основные области: культурную антропологию, физическую антропологию, археологию и лингвистику) пополнили, на этот раз в результате “вынужденного обмена”, эмигрировавшие в 1920-е годы Ф.Г. Добржанский, В.И. Иохельсон, И.А. Лопатин, Н.Н. Мартинович и М.И. Ростовцев, в 1930-е годы – И. Липшиц (Джон Мурра), в 1940-е годы – Л. Блэк, И. Копытофф, Р. Якобсон и Н.Н. Поппе, в постбоасовское время – С.А. Кан, Н.Н. Садомская, Вяч.Вс. Иванов, А.А. Знаменский, И.И. Крупник, А.М. Лесков, М.Г. Рабинович, С.А. Ушакин, А.М. Хазанов, А.В. Юрчак и т.д. Но к “русскому зарубежью” в американской антропологии в полной мере относятся также выходцы из иммигрантских семей, в том числе и те, кого вывезли еще детьми: В. и К. Минделеффы, Т. Проскурякова, М. Титиев, Ф. Друкер, С. Тэкс, Д. Шимкин. Отдельно выделю боасовцев: А. Гольденвейзера, П. Радина, Б. Мишкина, М. Сводеша и О. Льюиса (Лефковица).
Тем не менее непросто вычертить общую для российских и американских антропологов профессиональную генеалогию. Поразительны некоторые переклички и параллели. Так, благодаря Л.Я. Штернбергу и В.Г. Богоразу институционализация этнографии в России проходила именно на географическом факультете – даже внешнедисциплинарные связи поначалу были такими же, что и в ранней карьере Ф. Боаса, стартовавшего в качестве физика и географа на Баффиновой Земле и редактора по разделу “география” в нью-йоркском журнале Science. Совершенно точно можно сказать, что боасовские методы полевой работы, воспринятые в ходе Джесуповской экспедиции “этно-тройкой”, по крайней мере В.Г. Богоразом и В.И. Иохельсоном, были переданы целому поколению первых советских сибиреведов – этнографов, лингвистов, археологов и физических антропологов (Krupnik 1998; Вахтин 2005).
Профессора, привыкшие в ссылке к лишениям, фанатично требовали от своих студентов самоотверженно следовать принципам стационарной этнографической работы (ср. богоразовское: “Претендовать на удобство или даже гигиену этнограф, во время полевой работы, не имеет права” [Гаген-Торн 1971: 140]). Но самому Боасу довелось работать в значительно более комфортных условиях (подчас с умывальником и теплой постелью [см.: Rohner 1969]), поскольку дистанция между образом жизни среднего класса и коренного населения в Северной Америке была куда меньше, чем в СССР. Лучшее свидетельство тому оставил нез-перс А. Финни, проводивший полевые исследования среди алтайцев, показавшихся ему “более отсталыми (more retarded), чем американские индейцы” (BPP: Phinney/FB 06.07.1934). Простое копирование американского опыта привело к трагедии: первая экспедиция на п-ов Ямал (1928–1929) закончилась гибелью ее начальника Н.А. Котовщиковой (Пика 1989: 100–102).
Вплоть до начала холодной войны в Ленинграде еще ощущалась тесная взаимосвязь четырех субдисциплин – этнологии (культурной антропологии), (физической) антропологии, археологии и антропологической лингвистики, в чем выражалось понимание объекта антропологии, хоть и не изобретенное Францем Боасом, но в целом присущее его времени. Тогда как в Москве ориентировались на так наз. анучинскую триаду – проведение комплексных археолого-этнографо-антропологических исследований, не подразумевавших такого внимания к языкам. На московском совещании этнографов двух столиц в 1929 г. в ходе дискуссии столкнулись обе традиции – это наглядно продемонстрировало всю разницу между ними: Г.Н. Прокофьев (штернбергско-богоразовский студент) настаивал на обязательном для этнографа использовании в поле языка изучаемого народа, тогда как подход профессионального московского лингвиста-кавказоведа Н.Ф. Яковлева, требовавшего от коллег хотя бы поверхностных лингвистических знаний, выглядел более реалистичным (Арзютов и др. 2014: 315–323). К слову, как теперь стало известно, сам Боас обходился в своей работе лишь английским и жаргоном чинук (Drucker 1970: 705–706). Разумеется, обе позиции (и Г.Н. Прокофьева, и Н.Ф. Яковлева) в основном уже позабыты, и ныне практически невозможно встретить этнографа, лингвиста или археолога, одинаково хорошо ориентирующегося в соседних областях.
В боасовском влиянии на российских коллег много парадоксального. В.Г. Богораз, вероятно, сильнее всего ему подверженный, тем не менее очень редко ссылался в своих трудах непосредственно на работы американского антрополога, по всей видимости, опасаясь обвинений со стороны большевистской молодежи в несовременности и даже контрреволюционности. А на работе Ю.П. Аверкиевой, дольше других поддерживавшей трогательную переписку с “папой Францем” и множество раз его цитировавшей, интеллектуальное воздействие Ф. Боаса практически не отразилось. Изломы биографии и личные трагедии исследовательницы привели к тому, что она отказалась от боасовских методики и оптики и не использовала бо́льшую часть собственного полевого материала, собранного в Алерт-Бэй и Форт-Руперте.
Сюрпризом является то, что в российской науке удерживались (а отчасти и сегодня сохраняются) отдельные концепции и методы, позаимствованные у Исторической школы. Боас, убежденный противник классификаций, не принял европейского сравнительно-исторического языкознания, выступая против жесткого увязывания языка и этничности, преувеличения роли расового фактора и не видя ценности в построении генеалогической классификации языков (Boas 1929: 1, 6–7). Как и в других дисциплинарных областях, прежде всего в физической антропологии, ему важно было подчеркнуть значение не происхождения языка, а воздействия среды на его развитие (историю). Тем не менее проблема группировки американских индейских языковых семей завораживала его учеников и учеников его учеников, существенно усовершенствовавших инструментарий работы с бесписьменными “экзотическими” языками. Лексико-статистический метод (глоттохронологию), предложенный в свое время М. Сводешем, до сих пор разрабатывает московская школа компаративистики, которая в России стоит ближе всего к тому, что можно было бы назвать лингвистической антропологией. А в самое последнее время была даже осуществлена попытка оживить старую, еще боасовскую идею лингвистической относительности – так наз. гипотезу Сепира–Уорфа (Бородай 2020).
Напротив, все глубинные идеи и методологические принципы Боаса (релятивизм, исторический партикуляризм) по мере проникновения в отечественную антропологию перебивались конфликтующими с ними схемами и идеологемами. Так, в исследованиях этногенеза народов СССР с легкостью была принята теоретическая возможность автономного от этнических идентичностей развития языков и, в частности, концепция языкового сдвига (language shift), основанная на допущении, что при смене языка коллектив его носителей рассматривается как примордиальная сущность. Несомненно, из благих намерений такое упрощение подпитывалось требованиями максимально разводить язык, культуру и “расовый тип”, за которыми маячил редукционистски понятый “Ум первобытного человека”. Между тем, как показывают наблюдения за судьбами миноритарных языков, вместе с их исчезновением качественно меняются соответствующие этнические единицы. Еще М. Сводеш подметил, что “[ч]асто смена языка сопровождается трансформацией самой общины” (Сводеш 2012: 41): в ногу с демографической децимацией идут этнорасовая миксация и “схлопывание” внутренней организации (клановой, дуально-экзогамной, конфедеративной, племенной и проч.), тогда как ревитализация может носить сетевой (медийный) характер.
В физической антропологии Ф. Боас противодействовал наступлению естественнонаучной реакции, и одним из его оппонентов здесь выступал директор АМЕИ Г.Ф. Осборн – эволюционист и крупнейший палеонтолог своего времени. Воодушевившись фактом изгнания Боаса из руководящего органа Американской антропологической ассоциации, Г.Ф. Осборн организовал антисемитскую возню вокруг его личности. Он стыдил антрополога за “его недостаток признательности мистеру Джесупу и его нежелание сделать что-либо в благодарность за удивительную услугу, которую тот ему оказал” (Hyatt 1990: 132). В 1918 г. Г.Ф. Осборн, М. Грант и Ч. Дэйвенпорт организовали в Нью-Йорке Гальтоновское общество, в задачу которого входило изучать “расовую антропологию”. Общество быстро превратилось, по словам Д. Стокинга, “в мозг научного расизма” cо стороны психологов и биологов (Stocking 1968: 289). В России же продолжали высоко чтить научные заслуги Г.Ф. Осборна, не замечая его общественных взглядов и позиции в вопросе о расе. В 1923 г. он был даже удостоен звания члена-корреспондента АН СССР (отделение физико-математических наук, разряд биологических наук).
А вот деятельность другого крупного биолога (генетика) и евгеника Ф.Г. Добржанского осталась практически незамеченной советскими этнографами. После эмиграции, влившись в коллектив Колумбийского университета, Ф.Г. Добржанский тесно сблизился с либерально мыслящей профессурой, объединенной в университетскую Федерацию за демократию и интеллектуальную свободу, лидером которой стал Боас (Adams 1994: 206). Объектом критики Ф.Г. Добржанского, наряду с прочим, стала поднимающаяся волна ламаркизма в Советском Союзе (лысенковщина). Ф.Г. Добржанский, стоящий на релятивистских позициях, внес решающий вклад (наряду с Э. Монтагю) в деконструкцию концепта расы. Он считал, что эволюцию человека нельзя понимать ни как чисто биологический процесс, ни как просто культурную историю. Ф.Г. Добржанский под “расами” понимал группы популяций, различающихся частотностью определенных генов. Поэтому – писал он – число рас и границы между ними во многом произвольны, но главное – расы изначально признаются полиморфными, и генетические вариации внутри рас сильнее, чем на их границах. Получается, что разнообразие человечества запрограммировано биологически, и лучшая стратегия максимизации выгоды от такой ситуации – предоставить всем людским сообществам равенство возможностей (Dobzhansky 1973). Увы, идеи Ф.Г. Добржанского в России имели гораздо меньший резонанс, чем на Западе.
Марксизм или эволюция?
Камнем преткновения для распространения боасовского влияния на советскую антропологию, по всей вероятности, стала не столько чуждая теория или языковой барьер, сколько способ организации науки, совершенно иной и по большому счету неожиданный для представителей других школ. Прежде я уже обращал внимание на особую связь российских ученых с государством (см.: Дарнелл и др. 2023: 133–134). Ясно, что стиль управления и в дореволюционное время, и особенно в советский период, до мелочей чиновничье-бюрократический, сулил исследователям ряд бонусов, включая финансовую подпитку и опору в виде институтов Академии наук и национальных НИИ. С одной стороны, государственная поддержка положительно сказывалась на темпах развития науки и ее географии, с другой – выливалась в контролирование направлений научных поисков, а в случае с социальными науками – в подчинение их текущим политическим нуждам. Все это в совокупности и определило гибридную сущность российской (советской) этнографии и полученного ею знания. В итоге не всегда можно отделить результаты реальных научных исследований от чисто идеологических наслоений, не требующих никакой верификации.
Представляется, что, вопреки расхожему мнению, марксизм не полностью “захватил” науку в СССР. Так, Т.Д. Соловей, специально анализировавшая антропологию постреволюционного времени, еще больше доместицированную государством в ходе “коренного перелома”, глубоко сомневается, что в этот период реально имела место “смена научных парадигм” (Соловей 2001: 119). После пересборки, предпринятой радикальными теоретиками типа В.Б. Аптекаря и Н.М. Маторина (у археологов еще С.Н. Быковского и Ф.В. Кипарисова), на археолого-этнографических совещаниях в Ленинграде археологию лишь переименовали в историю материальной культуры да провозгласили делимитацию границ между этнографией и историей. Можно спорить о том, насколько советский компромисс между диахронией и синхронией удачен. Со временем за вводными историческими очерками к монографиям, вроде бы, действительно стало все больше проглядывать статичное описание культур. Одно несомненно: в лучших работах, признанных классическими, авторы, поставленные перед необходимостью реконструировать предшествующие стадии развития обществ, не подтверждаемые в поле, обратились к историческим источникам. Этим не занимались ни исследователи до Боаса, ни он сам. В постбоасовское время упущение постаралась восполнить “этноистория”. В частности, К. Ричардс обнаружила, что уже в первой половине XVII в. поселения гуронов и ирокезов вряд ли являлись последовательно матрилокальными (Richards 1967: 55–56). Если бы такой анализ был осуществлен вовремя, то теорию Л.Г. Моргана никто не воспринимал бы всерьез.
Советские этнографы надолго уверовали в универсальность матриклана и историчность Mutterrecht, в существование кровнородственной и пуналуальной семей и проч., и все их основные идеи, выкованные “пролетарски” в полемике с буржуазной наукой, так или иначе упирались в теорию Л.Г. Моргана – либо прямо, либо опосредованно через работы классиков марксизма. Симптоматично выглядит то, как к концепции группового брака пришел Л.Я. Штернберг (“русский Бастиан”): будучи в ссылке на Сахалине, он прочитал “Происхождение семьи, частной собственности и государства” Ф. Энгельса, откуда и узнал о моргановском открытии; затем он “обнаружил” соответствующий институт у нивхов среди других “пережитков” их якобы родового строя (Кан 2023: 90–91). В этом смысле эволюционный бэкграунд советской этнографии был предрешен революционными биографиями ее основателей. Но в персональном деле Л.Я. Штернберга имелся еще один пунктик, неожиданно сближающий его с адвокатом из штата Нью-Йорк. В свое время Р. Лоуи заметил, что, если бы Л.Г. Морган проводил свои исследования не у ирокезов-сенека, а, например, у эскимосов или пайют, у которых отсутствовала материнско-родовая организация, “общие его воззрения могли быть другими” (Lowie 1937: 55). Это правда, но кланы являлись неотъемлемой частью социальной жизни валлийцев Морганов и без всяких ирокезов. Точно так же, как вера в происхождение еврейских общин от различных “колен Израиля” была неопровержимой реальностью для воспитанного на Торе Л.Я. Штернберга.
В 1920–1930-е годы в археологии, этнографии и марристском языкознании nurture возобладало над nature. Сменяющие друг друга археологические культуры трактовались как стадиальные перевоплощения одной предковой культуры точно так же, как лингвистические семьи объявлялись стадиями непрерывного глоттогонического процесса. Настаивать на генетических различиях предположительно мигрировавшей и автохтонной популяций стало на языке партийных идеологем эквивалентно расизму и фашизму. Культурные, или, выражаясь современно, этнические общности, начали восприниматься как весьма пластичные, подверженные влиянию среды, особенно экономической, что очень похоже на конструктивизм наших дней. В более широкой перспективе, однако, с учетом лысенковщины в биологии, это означало возврат от Дарвина к Ламарку, к “бихевиористской теории биологической эволюции”. По Д. Стокингу, аналогичный период был пройден и американской антропологией, но раньше, в 1890–1915 гг., примеры чему – учение Д.У. Пауэлла о кооперации как факторе эволюции и теория рекапитуляции умственного развития С. Холла (Stocking 1968: 234, passim.). Результаты (нео)ламаркизма амбиваленты: в СССР они знаменовали победу государства над рядом наук и наступление новой схоластики, в США не только стимулировали евгенические поиски, но и выбивали основание из-под старого плантационного расизма.
Во всем же остальном доля марксизма, востребованная российской антропологией того времени, сводилась к крайней форме однолинейной эволюции, не терпящей в своих схемах ни моногенеза, ни диффузии. Марксистского анализа было явно недостаточно даже в знаменитом классовом подходе. Чаще всего отечественные исследователи, исключая, возможно, Ю.П. Аверкиеву, которая пыталась обогатить теорию классообразования примерами рабства с Северо-западного побережья (Аверкиева 1961), ограничивались простой констатацией доклассового или классового состояния изучаемых обществ.
Но в 1960-е годы наметился “этноповорот”, в сущности, отступление от главного завоевания “героического” периода – антирасизма, в арсенале средств которого значилась борьба с так наз. национальными предрассудками (“Советская этнография <…> в какой-то момент восприняла как научную идею этноса и сделала существенный вклад в становление и расцвет местных национализмов” [Соколовский 2014: 158]). “Этносисты” (Э. Геллнер) начали повсюду теснить “примитивистов”. Любопытно, однако, что этнографы-американисты, в отличие, например, от кавказоведов, вплоть до последнего времени редко прибегали к этнической номенклатуре. Комбинации “тлинкитский этнос” или “этнос сиу” режут слух в сравнении со ставшими уже избитыми “грузинским этносом” и “этносами Северного Кавказа”.
Итак, научная повестка вполне в духе XIX в. оказалась чересчур долгоиграющей. Антисоветски настроенный Д. Шимкин в список официальных теорий, препятствующих “свободному развитию антропологии в СССР”, включал под № 1 “интерпретацию современной социальной организации в терминах пережитков различных эволюционных стадий Моргана” (Shimkin 1949: 622). Еще более хлестко выразился крупнейший историк российской науки, славист А. Вучинич: «Коротко, советская этнологическая теория <…> суть сочетание эволюционизма XIX в. и советского “патриотизма”» (Vucinic 1953: 110). Но даже антропологу Л. Крэйдеру – марксисту, сочувствовавшему СССР, было очевидно, что советская наука все еще отражала общие тренды европейской антропологии XIX – начала XX в. Наглядный пример – книга М.О. Косвена о первобытной культуре (Косвен 1957), имевшая “общую организацию и физический вид работ XIX в. на ту же тему, таких как тайлоровские” (Krader 1959: 155, 168–169). Дискуссия среди московских и ленинградских этнографов о материнском роде – одна из косвеновских тем – растянулась аж до 1970-х годов (см.: Семенов 1970; др.).
В то же время в советской науке представление о степени взаимосвязанности отдельных культурных элементов оставалось примерно таким же, как в XIX в., поэтому отечественная антропология дольше и отчетливее сохраняла допарадигмальное состояние, если за переход в новое качество принимать научное открытие культуры, как это делает Д. Стокинг (Stocking 1992: 342–361). Вклад, пусть и запоздалый, в разработку теории культуры – в самую антропологическую из теорий, смогла внести лишь чуть более свободная от партийного контроля национальная провинция: в конце 1960-х годов – Тарту, подаривший оригинальное лотмановское учение о семиосфере (Лотман 2010), а в начале 1980-х годов – Ереван, где уайтовской “культурологии”, т.е. опять-таки однолинейной эволюции, была привита концепция “культуры жизнеобеспечения” (Маркарян и др. 1983), основывающаяся, по признанию С.А. Арутюнова (устное сообщение), на культурной экологии Дж. Стюарда – ученика Р. Лоуи и А.Л. Крёбера.
Международное влияние этнографов из СССР, исповедовавших марксизм, ничтожно, если вообще когда-либо наблюдалось. В американских университетских кампусах до сих сохраняется популярность идей европейских марксистов (А. Грамши, Д. Лукача и др.) и русских немарксистских теоретиков (В.Я. Проппа, А.В. Чаянова, Л.С. Выготского). Как отмечал М. Харкин, марксистское учение оставило наименьший след именно там, где российские антропологи проводили свои полевые исследования и имеют собственные разработки (Harkin 1996: 8). Это при том, что, по крайней мере с 1960-х годов, отечественные ученые участвовали во многих значимых дискуссиях на темы, связанные с этими регионами, и труды их, прежде всего Ю.П. Аверкиевой, печатались на английском языке (см.: Averkieva 1966; др.).
В 1960-е – начале 1980-х годов на Западе как минимум трижды предпринимались масштабные попытки познакомить англоязычную аудиторию с переводами наиболее показательных советских работ по марксистской антропологии: в 1962 г. – появление журнала С. Данна Soviet Anthropology and Archeology (сегодня это Anthropology & Archaeology of Eurasia, который издает М. Балзер); в 1974 г. – выход двухтомной хрестоматии под редакцией С. и Э. Даннов, в которую были включены статьи и большие фрагменты из произведений 20 советских ученых – от Л.Я. Штернберга до Г.Г. Стратановича (Dunn S., Dunn E. 1974); и, наконец, в 1980 г. – когда увидела свет геллнеровская “Советская и западная антропология” (“Soviet and Western Anthropology”), куда вошли тексты ряда советских этнографов – не только Ю.П. Аверкиевой, но еще и Ю.И. Семенова, А.И. Першица, Ю.В. Бромлея, Л.М. Дробижевой, И.С. Кона, В.Н. Басилова, С.А. Арутюнова и В.И. Козлова (Gellner 1980). И что? Близкие марксизму российские и американские антропологи, двигавшиеся навстречу друг другу, неизменно проходили мимо, как в абсурдистской беккетовской постановке. В сборник С. Даймонда “К марксисткой антропологии” (Diamond 1979: 201–214) позвали Ю.В. Бромлея как главу советской “школы”, чтобы еще раз удостовериться, что ее представители пишут про первобытное общество ровно так, как ждут от них критики. Да марксистка Э. Ликок один раз сослалась на Ю.П. Аверкиеву в обзоре “Марксизм и антропология” (Leacock 1982: 265).
В 2020 г. в Институте русских и восточноевропейских исследований (REEI) Университета Индианы в Блумингтоне мне представилась возможность поприсутствовать на семинаре Б. Натанса из Пенсильванского университета. В небольшой классной комнате для “русских мероприятий” разговор шел в основном о большевистском решении национального вопроса. Участники демонстрировали виртуозное владение материалом, зная все то, чему учили нас на “истории КПСС” и “научном коммунизме” в советских вузах, и разбираясь в тонкостях различных “изводов” марксизма (ленинского, сталинского, бухаринского и проч.). На мероприятии собралось 15–20 академических “сектантов”, несмотря на то что в REEI традиционно в почете советология, что именитый гость – прекрасный специалист по русской истории и истории евреев, а с институтом аффилировано не менее полусотни историков, политологов, филологов и антропологов, что здесь реализуется специальная “еврейская программа” и – самое главное – в Индиане среди студентов и другой молодежи сотни, если не тысячи “леваков”. Все это наводит на мысль, что и в сегодняшней Америке, а не только в бывшем СССР – “стране победившего социализма”, под марксизмом понимается не столько научная теория, сколько что-то еще, определенно выходящее за стены академических аудиторий.
“Миф-история” советской этнографии
Во время Второй мировой войны контакты антропологов СССР с их коллегами из США, в том числе просоветски настроенными, практически полностью приостановились и возобновились лишь в хрущевскую оттепель. Советские этнографы, лишенные возможности поехать на Запад и увидеть все своими глазами, десятилетиями знакомились с достижениями зарубежных коллег через библиотечные коллекции, к тому же жестко лимитированные. Из-за эффекта узкого горлышка слабая осведомленность отечественной науки о том, что происходит в антропологии за океаном, приобрела хронические черты.
В мае 1932 г. Ю.П. Аверкиева (JA) задала Ф. Боасу (FB) наивный, но по-комсомольски нахальный вопрос: “Читала <…> Ваши книги, основные работы Крёбера и Лоуи. Меня просили сделать доклад о ведущих американских антропологах, и я выбрала Вас, потом Крёбера и Лоуи. Хотелось бы знать Ваше мнение, правильно ли выбраны последние двое?” (BPP: JA/FB 05.04.1932) Ее доклад вскоре опубликовала “Советская этнография”. Так складывался советский “миф-история” (Д. Стокинг) антропологии. Действительно, в тексте начинающей исследовательницы говорилось: “Крупнейшими представителями американской этнографии являются Боас, Кробер и Лоуи”. Два имени Ю.П. Аверкиева выделила особо: “Лесли Уайт, говорящий о закономерности нашей революции, Бернард Стерн, ставший на защиту Моргана” (Аверкиева 1932: 101). Фраза, призванная расставить все точки над и в идеологических распрях, достойна стать мемом: “…грубая метафизика дел прикрывается стыдливым агностицизмом слов, это и есть выражение высшей классовой мудрости буржуазной науки” (Там же: 101)! Видно, что автор начинающий, а редакция журнала излишне мягка в своих требованиях к нему: Музей Филда назван “Чикагским полевым музеем”, арапахо причислены к “племенам Калифорнии”. Вывод о том, что “индейцы Юго-Востока, Северо-Востока, плато и реки Мекензи изучены очень слабо” американскими специалистами, объясним только неинформированностью Ю.П. Аверкиевой! Ее искренне удивляло, как это Ф. Боас мог заключать, что “у целого ряда племен отцовская семья предшествовала роду вообще” (Там же: 99), а боасовцы из-за их антиэволюционизма заработали у нее ярлык “диффузионисты”.
В итоговой книге Ю.П. Аверкиевой “История теоретической мысли в американской этнографии” – единственном за весь советский период значительном исследовании по истории американской антропологии (так получилось, что первая и последняя работы исследовательницы посвящены одной и той же теме) – многие детали были прорисованы, а откровенные несуразности устранены. Сохранился, однако, исходный дуализм, к идейно близким ученым Ю.П. Аверкиева добавила представителей добоасовской американской этнологии: Д. Бринтона, ранних сотрудников Бюро американской этнологии, Ф.У. Патнэма и др., назвав их образно “учениками Моргана” (Аверкиева 1979: 46). (Если у Л.Г. Моргана и были настоящие ученики, то всего один – А. Бандельер.) Все это поколение представлялось автору более “прогрессивным”. При этом Ю.П. Аверкиева весьма причудливо прочертила генеалогические линии:
Не обоснованна <…> характеристика Бринтона в книге Стокинга как “догматика однолинейного эволюционизма”. Вернее видеть в нем предшественника культурного релятивизма. В целом можно считать, что историко-философские взгляды Бринтона отразили начало перехода американской этнографической мысли от историзма эволюционной школы к антиисторизму “исторической школы” (Там же: 57).
Кроме курьезного “Лесли Агнюс Уайт” (Там же: 198) (в действительности – Лесли Элвин), в текст затесалась еще одна неточность, но с далеко идущими последствиями. В стремлении добавить важности вкладу почти забытых на тот момент вашингтонцев Ю.П. Аверкиева попробовала обосновать их приоритет в открытии “культурных ареалов”. Будто бы настоящим автором концепции являлся О.Т. Мэйсон, он якобы сотрудничал с К. Уисслером и А.Л. Крёбером в АМЕИ и повлиял на них: «[П]оследние, к сожалению, не отдали должного признания Мэсону как пионеру в разработке концепции “культурного ареала”» (Там же: 60). Но О.Т. Мэйсон никогда там не работал… Трудно сказать, что заставило Ю.П. Аверкиеву сделать столь ошибочный вывод, возможно, ее сбило с толку то, что О.Т. Мэйсон окончил Колумбийский колледж (Hough 1908: 661). Но так в прежние времена назывался столичный Университет Джорджа Вашингтона, не имеющий ничего общего с нью-йоркским Колумбийским университетом, действительно тесно связанным с АМЕИ.
К сожалению, не подкрепленное фактами утверждение может оказаться вирусным: тот же сюжет о О.Т. Мэйсоне как уисслеровском “предшественнике по работе в Музее естественной истории (Нью-Йорк)” повторяет Л.С. Клейн (Клейн 2014: 325). Однако дело даже не в этом, а, так сказать, в способе наведения связей, “открытом” исследовательницей. И сейчас еще можно видеть, как российские историки науки в своих изысканиях достаточно произвольно устанавливают причинно-следственные отношения между интересующими их теориями и событиями, подменяя “контекст” “аналогиями”, “процесс” “последовательностью” и в итоге историзм как метод – презентизмом.
В 1963 г. в Америке ФБР было проведено расследование в отношении связей Марвина К. Оплера с компартией (Price 2004: 198–199). Ровно в тот же год в Москве был издан сборник “Современная американская этнография”, сигнализировавший начало выхода советской науки из глубокого подполья (Аверкиева, Ефимов 1963). В книге этот исследователь упомянут дважды: Ю.П. Аверкиевой как “Марвин Оплер” – “ученик и коллега Л. Уайта” (Там же: 95), и В.М. Бахтой как “М.К. Оплер” – ученый, статьи которого довольно часто появлялись тогда в англоязычных психологических и психиатрических журналах (Там же: 214). “Этнография в подобного рода работах, – сетовал В.М. Бахта, – если она там вообще имеется, буквально задавлена искусственными и надуманными схемами, созданными на базе наиболее модных в современной буржуазной науке психологических теорий” (Там же: 214). Вряд ли В.М. Бахта осознавал, что затрагивает авторитет настолько “прогрессивного” американского антрополога. Гораздо больше внимания авторы советского сборника уделили другому Оплеру – Моррису (родному брату Марвина), который зачем-то “выискивал”, в частности у Л. Уайта, марксистские идеи, для чего проштудировал Н.И. Бухарина, Г.В. Плеханова и других. Классовое чутье и на этот раз не подвело Ю.П. Аверкиеву, заметившую: “…Моррис Оплер переходит в прямое наступление, обвиняя своих критиков в марксизме, что в современных условиях аналогично обвинению в антиамериканской деятельности” (Там же: 96).
Кстати, через пятилетие сходную оценку деятельности Морриса Оплера выскажет М. Харрис (Harris 1968: 639). Советские ученые не могли заглянуть за “железный занавес”, чтобы узнать всю подноготную неординарного поведения антрополога, брат которого пострадал как коммунист. От них ускользнуло и то, что студентом Л. Уайта был Моррис (а не Марвин) Оплер, что кошка пробежала между учителем и учеником достаточно давно, что Моррис сам чуть не попал под аналогичное дознание Комиссии по расследованию неамериканской деятельности и дабы отмежеваться от Марвина вступил в прокси-войну, обрушившись на ученицу Л. Уайта Б. Меггерс, тоже “красную” (Price 2003) и что в ответ Л. Уайт применил другое, не менее летальное оружие – патриотизм и антисемитизм. Вот печально известная характеристика боасовцев, данная Л. Уайтом, признаваемым в СССР прогрессивным ученым:
Позвольте нам другой взгляд на Школу Боаса, маленькую, компактную группу ученых, которые собрались вокруг этого лидера. Самые ранние родились в основном за границей или были детьми иммигрантов. <…> Школа по определению имеет склонность быть закрытым обществом или группой. Крёбер рассказывает, как Джордж Эй. Дорси, прирожденный американец-нееврей и защитившийся в Гарварде, пробовал получить вход в эту избранную группу, но был отброшен <…>. Кларк Уисслер, также прирожденный американец-нееврей, являлся студентом Боаса <…>. Хотя многие работы Уисслера (например, его исследования черноногих) были подобны работам о племенах Великих равнин Лоуи, Крёбера и Спайера, он так никогда и не стал членом Школы. Устная традиция в американской антропологии настаивает на том, что столкновение личностей и темпераментов Боаса и Линтона послужило причиной того, что последний покинул Колумбию и переехал в Гарвард. <…> Боас игнорировал или недостаточно признавал американскую антропологию до 1900 года, несмотря на тот факт, что, по моему мнению, антропология была единственной наукой в девятнадцатом веке, в которой Соединенные Штаты были равны Европе, а я считаю, что и превосходили ее (White 1966: 26–28).
К сожалению, почти невозможно оценить, насколько образы советской этнографии искажены в представлениях по ту сторону океана. Хотя, учитывая то, как советскую действительность воспринимали американские антропологи “красного десятилетия”, ясно, что массу фантастического можно найти и там. Прежде всего, трудно сопоставима имеющаяся с обеих сторон литература. В Америке существуют чрезвычайно глубокие исследования А. Вучинича, посвященные развитию российской науки вообще, в том числе ее центральной институции – Академии наук, есть также нескольких обзоров состояния послевоенной советской этнографии, как, например, уже упоминавшиеся публикации Д. Шимкина и Л. Крэйдера. Но в США вообще не было опубликовано специальных больших работ, подобных аверкиевской “Истории теоретической мысли в американской этнографии”, в которых наряду с анализом этнографии в СССР предпринимались бы попытки описания профессиональной генеалогии на российских материалах – от основателей дисциплины до исследователей наших дней. Несовпадение форматов может быть неслучайным. Из-за более строгого соблюдения границ “научного” в США “устные истории” не могли подняться (или поднимались редко) “наверх” – в публикации выверенного, конвенционального знания. А. Вучинич иронизирует по поводу науковедческих построений советских этнографов, в особенности легкомысленного использования ими лейбла “школа”, даже если преемственность “учитель–ученик” совсем не очевидна (Vucinic 1953: 110). В таком случае, вполне возможно, отечественная антропология в глазах американских коллег выглядит действительно “мифологичнее”.
В начавшийся было диалог с российской стороны вовлеклась совсем незначительная группа специалистов, и сегодня можно сказать, что этот диалог не оказал заметного эффекта на широкую русскоязычную аудиторию. Как удалось установить М. Тэкс-Чолдин, специализирующейся на истории цензуры в России и СССР, номера журналов, публиковавших материалы советско-американских дискуссий, неизменно помещались у нас в специальные хранилища. Дело дошло до того, что сами дискуссанты просили вернуть им их авторские экземпляры. Например В.Р. Кабо с этой целью письменно обращался к заведующему спецхрана БАН, соглашаясь даже, чтобы запрещенные страницы попросту вырвали. В его случае, по всей вероятности, номер был изъят из-за статьи Э. Геллнера (“The Soviet and the Savage”) (Gellner 1975: 595–617) с длинным хвостом комментариев, как и полагалось в Current Anthropology (далее – CA) – журнале, который и задумывался С. Тэксом для свободного обмена мнениями между антропологами различных стран и субдисциплин.
По признанию М. Тэкс-Чолдин, дочери С. Тэкса, отца расстроило, что все его планы наладить подписку журнала среди советских коллег потерпели неудачу. Дальнейшее изучение ситуации с распространением СА в СССР позволило определить, что за 1970–1985 гг. у подписчиков (индивидуальных и институтов) были изъяты как минимум еще 13 номеров (Tax Choldin 1996: 130). Похоже, что цензоров и всех, кто за ними стоял, как и в прежние годы, настораживал сам факт нежелательных контактов советских граждан с заграницей. В черном списке оказались выпуски с публикациями Ю.В. Бромлея и О.И. Шкаратана об общем и особенном в историческом, этнографическом и социологическом исследованиях, С.А. Токарева, участвовавшего в обсуждении леви-стросовской методики, Л.А. Абрамяна – о символической теории Д. Шнайдера и т.д. Под запрет попадали номера СА со статьями как западных ученых, если в них затрагивались чуть более чувствительные темы, например состояние советской социологии, так и некоторых авторов из СССР (хотя отечественные исследователи публиковались в СА достаточно редко).
В дискуссии, посвященной 100-летию выхода “Древнего общества” Л.Г. Моргана, вероятно, из тактических соображений, советские этнографы не участвовали вместе со всеми (Р. Макариусом, Э. Личем, Мор. Оплером, Д. Шнайдером и др. – всего 20 человек), но зато там же, ниже, был помещен “официальный ответ” А.И. Першица. Из свободного доступа был исключен в том числе самый представительный с точки зрения перспектив международного сотрудничества номер, содержащий одновременно заметку боннца Р. Шотта “Еще о Марксе и Моргане” и критические замечания на различные публиковавшиеся в CA материалы В.И. Гуляева, С.Я. Серова, Б.В. Андрианова, Я.В. Чеснова, А.М. Хазанова и М.С. Великановой.
Забавно выглядела реакция И.Р. Григулевича и Е.А. Веселкина на провокационную, антиколониалистки заостренную статью С. Чилунгу: точка зрения этого автора “вполне понятна советским ученым”, но зачем же противопоставлять угнетенным чернокожим всех белых без разбору! Вызывает недоумение, писали рецензенты, когда С. Чилунгу утверждает, что “встретился с проявлениями этноцентризма не только в английской и американской, но и в советской науке”. Они напомнили, что среди “западных ученых” были и те, – К. Маркс, Ф. Энгельс, Л.Г. Морган и Н.Н. Миклухо-Маклай – кто осуждал колонизаторов.
Рассуждая о последствиях всех этих ограничений, необходимо остановиться еще на одной дискуссии в CA, произошедшей уже в постперестроечном 1998 г. В ней В.А. Тишков охарактеризовал российско-американский диалог как “неравный”, имея в виду, что антропология США в силу своего доминирования в мире выступает с позиции превосходства по отношению к бывшим советским этнографам и расценивает СССР преимущественно как новое поле (“бывший Советский Союз – многообещающий антропологический Эль-Дорадо” [Tishkov et al. 1998: 3]). Статья В.А. Тишкова также содержала намек на то, что многие американские коллеги плохо понимают национальную специфику, с которой сталкиваются, с чем отчасти можно согласиться. Эти утверждения парировали участвовавшие в обсуждении С.А. Кан, А.М. Хазанов, И.И. Крупник и Л. Плотников (“бывший Второй мир принимает положение Третьего мира” [Ibid: 10]). К высказанному тогда можно было бы добавить следующее: если это и неравный диалог, то первостепенную причину неравенства нужно искать не в предвзятости той стороны, а в последствиях роковой закрытости этой, что повторилось спустя десятилетия, когда оптимизм 1990-х годов улетучился.
В сравнении с многочисленными “внутренними”, вполне зрелыми и плодотворными историями отечественной антропологии представленная попытка вписать ее развитие в более широкий внешний контекст выглядит, вероятно, несовершенной. Остается без ответа вопрос об обратном российском влиянии на (пост)боасовскую повестку, если, конечно же, придерживаться оптики, заданной первой частью статьи, т.е. обращать внимание на “ризомы” (Р. Дарнелл) взаимности, а не просто на аналогичные концепты, теории и проч. Очевидно, что даже советская этнография, отчетливо противопоставленная западной идеологически, вовсе не находилась в безвоздушном пространстве, как очевидно и то, что все крупное, значимое, что в ней происходило, нельзя свести лишь к заимствованиям.
Источники и материалы
СПбФ АРАН – Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук. Ф. 250. Оп. 4. Д. 237.
BFP – Boas Family Papers. American Philosophical Society (Archive).
BPP – Boas Professional Papers. American Philosophical Society (Archive).
Примечания
1 Kwakwaka’wakw, т.е. “говорящие на [яз.] кваквала”; устар. квакиутль.
2 Сам он предрекал неизбежное разбегание всех четырех областей антропологии (Боас 2002: 95), что в конце концов и произойдет в той или иной мере не только в СССР, но и в США.
3 Не в последнюю очередь благодаря дочери Ф.Г. Добржанского – антропологу Софии Добржанской-Ко, вышедшей замуж за крупного майяниста М. Ко. Американская антропология узнала о прорыве в дешифровке письменности майя, осуществленном невыездным сотрудником МАЭ Ю.В. Кнорозовым, именно благодаря Софии (она перевела книгу Ю.В. Кнорозова на английский язык).
4 Последнее снова возвращает нас к проблеме влияния боасовской антропологии на российскую, тем более если принимать во внимание подмеченный еще Э. Эванс-Причардом разрыв между теорией Л. Уайта и его полевой этнографией (Эванс-Причард 2003: 250), добавим, остающейся, по-прежнему, вполне боасовской.
5 Эти статьи были опубликованы в следующих номерах журнала Current Anthropology соответственно: 1972. Vol. 13. P. 569–574; 1975. Vol. 16. P. 207–226; 1980. Vol. 21. P. 255–256.
6 См.: Current Anthropology. 1977. Vol. 18. P. 709–729, 731–735.
7 См.: Current Anthropology. 1976. Vol. 17. P. 731–734, 742–744, 756, 756–757, 758–759.
8 См.: Current Anthropology. 1976. Vol. 17. P. 734–738.
Авторлар туралы
Igor Kuznetsov
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences; Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: igorkuznet@gmail.com
к. и. н., старший научный сотрудник
Ресей, 1 bld. 1 Bolshoy Kislovsky Lane, Moscow, 125009; 32a Leninsky prospect, Moscow, 119991Әдебиет тізімі
- Adams, M., ed. 1994. The Evolution of Theodosius Dobzhansky: Essays on His Life and Thought in Russia and America. Princeton: Princeton University Press.
- Arziutov, D.V, S.S. Alymov, and D. Anderson, eds. 2014. Ot klassikov k marksizmu: soveshchanie etnografov Moskvy i Leningrada (5–11 aprelia 1929 g.) [From Classics to Marxism: The Meeting of Moscow and Leningrad Ethnographers (April 5–11, 1929)]. St. Petersburg: MAE RAN.
- Averkieva, J.P. 1932. Sovremennaia amerikanskaia etnografiia [Contemporary American Ethnography]. Sovetskaia etnografiia 2: 97–102.
- Averkieva, J.P. 1961. Razlozhenie rodovoi obshchiny i formirovanie ranneklassovykh otnoshenii v obshchestve indeitsev severo-zapadnogo poberezh’ia Severnoi Ameriki [The Stratification of the Clan and the Formation of Early Class Relations in the Northwest Coast Indians Society]. Moscow: AN SSSR.
- Averkieva, J. 1966. Slavery among the Indians of North America, translated by G.R. Eliot. Victoria: Victoria College.
- Averkieva, J.P. 1979. Istoriia teoreticheskoi mysli v amerikanskoi etnografii [History of Theoretical Thought in American Ethnography]. Moscow: Nauka.
- Averkieva, J., and A. Efimov, eds. 1963. Sovremennaia amerikanskaia etnografiia. Teoreticheskie napravleniia i tendentsii [Contemporary American Ethnography: Theoretical Trends and Tendencies]. Moscow: AN SSSR.
- Boas, F. 1929. Classification of American Indian Languages. Language 5: 1–7.
- Boas, F. 2002. Istoriia antropologii [History of Anthropology]. Etnograficheskoe obozrenie 6: 86–96.
- Borodai, S.Y. 2020. Yazyk i poznanie: vvedenie v postreliativizm [Language and Cognition: An Introduction to Post-Relativism]. Moscow: Sadra; YaSK.
- Cole, D. 1999. Franz Boas: The Early Years, 1858–1906. Seattle: University of Washington Press.
- Darnell, R., et al. 2023. Kriticheskaia paradigma dlia istorii antropologii: k kharakteristikam perenosimogo znaniia [A Critical Paradigm for the Histories of Anthropology: The Generalization of Transportable Knowledge]. Etnograficheskoe obozrenie 4: 108–182.
- Diamond, S., ed. 1979. Toward a Marxist Anthropology: Problems and Perspectives, edited by S. Diamond. New York: Mouton Publishers.
- Dobzhansky, T. 1973. Genetic Diversity and Human Equality. New York: Basic Books.
- Drucker, P. 1970. Boas in the Field. A Review of The Ethnography of Franz Boas: Letters and Diaries of Franz Boas Written on the Northwest Coast from 1886 to 1931, edited by R. Rohner. Science 168: 704–706.
- Dunn, S., and E. Dunn, eds. 1974. Introduction to Soviet Ethnography in 2 vols., edited by S. Dunn and E. Dunn. Berkeley: Highgate Road.
- Evans-Pritchard, E. 2003. Istoriia antropologicheskoi mysli [A History of Anthropological Thought]. Moscow: Vostochnaia literatura.
- Gagen-Torn, N.I. 1971. Leningradskaia etnograficheskaia shkola v dvadtsatye gody (u istokov sovetskoi etnografii) [Leningrad School of Ethnography in the 1920s (At the Origins of Soviet Ethnography)]. Sovetskaia etnografiia 2: 134–145.
- Gellner, E. 1975. The Soviet and the Savage. Current Anthropology 16: 595–617.
- Gellner, E., ed. 1980. Soviet and Western Anthropology. London: Duckworth.
- Harkin, M. 1996. Past Presence: Conceptions of History in Northwest Coast Studies. Arctic Anthropology 33: 1–15.
- Harris, M. 1968. The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Culture. New York: Th.Y. Crowell Co.
- Hough, W. 1908. Otis Tuffon Mason. American Anthropologist 10: 661–667.
- Hyatt, M. 1990. Franz Boas, Social Activist: The Dynamics of Ethnicity. New York: Greenwood Press.
- Kan, S. 2007. “Moi drug v tupike empirizma i skepsisa”: Vladimir Bogoraz, Frants Boas i politicheskii kontekst sovetskoi etnologii v kontse 1920-x – nachale 1930-kh gg. [“My Friend is at the Dead End of Empiricism and Skepticism”: Vladimir Bogoraz, Franz Boas, and the Political Context of Soviet Ethnology in the Late 1920s – Early 1930s]. Antropologicheskii forum 7: 191–230.
- Kan, S. 2023. Lev Shternberg: Etnolog, narodnik, borets za prava evreev [Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist]. St. Petersburg: Bibliorossika.
- Klein, L.S. 2014. Istoriia antropologicheskikh uchenii [History of Anthropological Teachings]. St. Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta.
- Kosven, M.O. 1957. Ocherki istorii pervobytnoi kul’tury [Essays on the History of Primitive Culture]. Moscow: AN SSSR.
- Krader, L. 1959. Recent Trends in Soviet Anthropology. Biennial Review of Anthropology l (1): 155–184.
- Krupnik, I. 1998. Jesup Genealogy: Intellectual Partnership and Russian-American Cooperation in Arctic/North Pacific Anthropology. Pt. I, From the Jesup Expedition to the Cold War, 1897–1948. Arctic Anthropology 35: 199–226.
- Kuznetsov, I.V. 2018. “Posledniaia ekspeditsiia” (iz istorii russko-amerikanskogo sotrudnichestva v izuchenii korennykh malochislennykh narodov) [The “Last Expedition” (From the History of US-Russian Collaboration in the Study of Indigenous Peoples)]. Etnograficheskoe obozrenie 3: 53–69.
- Kuznetsov, I.V. 2020. “Prosto molodoi turist v nashei strane”: lingvist i antropolog nez-pers Archi Finni [“Just A Young Tourist in Our Country”: Archie Phinney, a Nez Perce Linguistic Anthropologist]. Antropologicheskii forum 47: 53–83.
- Leacock, E. 1982. Marxism and Anthropology. In The Left Academy: Marxist Scholarship on American Campuses, edited by B. Ollman and E. Vernoff, 242–276. New York: McGraw-Hill Book Co.
- Lotman, Y.M. 2010. Semiosfera [Semio-Sphere]. St. Petersburg: Iskusstvo–SPB.
- Lowie, R. 1937. The History of Ethnological Theory. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Markarian, E., et al. 1983. Kul’tura zhizneobespecheniia i etnos. Opyt etno-kul’turologicheskogo issledovaniia (na materialakh armianskoi sel’skoi kul’tury) [Life-Sustaining Culture and Ethnos: The Experience of Ethno-Culturological Study (On the Material of Armenian Rural Culture)]. Erevan: AN ArmSSR.
- Pika, A.I. 1989. Novye materialy k istorii pervoi sovetskoi etnograficheskoi ekspeditsii na p-ov Yamal (1928–1929 gg.) [New Data on the History of the 1st Soviet Ethnographic Expedition to the Yamal Peninsula (1928–1929)]. Sovetskaia etnografiia 6: 100–108.
- Price, D. 2003. Un-American Anthropological Thought: The Opler-Meggers Exchange. Journal of Anthropological Research 59 (2): 183–203.
- Price, D. 2004. Threatening Anthropology: McCarthyism and the FBI’s Surveillance of Activist Anthropologists. Durham: Duke University Press.
- Richards, C. 1967. Huron and Iroquois Residence Patterns 1600–1650. In Iroquois Culture, History and Prehistory: Proceedings of the 1965 Conference on Iroquois Research, edited by E. Tooker, 51–56. Albany: University of the State of New York.
- Rohner, R., ed. 1969. The Ethnography of Franz Boas: Letters and Diaries of Franz Boas Written on the Northwest Coast From 1886 to 1931. Chicago: University of Chicago Press.
- Semenov, Y.I. 1970. Problema perekhoda ot materinskogo roda k ottsovskomu (opyt teoreticheskogo analiza) [The Problem of the Transition from Matrilineal to Patrilineal Clan (A Case of Theoretical Analysis)]. Sovetskaia etnografiia 5: 57–71.
- Shimkin, D. 1949. Recent Trends in Soviet Anthropology. American Anthropologist 51: 621–625.
- Sokolovskiy, S. 2014. Gumanitarnaia nauchnaia distsiplina: remeslo, yazykovaia igra, forma zhizni ili manera pis’ma? [Humanities: Art, Language Game, Form of Life or Writing Style?]. Antropologicheskii forum 19: 155–160.
- Solovei, T.D. 2001. “Korennoi perelom” v otechestvennoi etnografii (diskussiia o predmete etnologicheskoi nauki: konets 1920-kh – nachalo 1930-kh godov) [“A Radical Turn” in Our Domestic Ethnography (On the Object of Ethnological Science: Late 1920’s – Early 1930’s)]. Etnograficheskoe obozrenie 3: 101–121.
- Stocking, G. 1968. Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology. New York: Free Press.
- Stocking, G. 1992. The Ethnographer’s Magic and Other Essays in the History of Anthropology. Madison: University of Wisconsin Press.
- Swadesh, M. 2012. Sotsiologicheskie zametki o yazykakh, vykhodiashchikh iz upotrebleniia [Sociologic Notes on Obsolescent Languages]. In Sotsiolingvistika i sotsiologiia yazyka. Khrestomatiia [Sociolinguistics and Sociology of Language, a Reader], edited by N.B. Bakhtin, 29–42. St. Petersburg: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta.
- Tax Choldin, M. 1996. CA and Soviet Censorship: An Interrupted Conversation with My Father. Current Anthropology 37 (1): S129–S130. https://doi.org/10.1086/204465
- Tishkov, V.A., et al. 1998. U.S. and Russian Anthropology: Unequal Dialogue in a Time of Transition (and Comments and Reply). Current Anthropology 39 (1): 1–17.
- Vakhtin, N.B. 2005. Tikhookeanskaia ekspeditsiia Dzhesupa i ee russkie uchastniki [Jesup Pacific Expedition and Its Russian Participants]. Antropologicheskii forum 2: 241–274.
- Vucinich, A. 1953. Review of Anglo-amerikanskaia etnografiia na sluzhbe imperializma [Anglo-American Ethnography in the Service of Imperialism], by I.I. Potekhin. American Anthropologist 55: 110.
- White, L. 1966. Social Organization of Ethnological Theory. Houston: William Marsh Rice University.
Қосымша файлдар