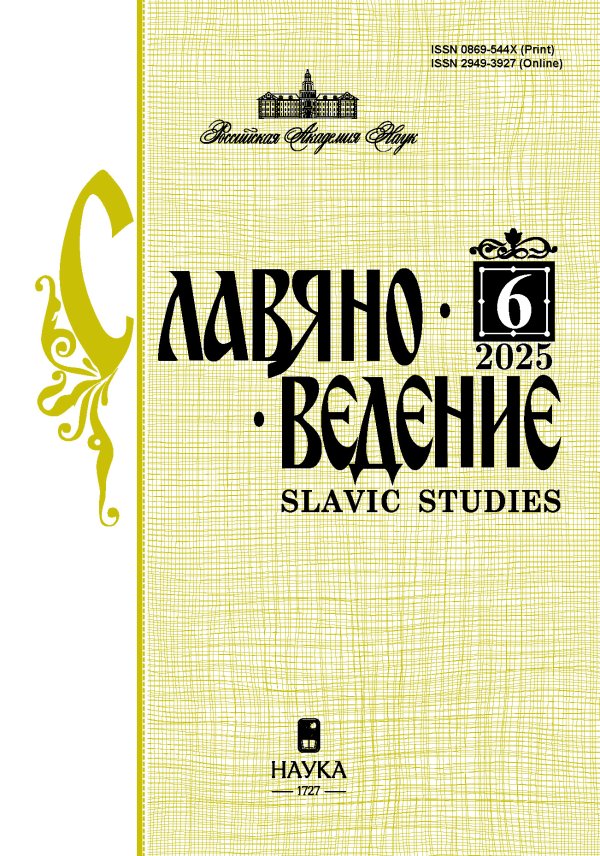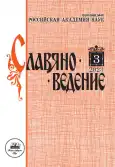Warsaw Court of the Viceroy of the Kingdom of Poland Grand Duke Konstantin Nikolaevich. 1862–1863
- Authors: Dziubinskii I.R.1
-
Affiliations:
- National Research University
- Issue: No 3 (2023)
- Pages: 5-22
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/128702
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X0025869-8
- ID: 128702
Full Text
Abstract
Grand Duke Konstantin Nikolaevich (1827–1892) was the governor of the Kingdom of Poland from June 1862 to October 1863, that is, on the eve and during the Polish uprising. Despite the high degree of knowledge of this crisis period in the history of Russian-Polish relations, the Warsaw Grand Duke’s court remained outside the research focus of historians.The court of the Grand Duke-viceroy was a unique space where symbolic relations between the dynasty and the subjects were built. In Warsaw Konstantin Nikolaevich implemented his own «scenario of power». The key ceremonial mode was the image of the unity of the empire. The viceroy faced difficulties in finding Polish courtiers loyal to the empire and widely involved his subordinates from the Naval Ministry.Based on a wide range of documents from the GA RF, OR RGB, OR RNB, RGIA, RGA VMF and sources of personal origin, the genesis and functioning of the court of the Grand Duke, as well as the everyday life of the august family in several Warsaw residences are considered. The introduction of new sources into scientific circulation made it possible to establish the circle of courtiers, the financial support of the court and practices peculiar for the court. Despite the long absence of the emperor’s brother in the northern capital, the main function of maintaining his state activity continued to be executed by the staff of the Marble Palace.
Full Text
Двор являлся центральным звеном монархической системы. Как большой императорский двор, так и великокняжеские дворы были уникальным пространством для политической и культурной интеграции представителей различных народов Российской империи, площадкой для утверждения величины дистанции между династией и подданными. Будучи государственным институтом, двор выполнял важную миссию по сопровождению деятельности представителей Дома Романовых на служебном поприще и в общественно-культурной сфере. Поэтому его можно исследовать с точки зрения канцелярских практик и рассматривать с позиций потестарной имагологии, сосредоточившись на символических аспектах отношений господства и подчинения, позиционировании власти и изучении ее образов [5]. Проблематика королевского двора в контексте Западной и Центральной Европы периода Средних веков поднималась в ряде монографий под редакцией Н.А. Хачатурян [11; 17].Сценарии осуществления власти разрабатывали не только монархи, но и другие представители правящей династии. Обращение к этим сценариям делает важным уортмановский поворот (Wortmanian turn). «Не было ли так, – поставил вопрос М.Д. Долбилов, – что церемониймейстерами при русском дворе являлись “все и никтоˮ, все понемногу, все люди, входившие в ближайшее окружение монарха и имевшие возможность вносить свой вклад в процесс и акт репрезентации?» [1. C. 53].Несмотря на ключевое значение двора в Российской империи, исследователи не обращали специального внимания на его формирование. Сравнительно недавно обозначился интерес к различным аспектам истории «малых» великокняжеских дворов Дома Романовых, получивших распространение в царствование Николая I.В статье О.В. Новиковой, посвященной подготовке двора великого князя Константина Николаевича к коронации Александра III, в первую очередь рассмотрена организация торжеств, тогда как придворные остались на втором плане. Отмечается лишь, что «большие серебряные коронационные медали получили и чины двора великого князя Константина Николаевича – действительный статский советник И.А. Грейг, генерал-майор А.А. Киреев и подполковник П.Е. Кеппен» [19. C. 188].В статье Г.Н. Корневой и Т.Н. Чебоксаровой исследованы великокняжеская дворцовая служба, структура и функционирование ведомства, понятия «политическое» и «статусное» применительно ко двору великого князя Владимира Александровича. Согласно авторам, «любой великокняжеский двор – это не просто случайное соединение в той или иной мере ярких, активных, талантливых личностей, это сложный организм, в действиях которого отражались цели, стремления, воля и характер представителя семьи Романовых, которому этот двор принадлежал» [16. C. 209].Издан с предисловием публикаторов дневник княжны С.Л. Шаховской, отразивший повседневную жизнь двора московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича в начале XX в.1 Д.М. Софьин и М.В. Софьина написали ряд статей, посвященных различным аспектам дневниковых записей великих князей Сергея Александровича и Георгия Михайловича [23‒25].Поскольку речь в данной статье идет о периоде наместничества Константина Николаевича в Царстве Польском, важным представляются проблемы лояльности элиты национальной окраины имперскому центру и репрезентации миссии наместника. Однако в работах таких исследователей, как И. Кобердова [32], С. Кеневич [30], М. Штадельман [34], Я. Кипп [31], Э. Каррер д’Анкосс [28], М. Рольф [20], А.П. Шевырев [26‒27], Л.В. Завьялова и К.В. Орлов [12], В.Е. Воронин [6‒7] нет предметного фокуса на исследовании структуры и повседневных практик варшавского двора. «Назначение наместником великого князя Константина Николаевича, известного своими либеральными идеями, – написала Э. Каррер д’Анкосс, – было недостаточным, чтобы успокоить умы, и пара, образованная вице-королем и личным представителем императора, несмотря на очевидное стремление выйти из тупика власти, стала беспомощным свидетелем неудержимого подъема восстания, охватившего все общество» [28. C. 322].Управленческий тандем, о котором идет речь, состоял из великого князя Константина Николаевича и польского аристократа маркиза А. Велёпольского. Д.А. Милютин свидетельствовал в воспоминаниях, что больше всех в Петербурге поддались «чарам» Велёпольского Константин Николаевич, А.М. Горчаков, В.А. Долгоруков и П.А. Валуев. «Его уверенность в себе, логическая последовательность его планов, – отметил Милютин, – явились чем-то новым для наших государственных деятелей, привыкших к неопределенности и бесцветности нашей канцелярской деятельности. Я позволю себе употребить иностранное выражение – маркиз “импонировалˮ нашим государственным деятелям» 2.Согласно анонимной записке, хранящейся в ОР РНБ, «мысли Велёпольского были приняты, и так как он не соглашался подчиниться в Варшаве русскому начальнику войск, а невозможно было подчинить ему русского генерала, то и явилось предположение отправить в Варшаву члена императорской фамилии, которому оба начальника, военный и гражданский, были бы равно подведомственны. […] Великий князь Константин Николаевич был назначен наместником с явной целью служить живым доказательством благих намерений государя императора, с поручением удостоверить поляков фактами в доброжелательном к ним государя отношении и с назначением: 1. Всемерно содействовать Велёпольскому в осуществлении его предположений, 2. Привлекать сколь можно более поляков в администрацию, и 3. Устранять всякие столкновения русских с поляками. Умиротворить край мерами кроткими и служить органом милостей царских»3.Кротость эта имела двойственный результат. По свидетельству адъютанта великого князя Д.С. Арсеньева, «русскому в это время было очень тяжело жить в Варшаве […]. А наместник продолжал уважать легальность: не трогали костелов и монастырей, где среди Варшавы и заведомо всем организовались все революционные деяния, устраивались склады оружия, сборища и т.п. Все русские были в большом унынии, а мы, состоявшие при великом князе, сердечно о нем жалели и недоумевали»4.Назначение Константина Николаевича наместником Царства Польского нельзя назвать хорошо спланированной политической акцией, если не принимать во внимание того, что политические противники великого князя немало этому способствовали. «Враги Константина Николаевича, – указал П.В. Долгоруков, – рассчитывали, что на этом невозможном месте он и перессорится с людьми либеральных мнений и вместе с тем докажет, до какой степени общественное мнение впадало в ошибку, считая его человеком отменно способным»5. Внук Константина Николаевича великий князь Гавриил Константинович писал, что «в 1862 г. дед был назначен наместником Царства Польского. Император Александр II первоначально хотел назначить своего младшего брата, великого князя Михаила Николаевича, но последний уклонялся, мой же пылкий и увлекающийся дед, наоборот, хотел этого. Оба брата поговорили с государем, и государь согласился назначить в Польшу моего деда»6.Практически до самого отъезда в Варшаву Константин Николаевич продолжал активно заниматься делами в Государственном совете, Морском министерстве, общественных и научных организациях. От высочайшего указа о новом назначении до отправки личных вещей великого князя в Царство Польское не прошло и недели.Великокняжеский двор Константина Николаевича стал одним из первых «малых» дворов в Российской империи, созданных для детей императора Николая I. Проект его штата, составленный в Министерстве императорского двора и уделов, был высочайше утвержден 30 августа 1848 г. Речь шла о функционировании основной резиденции в Петербурге (Мраморный дворец) и нескольких дворцово-парковых ансамблей в окрестностях столицы.О создании и деятельности варшавского двора великого князя можно судить по делопроизводственным документам, в том числе переписке между придворными конторами7 и подразделениями Министерства императорского двора и уделов, финансовой документации великокняжеских контор в Петербурге и Варшаве, статистическим данным, адрес-календарям, а также источникам личного происхождения.Проекты придворной конторы и штата для варшавского двора были разработаны и поданы на высочайшее утверждение обер-гофмейстером графом М.И. Хрептовичем лишь в марте 1863 г., спустя десять месяцев с момента назначения великого князя наместником.Из переписки с канцелярией Министерства императорского двора и уделов следует, что при формировании штата учитывалось мнение великого князя и «испрашивалось назначение» дополнительных придворных чинов. Так, в рапорте от 27 февраля 1863 г. обер-гофмейстер ходатайствовал о включении в штат шталмейстера, помощника управляющего двором в чине гофмейстера, первого и второго церемониймейстеров8. В последовавшем 9 марта ответе 4-го отделения канцелярии Министерства императорского двора и уделов сообщалось: «Что же касается церемониймейстеров, то его величеству угодно, чтобы они были командированы в Варшаву от высочайшего двора, без подразделения их при том на первого и второго»9.Министерство осведомлялось, «угодно ли его императорскому высочеству, чтобы князь Феликс Огинский (вице-референдарий канцелярии Государственного совета Царства Польского) был назначен прямо церемониймейстером, что присвояет чин статского советника, а также кому его высочество предполагает предоставить остальные вновь учреждаемые должности»10. Согласно составленному в мае отношению в канцелярию министерства, Константин Николаевич определил казначеем Собинского, бухгалтером Адольфа Пивницкого, столоначальником губернского секретаря Глазунова, писцом Владислава Довяковского – чиновника для писем по инспекторской части варшавского обер-полицмейстера11. Заведующим канцелярией великого князя был назначен Юлиуш Тенгоборский, по аттестации архиепископа З. Фелиньского, «поляк того же рода, что и Хрептович; воспитывался в Петербурге полностью обрусевшим отцом»12. Долгое время он служил атташе в Дании13. «Из подчиненных чиновников двора, – писал Фелиньский, – один только был поляк, Собаньский, из наиболее захудалой ветви этого семейства, который также не имел никакого политического влияния»14.«Список высших чиновников и сановных лиц Царства Польского», составленный не позднее 1863 г.15, является единственным официальным опубликованным документом, в котором содержатся сведения о придворных чинах высшего разряда варшавского двора. Список зафиксировал двоякую репрезентацию Дома Романовых на польских землях. Во-первых, в Варшаве на постоянной основе находился императорский двор, включавший 17 лиц, в большинстве этнических поляков. Во-вторых, там же функционировал двор великого князя Константина Николаевича и его супруги великой княгини Александры Иосифовны, в котором числилось 25 служащих обоих полов, включая 18 адъютантов великого князя16. «Живший во дворце великий князь, – писала графиня М.Э. Клейнмихель, – был окружен блестящей свитой, особенно подчеркивавшей значение наместничества»17. При этом в период пребывания Константина Николаевича в Варшаве основной резиденцией оставался Мраморный дворец в Петербурге, где текущие нужды брата императора продолжала обслуживать его канцелярия.В число чинов высшего разряда двора Константина Николаевича в Варшаве входили обер-гофмейстер граф М.И. Хрептович18, имевший тот же статус в штате императорского двора в Варшаве; его жена графиня Е.К. Хрептович, урожденная Нессельроде; фрейлины графиня А.Е. Комаровская и баронесса Рантзау (Ранцау); лейб-хирург тайный советник И.С. Гауровиц; гофмейстер Д.Н. Набоков19, имевший тот же статус в штате императорского двора в Варшаве; камер-юнкер А.М. Пенхержевский20. Адъютантами великого князя являлись полковник О.А. Сержпутовский, князь Л.А. Ухтомский, капитан Д.С. Арсеньев, капитан Н.И. Казнаков, капитан А.А. Киреев, граф Е.Е. Комаровский, барон Э.А. Рамзай, капитан 2-го ранга Ф.В. Сарычев, капитан-лейтенант барон Р.А. Мирбах, начальник штаба А. Вжесневский, заместитель начальника штаба Кучинский, обер-полицмейстер Варшавы21 подполковник С.С. Муханов, полковник Султан Адиль-Гирей, майор Санхисов, а также Михайлов, Собаньский и Пивницкий22.Большое количество придворных являлись поляками и уроженцами западных окраин Российской империи23. Таким образом подчеркивалось внимание к польскому краю. Привлечение местных кадров открывало для польских подданных карьерные возможности и было призвано укрепить политическую лояльность региональной элиты [29; 10; 3; 34; 13; 18; 7; 4]. «Великий князь Константин, – писала И. Кобердова, – начал комплектовать свой двор, стараясь выбирать людей польского происхождения» [32. C. 58].В других официальных документах сведения о варшавском дворе Константина Николаевича как самостоятельном институте отсутствуют. Речь идет в первую очередь об адрес-календарях за 1862‒1864 гг., где можно обнаружить только информацию по Главному управлению Царства Польского и сведения о ряде придворных без указания на их причастность ко двору. Например, в адрес-календаре за 1863‒1864 гг. в разделе о Министерстве иностранных дел указывается, что «в ведомстве по министерству» состоит обер-гофмейстер граф М.И. Хрептович24.Факт отсутствия в адрес-календарях упоминаний о варшавском дворе великого князя представляется следствием неоперативности составителей. В одном из дел фонда придворной конторы великой княгини Александры Иосифовны мной обнаружено два важных списка. Первый из них содержит 19 фамилий лиц, состоящих при дворе Константина Николаевича и указываемых в придворном календаре25. Второй список включает фамилии 32 человек, подлежащих внесению в адрес-календарь за 1864 г.26 Можно предположить, что отсутствие лиц, представленных в этих двух списках, в официальной общеимперской росписи чиновников связано с неудачей миссии Константина Николаевича в Царстве Польском.Отсутствует информация о варшавском дворе и в справочнике высших и центральных государственных учреждений России 1801–1917 гг., где лишь указывается, что придворная контора великого князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны существовала с 1848 г. по 23 июня 1912 г. [8. C. 197].Подтверждением сведений «Списка высших чиновников и сановных лиц Царства Польского» о существовании в Варшаве великокняжеского двора служат воспоминания католического архиепископа варшавского в 1862–1864 гг. З. Фелиньского, деятельность которого активно обсуждалась в переписке между Александрой Иосифовной и императрицей Марией Александровной27. На нескольких страницах28 архиепископ весьма выразительно описал сложности формирования варшавского двора: «Не меньше трудностей имел великий князь с комплектованием своего двора и свиты. В принципе, он желал окружить себя одними поляками; когда же дело дошло до исполнения, то план потерпел крушение за неимением людей, поскольку все, кто занимал независимую позицию, уклонялись от принятия придворных обязанностей ввиду грозящего восстания»29.Однако уклонение от службы при великокняжеском дворе было не единственным вариантом поведения. Об этом свидетельствует приложенная к письму Константина Николаевича Александру II 3 апреля 1863 г. копия записки генерал-лейтенанта М.Н. Анненкова. Как сообщалось в этой составленной 20 марта 1863 г. с грифом «весьма секретно» записке, «служащий на Гатчинской станции Варшавской железной дороги – поляк Щетинский, познакомился с помещицей Царскосельского уезда баронессою Корф [...]. Зять баронессы – тайный советник Набоков, состоит при его высочестве великом князе Константине Николаевиче; г. Щетинский, знав все это, достиг незаметным образом знакомства с баронессой и через ее протекцию успел определить родственника своего, закоснелого поляка, смотрителем замка, где живет его высочество, через которого Щетинский получает все сведения о делах в Польше, даже знает некоторые и секретные распоряжения его высочества»30.З. Фелиньский характеризовал М.И. Хрептовича как «поляка по происхождению и религии, но не умеющего даже изъясняться по-польски. Проведя всю свою жизнь в дипломатии, как в Петербурге, так и за границей, он не имел ничего общего со страной, потребности которой даже не были ему известны. Поэтому он никак не мог стать звеном, связывающим династию с народом. Это был чистокровный петербургский двор и притом – николаевского времени»31.Характеризуя мужскую часть великокняжеского двора, З. Фелиньский подробно остановился на национальной идентичности придворных, их происхождении и карьерах, в том числе в столице империи. Дамская часть, по оценке архиепископа, «отличалась поразительной нищетой»32. В ее составе он назвал маркизу П. Велёпольскую, М.Э. Келлер (Клейнмихель), «уже дряхлую» графиню Р. Ржевускую (урожденную княжну Любомирскую), графиню Е.К. Хрептович и графиню А.Е. Комаровскую. В мемуарах графиня Клейнмихель сообщила дополнительную информацию: «Придворными дамами были графиня Комаровская и госпожа Бибикова, впоследствии княгиня Крапоткина (так в источнике. – Я.Д.), для замещения которой, спустя некоторое время, была назначена я […]. Обер-гофмейстериной великой княгини была вдова адмирала Лазарева»33. Фелиньский заключил, что «фон […] картины надо было заполнить фигурантками, взятыми в низших военных и чиновничьих сферах, что безмерно унижало великую княгиню»34.О камерности варшавского двора Константина Николаевича также позволяют говорить финансовые документы придворных контор. Выплаты жалованья производились из средств великого князя, получаемых им по должности наместника, что подтверждает переписка министра императорского двора и обер-гофмейстера великокняжеского двора в Варшаве. 9 марта 1863 г. из 4-го отделения канцелярии Министерства императорского двора и уделов проект штата придворной конторы поступил «для исходатайствования высочайшего соизволения как на утверждение сего штата, так и на производство исчисленных по оному на содержание той конторы 3992 р. из удельных сумм»35. М.И. Хрептович 28 марта сообщил, что Константин Николаевич «соизволил производить указанную сумму по выплатам из собственных сумм его, при том, что как наместнику в Царстве Польском, ему из сумм ведомства выделяется 100 тыс. руб.»36.На финансирование штата Мраморного дворца в 1868 г. придворной конторе было выделено 62 310,94 руб., а вместе со штатом Стрельнинского (Константиновского) дворца сумма вырастала до 95 011,53 руб. Следовательно, расходы в Царстве Польском были гораздо скромнее столичных.Помимо чинов высшего разряда варшавский двор располагал многочисленным вспомогательным персоналом, насчитывающем более семидесяти человек, о чем свидетельствуют счет за поездку37 и проездные железнодорожные билеты «для людей двора Константина Николаевича» за февраль 1864 г., когда имущество и служащие покидали Варшаву38.Повседневная жизнь двора Константина Николаевича складывалась с той же стремительностью, с какой принималось решение о назначении великого князя наместником. Великокняжеская чета привезла из северной столицы свой стиль и уклад жизни. Однако в первые месяцы ее пребывания в Варшаве потребовалось много усилий для обустройства резиденций, где проходили приемы, позиционирующие власть.Вторая половина мая и июнь 1862 г. – время наиболее интенсивного перемещения людей и вещей из Мраморного дворца в Варшаву. Занятия музыкой и искусствами всячески приветствовались в семье Константина Николаевича, поэтому неудивительно, что в числе первых предметов в дворец Бельведер прибыло фортепиано. Произошло это 14 июня 1862 г., о чем свидетельствует сопроводительное письмо управляющего придворной конторой надворного советника А. Клема в контору императорских дворцов Лазенки и Бельведер с квитанцией компании «Надежда». Документы великого князя с необходимой для его кабинета мебелью были запечатаны в Петербурге только 16 июня.Сохранилась переписка за июль – август 1862 г. между придворными конторами Варшавы и Петербурга, а также с канцелярией санкт-петербургского военного генерал-губернатора. Согласно документам, Константин Николаевич велел архитектору коллежскому асессору И.Я. Потолову, состоявшему при дворе великого князя и городовом правлении Павловска, на месяц приехать в Варшаву39.10 сентября 1862 г. А. Клем писал управляющему городом Павловск: «Государыня великая княгиня Александра Иосифовна изволила возложить на вас исполнение в самом скорейшем времени:Приказать обойщику Кригеру сделать выкройки со всей мебели, находящейся в будуаре ее императорского величества (императрицы Марии Федоровны. – Я.Д.) в Павловском дворце, и выкройки эти – из бумаги, для большей точности фасона, где нужно сшить.Кроме выкройки, рисунки карандашом каждой вещи отдельно, означив длину, высоту и ширину.И 3. Доставить образчик той материи из спальни императрицы Марии Федоровны, находящейся на 2-м этаже [...]. Комната эта в Большом Павловском дворце, та самая, в которой находится фарфоровый сервиз Людовика XVI.Придворная государя великого князя Константина Николаевича контора, сообщая вам о таковой воле ее высочества, имеет честь покорнейше просить упомянутые выкройки, рисунки и образчик доставить в придворную контору для немедленного отправления в Варшаву, так как посланным от подрядчика Гусева живописцем недовольны и потеряно много времени для исполнения заказов великой княгини»40.В конце октября 1862 г. в Мраморном дворце получили телеграмму из Варшавы следующего содержания: «Немедленно выслать двух печников, двух штукатуров из Павловска, сколько Тур сделал мебели, деньги вышлют в субботу». Таким образом, обустройство варшавских резиденций силами испытанных специалистов продолжалось.Организационные сложности усугублялись тем, что Бельведер и Лазенки размерами уступали Мраморному дворцу. Константин Николаевич отметил в дневнике, что «в Бельведере тесно, трудно разместиться»41. М. Гетка-Кениг утверждал, что великокняжеская чета проживала в Бельведере42. Однако продолжалось это лишь до 11 августа 1862 г., о чем свидетельствует запись в дневнике Константина Николаевича: «В 11 часов переехали в Лазенки, начав с воцерковления жинки и Вячеслава. Прелесть, как тут мило, хотя немного тесно»43.С тех пор Бельведер использовался для размещения приезжавших в Царство Польское представителей императорской фамилии. Так, в октябре 1862 г. там останавливалась великая княгиня Елена Павловна44. Константин Николаевич с семьей находились тогда в Лазенках45. Пребывание великого князя в Лазенках подтверждают телеграмма, отправленная им 9 декабря 1862 г. управляющему Министерством народного просвещения А.В. Головнину46, а также воспоминания З. Фелиньского47. В декабре 1862 г. Константин Николаевич с семейством перебрались в Королевский замок в центре города48.Информация о Королевском замке как основной резиденции встречается в дневниках Константина Николаевича за 1862–1863 гг. Согласно записям великого князя, обустройство замка началось в летний период и еще продолжалось в ноябре 1862 г. 16 августа Константин Николаевич зафиксировал, что они с Александрой Иосифовной «ездили в замок»49. 28 ноября его посетили вновь: «Работы продвигаются, обещают кончить к 15 декабря»50. В это время к великому князю из плавания прибыл адъютант Д.С. Арсеньев, который подтвердил в воспоминаниях именно данное место проживания великокняжеского семейства: «Он жил тогда в Королевском замке и принял меня благосклонно и добро»51. Лазенки продолжали использоваться для церемоний и досуга: «За обедней с детьми в Лазенках. Остальной день дома»52; «прогулка в Лазенки»53; «ездили в Лазенки со всеми детьми»54; «вечером ездил верхом с жинкой в Лазенки»55.С резиденциями великого князя в Варшаве тесно связан сценарий его власти в Царстве Польском. Королевский замок и Лазенки ранее принадлежали польским королям. Акцентируя в воспоминаниях внимание на том, что Константин Николаевич говорил в Государственном совете Царства Польского по-польски, Фелиньский добавил, что «великий князь реставрировал королевский замок с польскими орлами, по плану Станислава Августа»56.«С переводом государя великого князя Константина Николаевича по званию наместника Царства Польского в Варшаву, – писал коменданту Петербурга исполняющий обязанности гофмейстера Чичерин, – отправлены туда и служители двора его императорского высочества, за исключением небольшого числа, оставленного для необходимого дежурства во внутренних покоях Константиновского дворца (Мраморного дворца. – Я.Д.). Но для присмотра за внешней безопасностью дворца, в котором еще хранится почти все имущество их императорских высочеств, особенно с уменьшением по повелению государя великого князя вольнонаемной прислуги, признается необходимым прибавить один военный пост от караула гауптвахты Константиновского дворца, именно внутри, под аркой у решеточных железных ворот к Аптекарскому переулку»57.Пересылка каждой партии вещей задействовала множество акторов, служб и инстанций: придворные конторы, фирмы-подрядчики, железнодорожные подразделения и министерские департаменты. 24 сентября 1862 г. «смотрителю камерцалмейстерской должности» титулярному советнику Хитуну сообщалось о необходимости отправки всех вещей в Варшаву «с возможными скоростью и аккуратностью», а также предписывалось «каждый раз по приготовлении и упаковке вещей, назначаемых к отправлению, доносить придворной конторе»58. 7 декабря 1862 г. последовало распоряжение ближайшим поездом отправить сани Александре Иосифовне «для катания с ледяных гор, ежели пересылка эта обойдется не слишком дорого»59.В конце сентября и начале октября 1862 г. придворная контора направляла в правление Главного общества российских железных дорог запросы о предоставлении чеков на пересылку вещей великокняжескому семейству и придворным, оцененных на общую сумму в 5 930 руб. серебром60.Еще один важный аспект деятельности двора великого князя в Варшаве – коммуникативные практики, организация придворных приемов и взаимодействие с общественной жизнью города [15]. В июне 1862 г. на Константина Николаевича было совершено покушение. «Меня удивило, – писал великий князь А.В. Головнину, – что у Вас не обратили особенного внимания на факт наших первых публичных процессов. Я всегда горой стоял за публичность, первый привел ее в действие и купил право на это моей кровью»61.Как видно из письма Константина Николаевича тому же адресату от 22 декабря 1862 г., напряженность в Царстве Польском не ослабевала: «У нас здесь тоже (все не в розовом цвете62), затруднения огромные, гораздо большие, чем то думают в Питере. Несмотря на то и с упованием на Бога, продолжаю борьбу, помня слова Писания: претерпевший до конца, тот спасен будет63. Сегодня утром расстрелян полициант, который саблей изранил своего офицера. Это уже четвертый смертный приговор, который мне приходится подписывать»64.В этих условиях адъютанты великого князя продолжали выстраивать коммуникативные связи как внутри двора, так и с польской элитой, о чем свидетельствуют дневниковые записи А.А. Киреева о его поездках по Царству Польскому, различных беседах и приемах65. А графиня Клейнмихель писала: «Великий князь был окружен большим числом адъютантов. Это были все люди высшего общества и прекрасного воспитания. Было обращено особое внимание на то, чтобы они хорошо владели французским языком, дабы не вызвать у поляков неудовольствия и, наоборот, снискать их расположение»66.Адъютанты проживали в разных частях Варшавы и зачастую отсутствовали в Царстве Польском продолжительное время. Д.С. Арсеньев писал, что в середине января 1863 г. приехал в Варшаву, «где опять поселился в гостинице “Отель Ангиельскийˮ, лучшей гостинице в городе»67. «По возвращении моем в Варшаву, – сообщал Арсеньев позднее, – товарищи мои, адъютанты великого князя, Казнаков и князь Ухтомский, жившие в Помранчарне, в Лазенках, предложили мне переехать к ним»68.Службу адъютанта великого князя на примере А.А. Киреева описал в воспоминаниях Л.А. Тихомиров: «Он знал даже и свое военное дело, хотя им, кажется, менее всего занимался, так как его служба при великом князе Константине Николаевиче была, собственно, не военная, его адъютантство было аналогично работе чиновника особых поручений, то есть по всем статьям, какие могут понадобиться начальнику»69. «В таком случае желаю, – писал Александр II брату о возможных репрессиях в отношении З. Фелиньского, – чтобы ты назначил кого-либо из твоих адъютантов для его сопровождения и чтобы при этом были приняты все нужные меры предосторожности»70. В то же время Д.С. Арсеньев отметил, что с «прежними морскими адъютантами великий князь и великая княгиня обращались или правильнее не обращались никак, кроме Киреева, который участвовал в опросах разных заарестованных лиц и считался полезным деятелем. Впрочем, меня великий князь скоро командировал в Пруссию купить какой-нибудь мелко сидящий пароход, который мог бы ходить по Висле и быть началом Вислинской флотилии»71.Активную позицию намеревалась занимать и Александра Иосифовна. «Великая княгиня открыто признавала, – свидетельствует З. Фелиньский, – что она хотела бы сблизиться с польскими дамами и что это легче всего исполнить на нейтральной почве, в этой связи она предложила, чтобы я ее сопровождал при посещении благотворительных заведений, где она ожидала встретить этих дам и таким образом завязать с ними знакомство»72.Документально установлено, что великокняжеской четой устраивались многочисленные вечерние собрания, чаепития и рауты. Например, со 2 ноября 1862 г. по 10 января 1863 г. минимальное дневное количество приглашенных на чай в Лазенки составляло три человека, а максимальное – 51 человек. На танцевальном вечере 30 ноября присутствовало более 130 человек73, включая сенаторов и иностранных консулов. В декабре того же года на одно из вечерних собраний из Королевского замка в Лазенки дополнительно были вызваны пять лакеев74.Воспоминания Ю. фон Верди дю Вернуа, направленного в 1863 г. в Польшу прусским правительством, содержат описание светской жизни наместника и его супруги. «Почти все вечера, – сообщал он, – мы проводили в кругу великокняжеской семьи (весною и летом) в Лазенковском парке; зимою вечера большею частью посвящались музыке, так как великий князь, обладая выдающимся музыкальным талантом, с особенною любовью занимался этим искусством. Собираясь в концертном зале, мы, конечно, обрекались на молчание, в тех же случаях, когда великая княгиня располагалась в одном из боковых салонов, около нее собиралось маленькое общество, к музыке не тяготевшее, и за чайным столом или мороженым беседа нередко затягивалась далеко за полночь» [12. С. 148].Поскольку великокняжеский двор считался центром политической и светской жизни Варшавы, придворные праздники и церемонии планировались как публичные действа и часто сопровождались большими процессиями и иллюминациями75. Подробные описания такого рода событий в обязательном порядке публиковались в периодических изданиях и освещались в специальных брошюрах. По сложившейся в Доме Романовых традиции, по случаю рождения его представителя совершался церемониальный военный марш. Информация об одном из них сохранилась в книге о приходе и расходе денежных сумм великого князя. В октября 1862 г. были приобретены пуговки в подарок сыну штабс-капитана Желтобрюхова «за поднесенный им марш великому князю Вячеславу Константиновичу»76. Великий князь оплатил счета походной типографии штаба войск в Царстве Польском за 500 объявлений о дне, «назначенном для Святого Крещения его высочества государя великого князя Вячеслава Константиновича»77.Церемония крещения не обошлась без эксцессов. Архиепископу варшавскому отводилась в ней одна из ведущих ролей и определено место рядом с великокняжеской семьей и маркизом Велёпольским. Однако узнав об этом от обер-гофмаршала, Фелиньский заявил, что никак не может принять участие в религиозном таинстве, совершаемом в храме иной веры. М.И. Хрептович воспринял заявление предельно эмоционально: «Изменить нельзя! Сам император утвердил церемониал!». Архиепископ «спокойно ответил», что не требует никаких изменений и вовсе не приедет в Лазенки, не делая из своего отсутствия какой-либо демонстрации78.Надо сказать, что действия Фелиньского привлекали пристальное внимание императора в течение всего периода наместничества великого князя. В апреле 1863 г. Александр II писал Константину Николаевичу: «Неслыханное поведение Фелинского нахожу не только ни с чем не сообразным, но даже преступным. Поэтому, если он осмелится отвечать тебе, что при предстоящих майских процессиях он не только не покорится предписаниям военного положения, но даже сам намерен явиться на улице, то объяви ему, что я требую немедленного его прибытия сюда (в Петербург. – Я.Д.) для отдачи мне отчета в своем поведении»79.Церемонию крещения новорожденного представителя линии Константиновичей проводил священник С.В. Михайловский, назначенный служить в церкви Мраморного дворца 1 апреля 1861 г. [2. C. 58]. При великокняжеском семействе он находился в Царстве Польском с 22 июня 1862 г. по 1 сентября 1863 г., а затем вернулся во Введенскую церковь Мраморного дворца и стал законоучителем детей Константина Николаевича и Александры Иосифовны.Заслуживает внимания столь редкое для Дома Романовых имя Вячеслав. М.Э. Клейнмихель писала, что «было решено назвать его в угоду русским – Вячеславом, в угоду же полякам – Вацлавом. Этим надеялись примирить обе славянские расы, но вышло наоборот» [2. C. 58].Среди мероприятий церемониального характера выделяются приемы, устраиваемые для военных, проходивших службу в Царстве Польском. В дневниках Константина Николаевича за рассматриваемый период упоминания о подобного рода событиях встречаются более 30 раз, не считая закрытые приемы, торжественные обеды и государственные праздники. Для обедов военных чинов в Лазенках, наместник посылал специальные распоряжения варшавскому коменданту князю Д.О. Бебутову, чтобы тот обеспечил музыкальное сопровождение80.Двор великого князя в Варшаве создавался в сложное время, когда в Царстве Польском разгоралось восстание. Этим обуславливались затруднения в поиске лояльных кадров, малая вовлеченность польской элиты в сценарий власти великого князя-наместника. Действия администрации и двора Константина Николаевича должны были демонстрировать связь между монархом и подданными, обеспечивающую прочность Российской империи. Образ единства, внимание к национальной специфике региона сделались церемониальным модусом поведения августейшего наместника.Но Константин Николаевич, обвиняемый в «неспособности и неумении действовать» и подозреваемый в желании «не озлоблять поляков вследствие тайного намерения получить со временем Польскую корону»81, был вынужден оставить мятежную Варшаву, а сведения о его дворе не вошли в официальные справочные издания. Сам великий князь «глубоко переживал неудачи своей политики и после отставки долгое время не отваживался появиться в Петербурге» [27. C. 21].×
References
- «Как сделана история» // Новое литературное обозрение. 2002. № 4 (56). С. 42–66.
- Алексеева Т.А. Духовенство в штате Придворной конторы великого князя Константина Николаевича: Введенская церковь Мраморного дворца (1848–1892) // Константиновские чтения – 2018: К 160-летию со дня рождения великого князя Константина Константиновича, поэта К.Р. (1858–1915). Сб. матер. науч. конф. СПб., 2018. С. 50–79.
- Базылев Л. Поляки в Петербурге. СПб.: Блиц, 2003. 448 с.
- Бендин А.Ю. Власть и католическое духовенство Северо-Западного края в период восстания 1863 г. // Россия и славянский мир в войнах и конфликтах XIX–XXI веков: сб. ст. М., 2017. С. 43–61.
- Власть и образ: очерки потестарной имагологии / отв. ред. М.А. Бойцов, Ф.Б. Успенский. СПб.: Алетейя, 2010. 384 с.
- Воронин В.Е. Польское восстание 1863 года: Опыт «примирительной политики» русского правительства. М.: МПГУ, 2008. 432 с.
- Воронин В.Е. О «неудобных» аспектах польского восстания 1863 г. // Россия и славянский мир в войнах и конфликтах XIX–XXI веков: сб. ст. М., 2017. С. 30–42.
- Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–1917: в 3-х т. СПб.: Наука, 2002. Т. 3: Центральные государственные учреждения. 228 с.
- Гетка-Кениг М. Варшавский парк Лазенки – забытая резиденция Романовых // Новая Польша. 2015. № 7–8. С. 50–53.
- Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.). М.: Индрик, 1999. 272 с.
- Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда / отв. ред. Н.А. Хачатурян. Вып. I. М., СПб.: Алетейя, 2001. 352 с.
- Завьялова Л., Орлов К. Великий князь Константин Николаевич и великие князья Константиновичи: История семьи. СПб.: Вита Нова, 2009. 608 с.
- Западные окраины Российской империи / науч. ред. М. Долбилов, А. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 605 с.
- Капинос С.В. Переписка А.В. Головнина с великим князем Константином Николаевичем о реформировании управления Польшей в 1862 году // Восемнадцатые петровские чтения (история, политология, социология, философия, экономика, культура, образование и право): Материалы всероссийской научной конференции с международным участием. СПб., 2017. С. 77–82.
- Кинан П. Санкт-Петербург и русский двор, 1703–1761. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 320 с.
- Корнева Г.Н., Чебоксарова Т.Н. Двор великого князя Владимира Александровича – второй по значимости в российской столице // Старый Петербург: поиски, находки, открытия: сб. статей. СПб., 2009. С. 209–228.
- Королевский двор в политической культуре средневековой Европы / отв. ред. Н.А. Хачатурян; МГУ; ИВИ РАН. М.: Наука, 2004. 540 с.
- Миллер А.И. Русский национализм в империи Романовых // Национализм в мировой истории. М.: Наука, 2007. С. 332–351.
- Новикова О.В. О подготовке двора великого князя Константина Николаевича к коронации Александра III // Здесь бывал сам государь: к 175-летию императора Александра III: материалы научно-практической конференции из цикла «Императорская Гатчина». СПб., 2021. С. 180–188.
- Рольф М. Польские земли под властью Петербурга. От Венского конгресса до Первой мировой. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 576 с.
- Российская империя в сравнительной перспективе: Сборник статей / ред.-сост. А.И. Миллер. М.: Новое издательство, 2004. 382 с.
- Свирида И.И. Между Петербургом, Варшавой и Вильно: Художники в культурном пространстве, XVIII – середина XIX вв.: Очерки. М.: Объединенное гуманитарное издательство (ОГИ), 1999. 358 с.
- Софьин Д.М., Софьина М.В. «…Дядя Костя скончался»: погребение генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича глазами его племянника (из дневника Великого князя Сергея Александровича, январь 1892 г.) // Россия и мир в конце XIX – начале XX века: сб. науч. тр. Пермь, 2017. С. 46–55.
- Софьин Д.М., Софьина М.В. «…Сергей и я, мы были на раскопках, но ничего не нашли»: Крымский дневник Великого князя Георгия Михайловича. 1875 г. // Вестник архивиста. 2017. № 3. С. 199–209.
- Софьин Д.М., Софьина М.В. Дневник Великого князя Сергея Александровича за 1892 год как исторический источник // Россия и мир в конце XIX – начале XX века: сб. науч. тр. Пермь, 2017. С. 4–15.
- Шевырев А.П. Русский флот после Крымской войны: либеральная бюрократия и морские реформы. М.: Изд-во Московского университета, 1990. 184 с.
- Шевырев А.П. Между Варшавой и Петербургом: великий князь Константин Николаевич, А.В. Головнин и Польское восстание 1863 г. // Польское восстание 1863 г.: исторические судьбы России и Польши. М.: Индрик, 2014. С. 210–227.
- Carrère d’Encausse H. Les Romanov: Une dynastie sous le règne du sang. Paris: Fayard/Pluriel, 2014. 448 p.
- Chwalba A. Polacy w służbie Moskali. Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. 258 s.
- Kieniewicz S. Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861–62. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1962. 319 s.
- Kipp J.W. Consequences of Defeat: Modernizing the Russian Navy, 1856–1863 // Jahrbücher Für Geschichte Osteuropas. 1972. Vol. 20. № 2. Рp. 210–225.
- Koberdowa I. Wielki książe Konstanty w Warszawie. 1862–1863. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1962. 305 s.
- Skałkowski A.M. Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych (1861–1877): in 3 vol. Poznań: nakł. PTPN, 1947. T. III. 412 s.
- Stadelmann M. Grobfürst Konstantin Nikolaevič. Der persönliche Faktor und die Kultur des Wandels in der russischen Autokratie. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012. 470 p.
- Vladimirov K. The World of Provincial Bureaucracy in Late 19th and Early 20th Century Russian Poland. Lewiston: Edwin Mellen Press, 2004. 194 p.