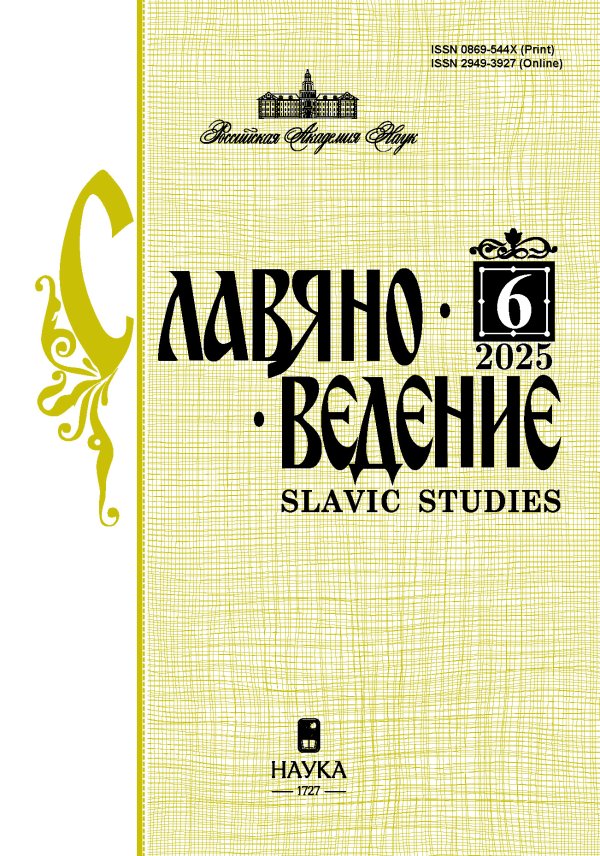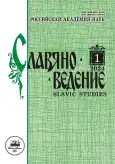The Dniester Campaign of General Prince A. M. Golitsyn in 1769 and Russia’s Strategy Towards the Principality of Moldavia in the Initial Period of the Russian-Turkish War of 1768–1774
- Authors: Kashirin V.B.1
-
Affiliations:
- Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 5-30
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/255403
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24010012
- ID: 255403
Full Text
Abstract
The article is devoted to the little-studied problems of the history of the Russo-Turkish War of 1768–1774 – the military and political strategy of the top leadership of the Russian Empire and the commander-in-Chief of the 1st Army, General-in-Chief Prince A. M. Golitsyn towards the Principality of Moldavia in the initial period of the conflict, during the campaign of 1769. Flaws in the organization of strategic planning on the Russian side, the absence of a pre-developed war plan, deficiencies in the supply system of troops and the inability to use an artillery siege park significantly limited the effectiveness of Golitsyn’s operations on the upper Dniester, which was reflected in two unsuccessful attempts by the Russian army to take the fortress of Khotyn in April and July 1769. For political and psychological reasons, this undermined Golitsyn’s credibility at the imperial court and led to his removal from the post of commander-in-chief, however, it was Golitsyn’s pragmatic defensive strategy that allowed him to defeat the main forces of the Ottoman army in late August – early September 1769 and force them to retreat from most of the territory of Moldova. Simultaneously with the conduct of military operations, A. M. Golitsyn and the commander of the vanguard corps of the 1st Army, Major General Prince A. A. Prozorovsky actively engaged, largely on their own initiative, in establishing secret intelligence and political contacts with representatives of the highest boyars and clergy of Moldova. Their success in this activity, as well as the recruitment of Arnaut formations from local natives to the Russian service, largely paved the way for the rapid and successful occupation of most of Moldavia by Russian troops in the autumn of 1769.
The article is based on previously little-known archival material, mostly on the official correspondence of the Russian command.
Full Text
Русско-турецкая война 1768–1774 гг. (иногда называемая первой Екатерининской) стала поворотным моментом, открывшим новую эпоху в истории Молдавии и Валахии и их отношений с Россией. В ходе этого крупномасштабного военного конфликта впервые в истории русские войска на протяжении нескольких лет занимали территорию обоих Дунайских княжеств. Все их исторические земли, включая и турецкие крепости с прилегающими к ним округами-«райями» (Килия, Измаил, Браилов и Журжа на Дунае; Хотин, Бендеры и Аккерман на Днестре), а также татарский Буджак в тот период оказались на время освобождены от владычества Порты. В результате боевых действий и подчас достаточно суровых военных и административных мероприятий русского командования, в том числе уничтожения поселений и принудительных переселений, был начат масштабный процесс этноконфессиональной трансформации региона, приведший позднее к полной ликвидации прежде достаточно многочисленного присутствия мусульманского населения к северу от Дуная и появлению там районов компактного поселения новых этнических групп (европейские колонисты, «задунайские выходцы»).
В ходе войны 1768–1774 гг. в Молдавии и Валахии была установлена русская военная администрация, работавшая в тесном взаимодействии с местными Диванами; упорядочено взимание налогов и пошлин, отлажена система набора туземных добровольцев в русскую армию, проведены первые современные для того времени переписи населения и топографические съемки, составлены высококлассные географические карты, планы городов и крепостей, военно-статистические описания княжеств. Таким образом, первый длительный период пребывания Молдавии и Валахии под властью России в 1769/1770–1774 гг. имел далеко идущие политические и психологические последствия и, наряду с состоявшейся в те же годы Архипелагской экспедицией русского флота, придал мощный импульс всему грандиозному историческому процессу национального пробуждения народов Балканско-Дунайского региона, их борьбы за создание независимых государств и дальнейшей модернизации по европейскому образцу.
Помимо прочего, годы первой Екатерининской войны с Турцией стали временем массовой встречи, знакомства и длительного взаимодействия народов Российской империи (в лице военнослужащих ее армии) и жителей Молдавии и Валахии. Эти контакты осуществлялись на всех уровнях: как на высшем – между армейским командованием и верхушкой местного боярства и церковного клира, так и на низовом, с участием многотысячной массы чинов регулярных и нерегулярных частей вооруженных сил России и широких слоев местного населения. В результате был накоплен обширный и разносторонний опыт межнационального общения, притом в подчас экстремальных условиях военного времени, эпидемии чумы и иных бедствий; установлены новые и возобновлены старые фамильно-карьерные связи, задействованы иные механизмы лояльности и сотрудничества, выработаны конкретные приемы и методы социально-административной и межличностной коммуникации, сформированы поведенческие модели и психологические портреты взаимного восприятия с элементами как ценного объективного знания, так и этническими стереотипами.
Отдельный интерес представляет начальный период русско-турецкой войны 1768–1774 гг. – до занятия русскими войсками большей части Молдавии и присяги ее населения на верность императрице Екатерине II осенью 1769 г. Это стало возможно в результате трудной, шедшей с переменным успехом военной кампании русской 1-й армии под командованием генерал-аншефа князя А. М. Голицына, длившейся с апреля по сентябрь 1769 г. Ее основные события происходили в районе стратегически важной османской крепости Хотин на реке Днестр. Падение этой твердыни после двукратного бесплодного приближения к ней русской армии привело к поспешному отступлению османов с большей части территории Молдавии. Этому предшествовали и активные усилия русского командования по выстраиванию тайного взаимодействия с ориентированными на Россию представителями молдавского боярства и высшего духовенства. Таким образом, события кампании 1769 г. стали важной прелюдией к периоду оккупации Молдавии русскими войсками, и потому их изучение необходимо для понимания дальнейшего развития этого конфликта.
Меж тем история Молдавии и Валахии в период войны 1768–1774 гг., как и Днестровская кампания князя А. М. Голицына, еще не исследованы в должной степени. Первым и, по сути, до сих пор единственным научным военно-историческим исследованием кампании 1769 г. стал первый том труда А. Н. Петрова (1837–1900) «Война России с Турцией и польскими конфедератами», увидевший свет в 1866 г. [Петров 1866]. Его автор, в то время капитан Генерального штаба, был первопроходцем исследования огромных документальных пластов архива Военно-топографического депо (затем Военно-ученого архива Главного штаба) и за многолетнюю научную карьеру написал в общей сложности 14 томов военно-исторических исследований по истории четырех русско-турецких войн. Классический и фундаментальный труд Петрова по войне 1768–1774 гг. и доныне сохраняет значение и как памятник отечественной военной историографии, и как ценный источник фактических сведений о ходе русско-турецких войн XVIII в. Однако проблемы политики России в отношении Молдавии и Валахии интересовали Петрова в гораздо меньшей степени, притом он практически не разбирался в реалиях политической и социальной ситуации в княжествах.
А в дальнейшем изучение военной истории той войны в отечественной историографии было в наибольшей степени связано с исследованием деятельности генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского, сменившего Голицына на посту главнокомандующего 1-й армией. В кампанию 1769 г. он до августа командовал войсками 2-й армии на Украине и на этом посту не проявил себя какими-либо успешными или решительными действиями. Тем не менее историки-апологеты всячески превозносили полководческую мудрость, дальновидность и осторожность Румянцева в ту кампанию, а вся ответственность за трудности российской стороны возлагалась на князя Голицына, деятельность которого изображалась в гротескно-негативном виде (см., например, [Клокман 1951]). При этом и в дореволюционной России, и в СССР выходили ценные публикации документов П. А. Румянцева 1. Однако документы генерал-аншефа князя А. М. Голицына периода его командования в кампанию 1769 г. не публиковались.
Различные аспекты политики России в отношении Дунайских княжеств накануне и в период русско-турецкой войны 1768–1774 гг. затрагивались в исследованиях отечественных историков С. М. Соловьева [Соловьев 1965], В. А. Уляницкого [Уляницкий 1883], Е. И. Дружининой [Дружинина 1955], Л. Е. Семеновой и В. Н. Виноградова [Семенова 2006; Виноградов, Семенова 1982], в исследованиях и документальных публикациях молдавских историков, советских и современных, таких как Н. А. Мохов [Мохов 1980], И. В. Семенова 2, В. Ткач [Tcaci 2012], И. Думиника [Duminica 2014]; а также у румынских авторов Н. Йорги [Iorga 1919], Г. Безвиконого [Bezviconi 1962], С. Виану [Vianu 1953]; М. Матей [Matei 1953] и др. Отдельно следует назвать работы советского историка из Тирасполя И. А. Котенко, посвященные теме русско-молдавского военного сотрудничества во время войны 1768–1774 гг. [Котенко 1957; Котенко 1961]. Ему удалось найти и использовать ряд ценных документов из архивов в Москве. Однако кандидатская диссертация Котенко так и не была опубликована, а жесткие постулаты господствовавшей в то время идеологии накладывали серьезные ограничения на возможность разностороннего раскрытия избранной им темы.
В целом до сих пор никому из исследователей не удалось при изучении событий 1768–1769 гг. в Молдавии и военной кампании 1-й армии А. М. Голицына совместить возможность свободного доступа к центральным архивам в Москве, хранящим документы военного и дипломатического ведомств России, с широким использованием источников молдавского и валашского происхождения. Примечательно, что к настоящему времени существует обширная историография Архипелагской экспедиции, в том числе новейшие фундаментальные работы Г. Л. Арша [Арш 2010; Арш 2013], И. М. Смилянской, Е. Б. Смилянской и М. Б. Велижева [Смилянская, Велижев, Смилянская, 2011], Г. А. Гребенщиковой [Гребенщикова 2007], написанные на богатом документальном материале и убедительно показывающие значимость темы военно-политических достижений России в период той войны. И на фоне этих исследований особенно заметна недостаточная изученность проблемы действий на сухопутном театре, взаимосвязи военных, политико-дипломатических, разведывательных и административных усилий российского руководства в отношении Дунайских княжеств.
Данная статья представляет попытку рассмотреть важнейшие события Днестровской кампании 1769 г., проанализировать особенности стратегии петербургского кабинета и командования 1-й армии, показать взаимосвязь событий войны на Днестре и политической реакции на них в Петербурге, исследовать развитие взаимодействия русского командования с правящей верхушкой и широкими слоями населения Молдавского княжества в период до его занятия русскими войсками. Основными источниками при написании работы послужили неопубликованные и в малой степени введенные в научный оборот документы из фонда Военно-ученого архива в РГВИА, в первую очередь – дела с всеподданнейшими реляциями князя А. М. Голицына, отпускными копиями высочайших рескриптов на его имя, а также с материалами служебной переписки Голицына и его подчиненного, генерал-майора князя А. А. Прозоровского, в тот период – командующего передовым корпусом 1-й армии, кавалерийские отряды и офицеры которого проникали в глубь территории Молдавии и наиболее активно взаимодействовали с местным населением и представителями пророссийской партии.
До начала войны с Турцией 1768–1774 гг. княжество Молдавия два раза становилось объектом стратегического внимания и значительных военных усилий со стороны Российского государства – накануне и во время Прутского похода Петра I и в ходе войны с Турцией 1736–1739 гг. При этом русские войска трижды вступали на территорию Молдавии, каждый раз на весьма непродолжительный срок. Вскоре после Полтавской битвы отряд бригадира Г. И. Кропотова, отправленный царем для преследования Карла XII, пересек границу Молдавии в Буковине и 23 сентября 1709 г. под Черновцами атаковал и принудил к сдаче в плен шведско-запорожский отряд А. Гилленкрока, посланный королем на соединение со шведским корпусом в Польше 3. Затем летом 1711 г. состоялся печально знаменитый Прутский поход Петра I, в ходе которого русская армия находилась на территории Молдавии около двух месяцев, в июне и июле, а передовой ее корпус достиг Браилова на Дунае 4. Наконец, летом 1739 г. русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Б.К. фон Миниха переправилась через Днестр, нанесла поражение главным силам турок в генеральном сражении при Ставучанах 17 августа, без боя овладела крепостью Хотин 19 августа, и уже 1 сентября авангард армии вступил в столицу Молдавии Яссы [Байов 1906, 225–249]. Однако последовавшее заключение Белградского мира привело к прекращению военных действий, и в конце 1739 г. последние части русских войск покинули молдавскую территорию, где их пребывание продлилось в тот раз около четырех месяцев.
Несмотря на кратковременность нахождения русских войск в Молдавии, кампании 1711 и 1736 г. объективно способствовали укреплению русско-молдавских связей, хотя для населения княжества обернулись репрессиями и ужесточением гнета со стороны османских властей. В ходе тех войн командование русской армии получало практические знания о географии, населении и политической ситуации в Молдавии, устанавливало связи с представителями местных элит. Однако за три десятилетия, прошедшие между Миниховской и Румянцевской 5 войнами с Турцией, сведения российского руководства о Молдавии отчасти утратили актуальность. Государственная Коллегия иностранных дел не имела ни одного официального дипломатического представителя в Дунайских княжествах и была вынуждена решать большинство служебных вопросов через российскую миссию в Константинополе. Источников информации о княжествах было недостаточно, а прежние политические и агентурные связи ослабели и прерывались. Так, в 1740-е годы прекратились, в том числе и в целях экономии, отношения русских властей с высокопоставленными информаторами в северных областях Молдавии – сердаром (боярская должность среднего ранга) Лупполом Анастасиевым и пыркалабом (комендантом) приграничной Сороки Андронакием Варфоломеевым 6.
Во время прежних военных кампаний и последовавшей за ними вынужденной эмиграции переселились в Россию и поступили на русскую службу немалое число молдаван как простых чинов волошских хоругвей и гусарских полков, так и представителей местного боярства. Согласно челобитной князя К. А. Кантемира, после войны 1736–1739 гг. им было выведено в Малороссию из бывшего Волошского корпуса «разночинцов, поверстанных в рядовые» 1030 человек, а также «от молдавских шляхетств» 40 человек, не считая ранее зачисленных на службу в русскую армию 7. К 1752 г. в Молдавском гусарском полку вместе с членами семей его чинов реально насчитывалось не менее трех тысяч душ 8. Таким образом, перед началом войны 1768–1774 гг. в России проживала достаточно многочисленная молдавская диаспора, притом непосредственно связанная с русской военной службой. Однако хотя бы попытки использовать этот ресурс для какой-либо политической, разведывательной или иной подобной деятельности в отношении Дунайских княжеств в предвоенные годы не прослеживаются.
Усилия внешней политики России в период между окончанием Семилетней войны и началом войны с Турцией в 1768 г. были сконцентрированы на решении задачи установления господства в Речи Посполитой. Вступление корпуса русских войск в Польшу в 1767 г. и в особенности начало весной 1768 г. активных действий против Барской конфедерации в Подольском и Русском воеводствах вблизи молдавской границы стало источником серьезной напряженности в отношениях между Россией и властями княжества Молдавия. На его престоле в это время находился господарь Григорий Иоан Каллимаки (1735– 1769), представитель известной молдавско-фанариотской семьи, дважды правивший в Молдавии, в 1761–1764 и 1767–1769 гг., и никогда не проявлявший пророссийских симпатий (о нем и его роде см. [Xenopol 1897]). В начале 1768 г. он по собственному почину пошел на обострение отношений с Россией, арестовав по обвинению в шпионаже ряд действительных или предполагаемых российских подданных и/или отставных офицеров русской службы (А. Янкоров, Д. Чернокапцев, Н. А. Каразин). По меньшей мере один из них, некий Алексей Янкоров, был публично казнен в Яссах 9. В результате шпионских скандалов и приграничных инцидентов весны – начала лета 1768 г. отношения России с господарем Молдавии и поддерживающей его партией оказались серьезно испорчены. А активные политические связи с довольно многочисленной оппозиционной русофильской партией в боярских и церковных кругах перед войной так и не были выстроены.
Война, главным поводом к которой послужил известный Балтский инцидент 18 июня 1768 г., была официально объявлена России Высокой Портой на торжественной аудиенции в зале Большого Дивана 25 сентября (6 октября) 1768 г. Петербургский кабинет до последнего надеялся, что ему удастся либо избежать военного конфликта с Османской империей, либо оттянуть его на более поздний срок. Как следствие, Россия оказалась неподготовлена к войне ни с точки зрения сосредоточения войск, ни в отношении выработанных военно-стратегических и политических планов. Их пришлось разрабатывать в спешке, обсуждать и утверждать на первых заседаниях учрежденного в ноябре 1769 г. Совета при Высочайшем дворе, высшего коллегиального органа по координации военных и политических усилий воюющей империи.
На заседании Совета 6 ноября Екатерина II объявила свое решение о назначении главнокомандующих: «наступательный корпус» (будущая 1-я армия) вверялся генерал-аншефу князю А. М. Голицыну, «оборонительный» (будущая 2-я армия), предназначенный для обороны Украины, – генерал-аншефу графу П. А. Румянцеву 10. Эти назначения достаточно хорошо отражали тогдашнюю расстановку сил и баланс влияния двух придворных партий. Голицын в наибольшей степени ориентировался на клан братьев Орловых и их ситуативного союзника вице-президента Военной коллегии графа З. Г. Чернышева, тогда как Румянцев, что хорошо видно по его письмам Н. И. Панину, в тот период тяготел к партии последнего. И учреждение коллегиального Совета, и то, что главные силы полевой армии были доверены Голицыну, ясно свидетельствовало о снижении влияния Н. И. Панина и его клана, в том числе, по всей видимости, и вследствие допущенного главой Коллегии иностранных дел начала конфликта с Турцией.
Принятые стратегические планы на кампанию 1769 г. были зафиксированы в виде протоколов Совета и соответствующих рескриптов императрицы на имя обоих главнокомандующих. В отношении предстоящих действий «наступательного корпуса» (1-й армии) они парадоксальным образом соединяли элементы осторожно-оборонительной стратегии и откровенно авантюрные черты. Главная поставленная армии задача предполагала воспрепятствование вторжению турок в Польшу и соединению их с барскими конфедератами. Вступление русских войск на территорию Молдавии отнюдь не предписывалось, но называлось допустимым и желательным при определенных благоприятных условиях. В любом случае речь шла не о вторжении в глубь княжества, а об ограниченных действиях («поисках») вблизи границы по Днестру. Основным объектом возможных наступательных операций называлась Хотинская крепость на Днестре, мощнейший османский форпост на молдавско-польской границе. При этом действия русского командующего ставились в зависимость от скорости сосредоточения и численности сил, а также направления операций противника: «Буде же по достоверным известиям окажется, что турецкого войска весьма мало или не все собрано и по вероятности над оным преимущество иметь можно, то при таковых обстоятельствах стараться над оным поиски чинить и взять Хотин» 11.
Однако ни один директивный документ не рекомендовал никаких конкретных способов овладения этой крепостью; в частности, речь даже не шла о возможности ведения ее методичной осады по системе Вобана прежде всего из-за полной неготовности к перевозке артиллерийского осадного парка в Киеве. Вместо этого взять Хотин Голицыну предписывалось методом некоей «воинской хитрости», по выбору и усмотрению самого главнокомандующего: «Будет уже особливо дело собственного вашего патриотического усердия и искуства делать на той стороне Днестра всевозможные над неприятелем поиски, стараясь его в квартирах по частям тревожить, томить и бить, а особливо, естьли только возможность будет, и овладеть еще способом какой либо воинской хитрости городом Хотином, ибо оной худо укреплен и по сю пору, так сказать, со всех сторон открыт» 12.
Иными словами, исход главного и сложнейшего военного предприятия всей кампании ставился в зависимость от факторов, не поддающихся никакому точному расчету и прогнозированию. Таким образом, русский военно-стратегический план на всю кампанию 1769 г. был ущербен по самой своей сути. В начале 1769 г. Екатерина II одновременно с проектом Архипелагской экспедиции утвердила проект создания тайной миссии, предложенный отставным кавалерийским секунд-майором Н. А. Каразиным и поддержанный П. А. Румянцевым и Н. И. Паниным. Этот проект предполагал организацию антиосманского восстания в Дунайских княжествах и основывался на личном знакомстве и предварительных договоренностях Каразина с рядом влиятельных иерархов и бояр Валахии. Планировалось распространить манифест с призывом к восстанию и среди жителей Молдавии. Однако весь этот проект изначально имел характер почти самоубийственной и едва ли не безнадежной авантюры и всецело зависел от удачи его инициатора, шедшего на огромный личный риск (подробнее см. [Каширин 2022b]). Важно подчеркнуть, что центральное место в проекте Каразина занимала именно более отдаленная Валахия, а в отношении Молдавии никаких специальных и разработанных планов перед началом кампании 1769 г. так и не имелось.
Активные боевые действия передовых частей на молдавской границе начались уже в феврале 1769 г., спустя считанные дни после завершения крупномасштабного набега главных сил Крымского юрта во главе с ханом Крым-Гиреем на российскую Елисаветградскую провинцию (прежнюю Новую Сербию). На обширном пространстве Подольского и Русского воеводств Польши в это время располагался включенный в состав 1-й армии передовой корпус русских войск, которым командовал генерал-майор князь А. А. Прозоровский (1733–1809), будущий генерал-фельдмаршал. Перед началом кампании 1769 г. он считал первоочередной целью уничтожение опорных пунктов барских конфедератов и провиантских складов турок по обоим берегам Днестра в районе Хотина и Сорок, т. е. вдоль северных рубежей Молдавского княжества.
Пользуясь кратковременной возможностью перейти Днестр по льду, кавалерийские партии (т.е. небольшие подразделения с самостоятельными заданиями) корпуса Прозоровского в течение нескольких дней нанесли ряд скоординированных ударов на пространстве от Сороки до Атак, на линии протяженностью свыше 50 км. 16 февраля отряд подполковника И. Ф. Бринка, при котором находился и сам генерал Прозоровский, вступил в местечко Ямполь и, перейдя Днестр, занял расположенное прямо напротив молдавское село. В документах его название не приведено, но по географическим картам можно определить, что там находилось известное с начала XVI в. село Косоуцы (Косэуць, рум. Cosăuţi), вотчина Хушского монастыря. Здесь к Прозоровскому явились местные жители во главе со своим капитаном (т. е. старостой) и сообщили ему о желании ради собственной безопасности переселиться во владения России. Прозоровский дал согласие и по своей инициативе предложил им переселяться в пределы опустошенной татарами Елисаветградской провинции. Впоследствии туда направлялись и другие молдаване, бежавшие из разоренного турецкими войсками и татарскими набегами княжества, чем было положено начало новому поселенному в российских владениях Волошскому (Молдавскому) гусарскому полку.
Рапорт Прозоровского князю А. М. Голицыну передает примечательные детали его общения с молдавским капитаном из Косоуц: «А как я оное село за нужно почел сжечь, то я ему объявил, что естли оне не совсем выбрались, то чтоб последнее выбрали, и что я не в кару им, но чтоб турки пристанища не имели, почему оне, досталное выбрав, не допустя войско мое до того труда, сами зажгли, чрез что ваше сиятельство заключить можете, сколь велика их привязанность к нам» 13. Помимо прочего, косоуцкий капитан сообщил, что «он от своего господаря имеет секретное повеление, как наше войско приближитца, что во всем вспомоществовать и нашу партию держать» 14. Это сообщение вызвало особый интерес главнокомандующего 1-й армией, который поручил Прозоровскому попытаться отправить лазутчика, чтобы проверить сведения о тайных симпатиях правителя Молдавии к России и установить с ним связь 15. Однако подтверждения данной информации получить тогда так и не удалось, и русское командование до конца воспринимало Григория Каллимаки как недружественную фигуру.
В те же дни партии корпуса Прозоровского согласованно атаковали другие молдавские местечки на Днестре. Утром 17 февраля 1769 г. гусарский капитан К. Палалов с 300 донских казаков, пройдя через Цехановку (Цекиновку), переправился по льду и ворвался в местечко Сороку, важный приграничный таможенный пункт Молдавского княжества. Там он разбил немногочисленный неприятельский отряд и взял в плен девять турок и семь конфедератов, в том числе двух полковников. При этом был уничтожен устроенный турками обширный провиантский магазин (склад), а вся Сорока целиком выжжена. На рассвете 18 февраля партия гусарского капитана Г. Гангеблова заняла Могилёв-Подольский, а капитан В. Тотович с сотней казаков перешел Днестр и захватил расположенное напротив молдавское село Атаки (совр. Отачь, рум. Otaci). Занимавшие его турки пытались обороняться в домах, и тогда село было также полностью сожжено. После этого отряды русской кавалерии отступили на левый берег Днестра 16.
Итак, в феврале 1769 г. действия русских войск впервые в ту войну чувствительно затронули территорию самой Молдавии, притом никогда прежде русским солдатам еще не приходилось разорять молдавских местечек. Однако генерал князь Прозоровский в этих разрушительных действиях старался ограничиваться лишь насущно необходимым с военной точки зрения, притом имея в виду и соображения политической целесообразности. Он докладывал князю Голицыну: «Другие ж селы по берегу Днестра, не находя нужды, не жег, дабы ту нацию не привести в огорчение, а против Магилева село Атаки все до последнего двора выжег, толко везде с тем же примечанием, что прежде хозяевам прикажут и со всеми их пожитками из дому выбратца» 17.
В день взятия Атак, 18 февраля, сам Прозоровский переправился на молдавский берег Днестра для разведки, и здесь к нему явились для перехода на русскую службу «арнаутов конных булгар нашего закона девять человек, из которых один харунжей, и принесли с собой их знамя» 18. С этого момента Прозоровский, с разрешения и при полной поддержке Голицына, начал систематическую работу по переманиванию на сторону русской армии арнаутов со службы молдавского господаря (подробнее см. [Каширин 2022a]). Еще в начале февраля 1769 г., получив от разведки донесения о наборе молдавским господарем «гусар», Прозоровский предложил выбрать несколько человек «той же нации из наших старых и надежных гусар» и отправить их переодетыми в «простое платье», чтобы они завербовались в это формирование и начали работу по его разложению 19.
Один из этих гусар-молдаван сумел установить связь с епископом Рэдэуцким Досифеем (Хереску, рум. Dosoftei Herescu; ок. 1710–1789), в то время одним из наиболее влиятельных церковных иерархов на севере Молдавии. Поначалу архиерей отнесся к эмиссару от русского командующего с подозрением: «Но токмо он ему верить не хотел без писменного виду, опасаясь, чтоб то не был какой подосланной испытатель его прямых мыслей от стороны турков» 20. Тогда Прозоровский вторично отправил того же гусара в Рэдэуц (к северо-западу от Сучавы), снабдив его соответствующим «письменным видом» и по собственной инициативе пообещав брату епископа Досифея, в соответствии с его желанием, офицерский чин в одном из гусарских полков русской армии.
12 марта Прозоровский доложил, что посланный гусар вновь вернулся. Примечательно, что для выполнения задания этому тайному курьеру пришлось неоднократно преодолевать расстояние в сотни верст между Рэдэуцким монастырем и главной квартирой Прозоровского по территории, занятой войсками противника, подвергаясь смертельной опасности. По словам посланца, на сей раз владыка Досифей плакал, читая письмо генерал-майора, и дал полное согласие сотрудничать с русским командованием и передавать ему данные о противнике, а главное, по словам Прозоровского, «велел меня просить, чтоб, как можно, в Волощизну приттить с войском, ибо де турецкого войска весма мало, а провиянту и фуража весма доволно» 21. Епископ Рэдэуцкий предложил скорее занять Молдавию, пока главные силы турецкой армии не прибыли и не опустошили страну, и пафосно заявил: «…последнее, что имеем, российскому войску охотно отдадим» 22. Однако в тот период кампании вступление русской армии в глубь Молдавии было неосуществимо, да и устные декларации владыки Досифея никак нельзя было считать конкретным обязательством по снабжению русских войск продовольствием и фуражом.
И тогда же, в феврале 1769 г., Прозоровский с помощью некоего «своего приятеля благонамеренного поляка» установил связь с двумя достаточно влиятельными представителями молдавской светской администрации в северных цинутах (уездах) – великим пахарником (кравчим) Имболтом и черновицким старостой Жоржием. Первый из них был особо примечательной личностью, известной и из молдавских источников. Леон Имбо (фр. Léon d'Ymbault de Manthay; ок. 1700–1781), выходец из мелкого французского дворянства, родился на подконтрольной Венеции территории западной Греции, учился в капуцинском монастыре в Пере, затем служил драгоманом французской миссии в Константинополе, а позже перешел на аналогичную службу к господарям Молдавии, выполнял разные дипломатические миссии, затем занимал административные должности. В 1750-е годы он был исправником (правителем) приграничного Сорокского цинута, занимал должность великого пахарника при дворе господаря и, по его собственным словам, также был капитаном его гвардии (о нем подробнее см.: [Felea 2008]).
В письме к Прозоровскому на французском языке 7 февраля 1769 г. сам Имбо сообщил, что ранее, при графе А. И. Остермане, он оказывал услуги российскому правительству в качестве негласного агента и за это даже был награжден патентом на чин «секретаря» (т. е. на один из младших чинов статской службы). Теперь Имбо предлагал русскому командованию услуги в качестве тайного осведомителя, а взамен просил гарантий безопасности для себя и своей семьи, в частности, возможности свободного выезда в Польшу 23. Примечательно, что князь А. М. Голицын запросил Петербург проверить сведения о прежней службе Имбо, однако с этим возникли затруднения: «Просматриваны были реэстры делам, в коллегии иностранных дел находящимся, но по причине краткого тех реэстров содержания никакого известия об нем, Имболте, не сыскано» 24, а изучение самих архивных дел отняло бы слишком много времени. Другими словами, важнейшее в разведке дело учета тайной агентуры было налажено в российском дипломатическом ведомстве с вопиющими недостатками. В этой ситуации решили считать заявление Имбо правдоподобным, по сходству его дела с известным делом сердара Луппола Анастасиева. Для поддержания тайной переписки с Имбо русское командование снабдило его специальным шифром на французском языке.
В тот период генералы Прозоровский и Голицын были заинтересованы в тайных контактах с молдавскими сановниками прежде всего ради получения разведывательной информации о турецких войсках и обстановке в княжестве. Однако благодаря этому уже в самом начале кампании 1769 г., фактически еще до вступления главных сил русской армии на территорию Молдавии, их командованием были установлены ценные контакты с представителями духовных и светских властей в северных цинутах княжества, от Буковины до Сороки.
Перед началом летней кампании 1769 г. главные силы 1-й армии А. М. Голицына сосредотачивались в лагере у деревень Минковцы и Антоновка в 40 км к северо-востоку от Каменца-Подольского и выступили в поход лишь 14 апреля 1769 г. 25 По сезонно-климатическим условиям и понятиям военного дела той эпохи, это было обыкновенное время для начала летней кампании. Переправившись 15 апреля через Днестр по наведенному мосту у Калуса и оставив там тяжелый обоз, армия с минимальным запасом боеприпасов и продовольствия двинулась к Хотину, где в то время находился турецкий передовой корпус Кахраман-паши. 19 апреля, в день Пасхи, у стен Хотина произошло первое значительное сражение той войны. Около трех часов пополудни русские войска атаковали. Будучи сбит эффективным огнем русской артиллерии, противник бежал из ретраншамента (полевое укрепление), причем до ближнего боя, по сути, дело так и не дошло. Русские войска преследовали турок до самого палисада крепости и захватили различные трофеи. Возникший во время боя пожар уничтожил бо́льшую частью предместья Хотина.
Реляция Голицына о сражении и победе под Хотином была доставлена в Царское Село вечером 30 апреля. Екатерина II, уже удалившаяся во внутренние покои, после получения донесения вышла и вместе со свитой проследовала в придворную церковь для молебна, куда, несмотря на ночное время, собралось множество местных жителей и чинов гвардии. На следующий день, 1 мая, императрица специально прибыла из Царского Села в Санкт-Петербург для торжественного оглашения новости об одержанной победе, в честь которой артиллерия Санкт-Петербургской и Адмиралтейской крепостей дала салют из 101 залпа; был отслужен благодарственный молебен, на котором присутствовал весь столичный генералитет и иностранные послы 26. Столь широкое празднование объяснялось первой победой российских войск не только в ту войну с Турцией, но и с самого начала царствования Екатерины II.
И тем большее удивление и разочарование вызвала следующая реляция Голицына от 20 апреля, в которой он сообщал об отступлении 1-й армии. Оказалось, что ни о каком взятии крепости «с наскока» или тем более способом военной хитрости не могло быть и речи. Русская армия не только не имела осадного парка, но и испытывала трудности со снабжением, почти израсходовав имевшийся минимальный запас провианта и артиллерийских боеприпасов 27. В этих условиях Голицын принял решение о возвращении к своим провиантским складам. Уже 21 апреля русская армия отошла от Хотина, а 24 апреля переправилась обратно через Днестр. Как представляется, именно это первое весеннее отступление от Хотина особенно сильно раздражило императрицу, поскольку обернулось ее личным конфузом перед столичным обществом и, через иностранных дипломатов, перед всей Европой. В дальнейшем это событие омрачало ее отношения с генералом Голицыным в ту кампанию.
Первая серьезная заминка князя А. М. Голицына означала автоматическое повышение котировок «Панинской партии». Именно графу Никите Панину было доверено составление текста ответного рескрипта Голицыну, в котором весьма желчно выражалось недовольство реляцией об отходе русской армии за Днестр: «Тем с большим удивлением не находим мы в ней изображения довольных резонов, кои несумненно вас в такую крайность поставили, чтоб назавтрее выпустить из своих рук одержанную славу отверстия первой кампании и весь приобретенной авантаж над неприятелем» 28. Тем же рескриптом Голицыну предписывалось изыскать любые средства для возобновления наступательных действий, а заодно, по сути, сообщалось о неполном доверии к нему. Отныне все важные решения по командованию он должен был подкреплять протоколами военного совета генералов армии: «Сверх сего мы надеемся, что вы не оставите впредь присылать к нам обстоятельные протоколы держанных по случаям у вас советов с их положениями» 29. И в дальнейшем Голицын неукоснительно выполнял это безусловно обидное для него повеление.
Май 1769 г. стал периодом затишья в военных действиях на Днестре. Русская 1-я армия доукомплектовывалась и пополняла запасы в лагере у села Деражня близ Летичева и Меджибожа, где находился главный провиантский склад, более чем в 100 км к северо-западу от Хотина. А основные силы османской полевой армии в это время завершали сосредоточение у Бабадага в Северной Добрудже. В течение большей части мая 1769 г. шли работы по наведению большого понтонного моста через Дунай у Исакчи. 21 мая сам великий визирь со своей ставкой переправился по нему на северный берег 30.
В это время в Молдавии происходили важные события, имевшие большие политические последствия. Прежняя деятельность генерала Прозоровского по разложению арнаутских формирований на службе молдавского господаря принесла особо крупные плоды. 7 мая к находившемуся с конной партией в Покутье гусарскому капитану М. Ангелову «явились служащие у волоского господаря капитанов три с тремя знамями и при них команды арнаутов шездесят пять человек со всем вооружением, в том числе два раненые по случаю пробираючись чрез турецкое войско к нашему войску» 31.
Молдавский источник проясняет подоплеку этого события. По сообщению летописи Енаки Когэльничану, арнауты господарской службы ходили вооруженными по улицам Ясс; турки попытались их разоружить, и это привело к кровопролитию. Желая пресечь беспорядки, турецкий паша приказал повесить еще двоих арнаутов. Тогда эти наемники втайне сговорились между собой перейти на сторону русских и целым конным отрядом двинулись из Ясс к реке Прут. Узнав об этом, турки выслали погоню, но арнауты спешились, дали бой и нанесли поражение преследователям, после чего благополучно исполнили свое намерение 32.
В дальнейшем такие переходы продолжались, и в итоге в мае – начале июня 1769 г. на сторону русских перешла значительная часть военных сил молдавского господаря Григория Каллимаки. Тот безуспешно пытался оправдаться перед великим визирем, который как раз тогда прибыл с главными силами к урочищу Рябая Могила на Пруте. Несомненно, переход молдавских арнаутов на сторону русских в мае 1769 г. послужил для турок весомым доказательством измены правителя Молдавии. Уже 14 июня 1769 г. он был смещен с престола и арестован, а 28 августа (8 сентября) того же года казнен в Константинополе 33.
Таким образом, принятые князем Прозоровским меры по разложению арнаутских формирований не только нарушили соответствующие планы неприятеля, но и привели к падению и гибели недружественного России господаря Григория Каллимаки, появлению в рядах русской армии отрядов арнаутов, незаменимых для решения определенных задач, а также создали основу для последующего широкого набора на службу в русской армии добровольцев из числа жителей княжеств.
После продлившейся почти полтора месяца дополнительной подготовки 1-я армия Голицына была готова начать новое наступление. 23 июня она подошла к деревне Самошин на левом берегу Днестра, где скрытно наводился мост для переправы, с 24 до полудня 25 июня армия перешла через Днестр и двинулась к Хотину 34. 2 июля под стенами Хотинской крепости русские войска встретили передовой турецкий корпус под командованием румелийского сераскера 35 Мехмет-паши. Будучи потеснены русским авангардом, турки не приняли генерального сражения. Часть их отступила на юг, а значительные силы укрылись в стенах крепости. И вновь, как и в минувшем апреле, не сбылись надежды на повторение ситуации 1739 г., когда победа в полевом сражении повлекла быструю сдачу Хотина. Ближайший артиллерийский осадный парк находился в Киеве, и в течение всей кампании 1769 г. так и не было найдено конского состава для его передвижения. В этих условиях у Голицына не оставалось иного выбора, кроме как пытаться принудить противника к сдаче путем блокады и «бомбардирады» внутренностей крепости полевой артиллерией. Избыточная численность и скученность гарнизона делала неизбежными большие потери от этих обстрелов и голода, так что план имел весомые шансы на успех.
Период блокады Хотина в июле 1769 г. был ознаменован новыми, более активными контактами русского командования с представителями молдавской политической элиты. Уже 4 июля, спустя два дня после прибытия Голицына под Хотин, к нему прибыли «от молдавских так называемых бояр» несколько «чиновных людей с поклоном и с представлением своих услуг» 36. В ответ на это Голицын писал к ним, «чтоб они в доказателство своего усердия на первой случай прислали сюда сколько их сил и возможностей будет, всяких съестных припасов или хотя одних печеных хлебов, а в то же время по объявлению сих присыланных о спрятанном внутри Молдавии по разным местам скоте, велел нарочныя команды для забрания отправить» 37. Затем 11 июля к Голицыну вновь явились «из разных молдавских мест и деревень несколко чиновных людей и дворян» с «поклоном» и просьбой о покровительстве 38.
После этого появились посланцы от высшего духовенства. В реляции от 13 июля Голицын докладывал: «Вчерашняго числа приезжали ко мне из двух здешних монастырей от молдавского митрополита Якова (Путнянского, бывшего митрополита Молдавии. – В.К.) и епископа Досифея Радаускаго по нескольку чиновных монахов и светских людей с хлебом и солью и с писмами, содержащими в себе поздравление со внесением в здешнюю землю победоносного Вашего Императорского Величества оружия, моление ко Всевышнему о дальных успехах противу нечестивых варваров и прошение о Монаршей Вашей к ним и к их православному обществу милости и покровителстве, чем я их в ответных моих писмах и обнадежил, послав притом и писменные салвогвардии 39, которых они на свои деревни требовали» 40. Таким образом, именно высшее духовенство Молдавии выступило в авангарде установления союзнических отношений с русским командованием. Но примечательно, что в те недели никак не проявил себя правящий митрополит Гавриил (Каллимаки), дядя низложенного господаря Григория, фактически – вторая по влиянию фигура во властной иерархии княжества.
В течение нескольких недель были достигнуты принципиальные договоренности и с ключевыми представителями светских властей. 7 июля Голицын докладывал, что получил письмо с информацией о противнике от «одного молдавского и в делах неприятеля употребляющего[ся] чиновного человека». Этот человек ‒ стольник Константин Когэлничану, служивший в тот период исправником (главой местной администрации) сразу в трех цинутах в центральной части северной Молдавии – Дорохой, Ботошань и Хырлэу. Связь с ним была установлена через подполковника Н. А. Каразина, несколькими днями ранее доставившего ему сальвогвардию от главнокомандующего 41. Фактически на сторону России явочным порядком начали переходить местные структуры власти Молдавского княжества.
При этих взаимных контактах обе стороны достаточно открыто обозначали предмет своего первостепенного интереса. Молдавским боярам и церковникам в тот период более всего была нужна защита их вотчин от реквизиций и любых иных поборов со стороны вступивших в северные цинуты княжества русских войск. Князю Голицыну же были необходимы поставки продовольствия и фуража, с чем он связывал успех действий под Хотином. В реляции от 9 июля главнокомандующий писал: «…а особливо естьли и подаваемая в том от молдавцов надежда не обманет, армия Вашего Императорского Величества на здешней стороне (Днестра. – В.К.) никакой нужды понести не может» 42. При этом Голицын охотно давал соответствующие письменные сальвогвардии, а молдавские сановники – устные обещания предоставлять снабжение армии под Хотином. Однако ограниченность ресурсов представляла серьезное препятствие для развития наступления. Голицын докладывал: «А в протчем сии молдавцы при всем своем к нашей стороне являемом усердии не могли, однако ж, уверить, чтоб армия Вашего Императорского Величества при вступлении своем далее в Молдавию достаточное себе пропитание от сея земли найти могла, потому что турки и без того уже тамошних жителей всем и так ограбили, что им самим к пропитанию единственно только на нынешнюю жатву надежда остается» 43.
Одновременно с блокадой Хотина главными силами русской армии, передовой корпус легких войск Прозоровского был выдвинут дальше в глубь Молдавии. Его разведывательные партии заняли город Ботошаны, ключевой дорожный узел в северной части княжества, а передовые разъезды приближались и к столичным Яссам. Ключевую роль здесь играл отряд арнаутов под командованием капитана М. Ангелова. Действуя в качестве тайных лазутчиков, они помогли завязать и поддерживать связи с пророссийски настроенными молдавскими боярами в столице княжества. Этому весьма благоприятствовал и краткий период безвластия в Яссах, поскольку до прибытия нового господаря Константина Маврокордата бояре чувствовали себя гораздо свободнее в делах и помыслах и говорили русским лазутчикам даже о готовности поднять вооруженное восстание.
8 июля Прозоровский докладывал Голицыну: «Посланные мои отставной гусарской вахмистр и Черного гусарскаго полку гусар в Ясах с писмом от меня к боярам были, из которых вахмистр ко мне возвратился от бояр с тем уверением, что провиянтов и фуражей есть доволное число и еще заготовлять будут, толко чтоб ваше сиятелство с армией туда придвинулись» 44. 10 июля капитан М. Ангелов сообщил, что, двигаясь по Ясской дороге, он прибыл в местечко Ботошаны и отправил оттуда на разведку дальше к Яссам отставного вахмистра Ивана Сакадотьева с донскими казаками, а также группу волонтеров под началом арнаутского капитана Гаврилы. Эта передовая партия Ангелова, «подъехавши близ Яс, послали от себя одного арнаутскаго капитана Рудя, перебравшись в мужичье платье, которой и был в Ясах у самых панов волоских, где и застав тысяч до двух турков, да столко ж в окружности Ясов было, но из них болше в Ясах не осталось, как до пяти сот, и Караман паша раненой и визиря чоходар со всею казною визирскою там находитца и капича баша, которой на место господаря волоскаго, и конфедерацкой весь обоз близ Яс в суконной фабрике от Ясов в 7ми верстах, а до двух тысяч турков в окружности Ясов находятца, а протчие ушли, и так волоския паны онаго капитана Рудя тайным образом из Ясов отправили при своих двух верных людях к нам, где я с осталною командою находился, которыя волоския паны чрез своих людей весма просили, чтоб войска российского прислать хотя до двух тысяч, а и они с своими людьми помочь дадут, чтобы оных турков разбить и разогнать» 45.
Получив столь ценные данные разведки, Прозоровский задумал было совершить внезапное нападение на Яссы, чтобы завладеть турецкой казной, и даже послал к Ангелову на подкрепление два эскадрона гусар и триста казаков 46. Но затем дополнительная разведка показала, что в Яссах имелись обнесенный каменной стеной дворец господаря, еще один каменный монастырь, пригодный для обороны, а также несколько пушек. Это вынудило Прозоровского отложить свой план 47.
Таким образом, в июле 1769 г., в период блокады Хотина, русским командованием были развиты и упрочены прежние и завязаны новые контакты с представителями высшего молдавского духовенства и боярства. В политическом отношении занятие Молдавии было в значительной мере подготовлено, однако необходимым условием для этого оставалась военная победа над турками под Хотином.
Блокада и «бомбардирада» Хотинской крепости быстро сделали положение ее многочисленного гарнизона отчаянным. Получив известия об этом, великий визирь, стоявший в то время с главными силами при Бендерах, отказался от замысла планов вторжения в Елисаветградскую провинцию и двинулся на выручку Хотинской крепости. С приближением главных сил турок Голицын был вынужден 25 июля снять блокаду Хотина, чтобы собрать свои войска в единый кулак для встречи противника. Однако турки не пошли на полевое сражение, а вместо этого стали активно укрепляться в лагере на труднодоступном возвышенном месте близ крепости. В этой ситуации русский главнокомандующий, как и никто другой до него в истории русско-турецких войн, не решался на штурм укрепленного лагеря главных сил османской армии. За четыре недели стояния под Хотином русские войска не испытывали недостатка продовольствия, однако ситуация с фуражом для лошадей стала критической: блокирующие крепость войска опустошили окрестности на десятки верст. В результате конница 1-й армии временно практически утратила боеспособность, последствия чего ощущались и позднее, даже в кампанию 1770 г. Из-за этого Голицын был ограничен в возможности атаковать противника, имевшего огромное превосходство в коннице, и также тревожился за безопасность своих коммуникаций на левом берегу Днестра.
В этих условиях Голицын, заручившись согласием военного совета генералов армии, принял решение отступить обратно на левый берег Днестра, чтобы иметь возможность встретить турок на выгодной оборонительной позиции. Переправа была осуществлена в полном порядке в течение ночи с 1 на 2 августа 1769 г. В реляции 2 августа Голицын так объяснил это решение: «Когда уже возможности не было ни крепость взять, ни сего неприятеля без отваги (т. е. без риска. – В.К.) атаковать, и не оставалось мне, Всемилостивейшая Государыня, как в самом деле о немедленном переходе на другую сторону Днестра в Польше переходе помышлять, не от опасности сил неприятелских, но единственно для того, чтоб без всякого предмета и намерения под Хотином далее не стоять и чтоб происходящие от оскудения фуража вредные для всей нашей конницы следствии благовремянно и тем паче отвратить, что неприятель множеством имеющейся при нем конницы не токмо пред нами во всем усиливаться стал, но и на другую сторону Днестра для нанесения всяких нам препятствей легко уделить мог» 48.
Реляции Голицына 31 июля и 2 августа были прочитаны в Совете при Высочайшем дворе на заседании 13 августа 1769 г. Известие о вторичном отходе 1-й армии за Днестр переполнило чашу терпения императрицы, и на том же заседании было объявлено ее решение об отзыве Голицына в Петербург и назначении на его место графа П. А. Румянцева из 2-й армии, которая, в свою очередь, вверялась генерал-аншефу графу П. И. Панину 49. Таким образом, командование обеими полевыми армиями оказалось в руках сторонников «Панинской партии». Однако в силу факторов времени и пространства Румянцев смог прибыть к войскам 1-й армии лишь 17 сентября 1769 г. До этого времени Голицын продолжал оставаться в прежней должности, и как раз в эти недели и произошли решающие события всей кампании 1769 г.
Осторожная стратегия прежнего главнокомандующего наконец полностью оправдала себя. В оборонительном генеральном сражении 29 августа 1769 г. при деревне Руда и в Рачевском лесу на «польском» берегу Днестра, напротив Хотина, русская 1-я армия нанесла поражение главным силам великого визиря Молдованджи Али-паши, которые переправились через реку по наведенному ими понтонному мосту 50. А затем 6 сентября сильный паводок на Днестре разрушил этот мост, и отборный турецкий авангард силой до 12 тыс. человек под началом двухбунчужного паши Орай Углу оказался отрезан от основных сил на левом берегу в предмостном укреплении у села Брага. Голицын решил воспользоваться этим и в ту же ночь, с 6 на 7 сентября, атаковал своими отборными силами. Восемь гренадерских батальонов «резервного корпуса» и двенадцать гренадерских рот из пехотных полков, разделенные на четыре отдельные колонны под началом лучших полковых командиров русской армии, в ночной тьме, при проливном дожде, в непролазной грязи и слякоти штурмовали и взяли турецкий предмостный ретраншемент; большинство защитников были переколоты штыками 51.
На следующую ночь с 7 на 8 сентября Голицын приказал установить прямо на берегу Днестра несколько артиллерийских батарей, и утром началась бомбардировка османского лагеря, располагавшегося на противоположном берегу реки под стенами Хотина [Петров 1866, 253]. Эти события стали переломным моментом всей кампании 1769 г. Пришедшая к Хотину огромная по численности османская армия и так испытывала огромные трудности со снабжением продовольствием; войска уже были деморализованы неудачными боями. А катастрофа авангарда на северном берегу Днестра и «канонада и бомбардирада» лагеря привели к окончательному психологическому надлому. Армия великого визиря, не будучи разгромлена в полевом сражении, начала стихийное и неуправляемое отступление, фактически – бегство в направлении Бендер и Дуная.
В ночь с 8 на 9 сентября 1769 г. турки оставили Хотин без боя. На следующее утро это обнаружили казаки, с немалым трудом переплывшие через поднявшийся Днестр на разведку. Сразу после этого на найденных турецких паромах переправились 1-й и 3-й гренадерские полки под командой генерал-поручика барона И.К. фон Эльмпта, и сильнейшая твердыня на северных рубежах Османской империи пала. При этом сам момент ее взятия получил почти курьезный характер: «Переправясь против сей крепости, нашел он (Эльмпт. – В.К.) ее со всех сторон запертой, так что принужден находился приказать не токмо нарочно отправленною с полковником Мелисиным командою вороты отбивать, но в то же время и некоторому числу гранодер при майоре Врангеле и капитанах Гензеле и Стакельберге чрез стену перелазить» 52. «По отворении наконец ворот вошел он туда со всей командой и паки нашел, что сия крепость, несмотря на ея важность, неприятелем совершенно и так оставлена, что покинуто в оной только человек с дватцать мужеска и женска пола по большой части престарелых» 53. Высланные вскоре кавалерийские партии не смогли обнаружить турок нигде поблизости от Хотина.
10 сентября князь А. М. Голицын со всем штабом и европейскими волонтерами переправился на паромах через Днестр, после торжественного молебна и салюта осмотрел Хотинскую крепость и найденные в ней многочисленные трофеи. И в этот же день главнокомандующий написал письмо тайному союзнику России великому спэтару 54 Валахии Пырву Кантакузино, в котором с нескрываемой радостью сообщил, что «ключ всей Молдавской земли, то есть важная неприятельская крепость Хотин победоносному Ея Императорского Величества оружию действительно покорена» 55. Одновременно с этим был составлен и манифест к жителям Молдавии с призывом преследовать и истреблять бегущего неприятеля 56. С письмом для П. Кантакузино и этим манифестом в глубь княжества первым был отправлен подполковник Н. А. Каразин с приданной ему небольшой партией арнаутов и казаков.
Именно тогда, сразу после неожиданного падения Хотина, князь Голицын, не имея никаких указаний из Петербурга, по собственной инициативе принял важное, поистине судьбоносное решение – уже осенью, под занавес кампании того года, занять территорию Молдавии. Отчасти это повторяло действия Миниха в 1739 г., но теперь, в начале новой войны с Турцией, это означало, что русским войскам придется впервые в истории остаться зимовать в Молдавском княжестве и начать его долговременную оккупацию. Как докладывал Голицын в реляции 10 сентября, он распорядился направить корпус отборных войск под началом генерал-квартирмейстера 1-й армии генерал-поручика барона И.К. фон Эльмпта «для далного преследования бегущаго неприятеля, для занятия молдавского столичного города Яс и для приведения к присяге в верности всех чинов и жителей сего теперь во власти уже Вашего Императорского Величества находящагося княжества, а предварительно разсылаю туда о том нарочно сочиненные писменные манифесты» 57.
12 сентября Голицын дал Эльмпту подробную инструкцию, которая предписывала тому двигаться прямо к Яссам, попутно высылая легкие партии для поиска неприятельских сил, и одновременно созывая представителей местной знати в столицу княжества. Последних следовало собрать в главной городской церкви и устроить торжественную присягу на верность императрице Екатерине II. Главнокомандующий обращал особое внимание на строжайшее соблюдение дисциплины, недопущение насилий над жителями и отказ от взимания любых контрибуций и сборов 58.
Дождливая погода, осенняя распутица и нехватка паромов и понтонов позволили основным силам И.К. фон Эльмпта закончить переправу через Днестр лишь к 17 сентября 59. 18–20 сентября его войска переправились через реку Прут у деревни Крива 60 и двинулись к Ботошанам, первому на их пути значительному городу на севере Молдавии. Легкий корпус Прозоровского от Днестра следовал отдельным путем, прикрывая Эльмпта, а потом двинулся к урочищу Рябая Могила на Пруте. К 22 сентября оба корпуса соединились в Ботошанах (Прозоровский прибыл туда на два дня раньше). Здесь их встретили и приветствовали представители молдавского боярства и духовенства из окрестных монастырей. С приветственной речью на русском языке выступил известный церковный деятель архимандрит Паисий (Величковский; 1722– 1794), настоятель монастыря Драгомирна и уроженец Полтавы. По словам Эльмпта, манифест Голицына о вступлении русских войск в Молдавию был уже широко известен в княжестве 61, очевидно, во многом благодаря действиям Каразина, проследовавшего через те места на юг примерно неделей ранее. И это также облегчило задачу командующих русским авангардом по привлечению молдавской аристократии на сторону России.
Оставив бо́льшую часть сил при Ботошанах, генерал Эльмпт, для скорости взяв всего четыре батальона гренадер, егерский корпус и легкую конницу, двинулся к столице Молдавии. Высланная вперед к Яссам конная партия подполковника Желтого гусарского полка Ивана Хорвата «вошла с отменною скоростью и храбростию во оной город, где найдено турок и конфедератов до осмидесяти, ис которых ни один не спасся, все перерублены» 62. Точная дата занятия Ясс конным авангардом в документах русского командования не приводится, но, согласно записям оказавшегося там французского дипломата П. Рюффена, это произошло 1 октября, т. е. 20 сентября по старому стилю [Deherain 1923, 25]. А 26 сентября (7 октября) 1769 г. сам генерал-поручик Эльмпт с главными силами вверенного ему корпуса торжественно вступил в Яссы. И в этот же день в новом кафедральном соборе города состоялась возглавленная митрополитом Гавриилом (Каллимаки) торжественная церемония присяги молдавского боярства на верность императрице Екатерине II.
Однако далеко не все представители молдавской знати сочувствовали России и поддерживали ее. Назначенный Портой господарь Константин Маврокордат со своими сторонниками бежал на юг, к Дунаю, где под контролем турок оставался главный торговый порт Молдавии – Галац – а также крепости Браилов, Измаил и Килия. Кроме того, турки сохранили важные крепости Бендеры на Днестре и Аккерман на Днестровском лимане. Крупные силы Крымского юрта во главе с ханом оставались сосредоточены в Буджаке и готовились с наступлением холодов совершить опустошительные набеги на восточные цинуты Молдавского княжества (будущую Бессарабию) под предлогом наказания местных жителей за измену. Так что продолжение ожесточенной борьбы было неизбежно.
В сентябре 1769 г., осмысляя складывающуюся новую военно-политическую реальность, глава внешнеполитического ведомства России граф Н. И. Панин выдвинул смелую идею – вписать решение вопроса о судьбе Молдавии в общий процесс умиротворения Речи Посполитой и закрепления там российского влияния. В связи с этим 30 сентября 1769 г. (т. е. еще до того, как известие о занятии Ясс могло достичь Петербурга) в письме послу в Варшаве князю М. Н. Волконскому он писал: «Присоединение Молдавии к Российской державе никогда нам полезным быть не может; она не в состоянии ни против кого сама себя защищать, а отдаление ее он наших границ всегда обременит больше нашу собственную защиту, возвращение же ее в старинное польское владение не только обяжет существительным образом к России польскую республику, но и подаст нам еще вновь натуральный способ наипаче утвердить и обеспечить в пользу нашей инфлюенции, уже независимо от диссидентов протестантского исповедания, одно наше единоверие» 63. Однако Екатерина II, первоначально одобрившая идею Панина, затем начертала на ответной депеше Волконского: «Молдавия завоевана русскими войсками» 64. И эти слова ясно указывали, что Молдавское княжество воспринималось правительницей России как важный трофей, от которого она не собиралась так просто отказаться и тем более переуступить его кому-либо.
***
События Днестровской кампании 1769 г. красноречиво свидетельствуют, что российское руководство в начальный период войны с Османской империей не было в достаточной степени подготовлено ни к ведению борьбы на территории Молдавия, ни к работе по привлечению на свою сторону правящей элиты и населения княжества. Стратегический план кампании 1769 г., выработанный в ноябре – декабре 1768 г., демонстрировал неизбежные изъяны поспешного коллективного творчества, как и следы соперничества различных партий при дворе и в высшем военном руководстве империи. Главное, практически неразрешимое его противоречие заключалось в постановке задачи по овладению Хотином – ключом всей Молдавии – без возможности доставить под его стены осадный артиллерийский парк. Помимо отсутствия продуманных стратегических военных планов, существовала нехватка информации о политической ситуации в Молдавии, о расстановке сил в ее правящей верхушке, о партиях и кланах молдавского боярства, не говоря уже о топографических картах и статистических данных о Дунайских княжествах. Все это, несомненно, следует признать упущением петербургского кабинета и персонально Н. И. Панина, который до начала войны единолично руководил внешней политикой империи и был чрезмерно сконцентрирован на задаче по подчинению Польши.
Отсутствие разведывательной и политической подготовки пришлось компенсировать методами активной творческой импровизации, что вообще было присуще внешней политике России в начальный период правления Екатерины II. Инициативы выдвигались на самых разных уровнях – от высших сановников империи (проект Архипелагской экспедиции братьев Орловых) до простых армейских командиров (генерал-майор А. А. Прозоровский) и даже частных лиц (отставной секунд-майор Н. А. Каразин и др.). А успехи подобного стихийного творчества в кризисных условиях всегда являются показателем общей эффективности государственного механизма, его системы кадрового отбора, служебных и личных достоинств выдвигаемых для ответственных поручений людей.
В период командования 1-й армией в 1769 г. генерал-аншеф князь А. М. Голицын не принимал каких-либо выдающихся полководческих решений, не отметился смелыми маневрами, решительными атакующими действиями против главных сил противника (как это делал Румянцев в сражениях при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле в кампанию 1770 г.). Основные полевые баталии Голицын проводил оборонительно, добиваясь истощения турецких сил в безуспешных атаках на позиции русских войск. Его стратегия неизменно была реалистической и осторожно-прагматичной. Важно подчеркнуть, что генерал-аншеф в течение всей кампании действовал в рамках данных ему перед началом кампании стратегических директив, и при этом имел мужество ставить интересы вверенной армии выше политических и своих личных карьерных интересов. Помимо руководства военными действиями, Голицын не пренебрегал политическими вопросами и всемерно поддерживал любые предприятия и начинания, направленные на сближение Молдавии с российской стороной. Избранная им линия увенчалась успехом как в военном, так и политическом отношении. Приведенные в этой статье данные должны по меньшей мере способствовать пересмотру установившихся в историографии тенденциозных оценок и суждений о деятельности Голицына в ходе кампании 1769 г. и обосновать необходимость дальнейшего подробного исследования военных событий того года по сохранившемуся достаточно большому комплексу документальных материалов походной канцелярии главнокомандующего 1-й армией.
Кампания 1769 г. также оказалась исключительно насыщена различными примечательными эпизодами взаимодействия русской армии и населения Молдавии. Ключевой фигурой и главным действующим лицом здесь выступил командующий передовым корпусом генерал князь А. А. Прозоровский, который во многом по собственной инициативе с самого начала боевых действий, с февраля 1769 г., развил бурную деятельность по установлению разведывательных и политических контактов с влиятельным духовенством и представителями боярства северной части Молдавского княжества.
С самого начала войны, несмотря на неизбежные эксцессы военного времени, ярко и несомненно проявились симпатии к России широких слоев населения Молдавии. А установленные разведывательно-агентурные контакты с представителями высшего молдавского духовенства и частью боярства достаточно быстро переросли уже в политические связи и предварительные договоренности. Впрочем, командование русской армии воспринимало это трезво и прагматично, понимая, что даже самые горячие русофильские эмоции еще не означали действительную готовность молдавской элиты оказывать необходимую материальную помощь российским войскам.
В период блокады русской армией Хотина в июле 1769 г. контакты русского командования с пророссийской партией приобрели широкий и систематический характер. И вновь ведущую роль здесь сыграли командир передового корпуса генерал А. А. Прозоровский и тайный эмиссар подполковник Н. А. Каразин, неизменно пользовавшиеся доверием и поддержкой Голицына. Наряду с успехами войск русской 1-й армии их деятельность смогла заблаговременно, еще до падения Хотина, подготовить и необходимые политические и организационные условия для занятия большей части территории Молдавии, долговременного пребывания в княжестве и использования его в качестве стратегического ближнего тыла в только начинавшейся большой войне против Османской империи.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи.
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив.
ЖВД 1769 – Журнал военных действий армий Ея Императорского Величества 1769 года. СПб., [1770].
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
АВПРИ. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 89/1.
Архив военно-походной канцелярии графа П. А. Румянцева-Задунайского. Ч. I. 1767–1769 / сообщ. М. О. Судиенко // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1865. Кн. 1. С. I–II, 1–270; Ч. II. 1770–1774 // Там же. 1865. Кн. 2. С. 1–330;
Архив Государственного совета. СПб.: в Типографии Второго отделения Собственной Е. И.В. Канцелярии, 1869. Т. 1. Совет в царствование императрицы Екатерины II-й (1768–1796 гг.). 1072 с.
ЖВД. 1769.
Журнал камер-фурьерский, 1769 года: Церемониальный, банкетный и походный журнал 1769 года. [СПб.], б. г.
Записки генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского (1756–1776). М.: Редакция альманаха «Российский Архив», 2003.
Мышлаевский А. З. Война с Турциею 1711 года. (Прутская операция). Материалы, извлеченные из архивов: Государственного, Военно-Ученого, Главного Морского, Канцелярии Военного Министерства, С.-П.-Б. Артиллерийского Музея, Рижского Генерал-Губернаторского, Академии Наук и Рукописного Отделения С.-П.-Б. Императорской Публичной Библиотеки / Издание Военно-Ученого Комитета Главного Штаба // Сборник военно-исторических материалов. Выпуск XII. СПб., 1898;
П. А. Румянцев / сост. Е. П. Воронин; под ред. П. К. Фортунатова. М.: Воениздат, 1953. Т. II. 1768–1775. 864 с.
Письма и бумаги императора Петра Великого. М., 1960. Т. 9. Январь – декабрь 1709 г. Вып. 1, 2.
Рассказ Ресми-эфендия, оттоманского министра иностранных дел, о семилетней борьбе Турции с Россией (1769–1776) // Библиотека для чтения. 1854. Март. Т. 124. Ч. 1. С. 20.
РГВИА. Ф. 10. Гусарское повытье канцелярии Государственной Военной коллегии. Оп. 2/109; Ф. 846. Военно-ученый архив. Оп. 16.
Россия и освободительная борьба молдавского народа против Османского ига (1769–1812) / под ред. Н. А. Мохова и Д. М. Драгнева. Кишинев, 1984.
Сборник Русского исторического общества. СПб., 1893. Т. 87. Политическая переписка императрицы Екатерины II. Ч. 5. 1768–1769 гг.
Фельдмаршал Румянцев: Сб. документов и материалов / под ред. Н. М. Коробкова. М.: ОГИЗ – Государственное издательство политической литературы, 1947. 408 с.
Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de manuscrise ale Apusului de Neculai Iorga. Vol. 1. Bucureşti: Imprimeria Statului, 1895.
[Ahmed Vasif]. Précis historique de la guerre des Turcs contre les Russes depuis l'année 1769 jusq’uà l’année 1774 tiré des annales de l’historien turc Vassif Efendi par P. A. Caussin de Perceval, professeur d’arabe vulgaire à l’Ecole royale et spéciale des langues orientales. Paris: Chez Le Normant, imprimeur-libraire, 1822.
Documente privitoare la Istoria Românilor, culese de Eudoxiu de Hurmuzaki. Bucuresci: Academia Română, Ministerul Cultelor și Instrucției Publice, 1876. Vol. VII. 1750–1818.
Documente privitoare la Istoria Românilor. Urmare la colecţiunea lui Eudoxiu de Hurmuzaki. Suplement I. Vol. I. 1518–1780. Bucuresci, 1886.
[Kogălniceanu E.]. Leatopisețul Țerei Moldovei de la domniea ântêiŭ şi pâně la a patra domnie a luĭ Constantinŭ Mavrocordatŭ V. V. Scrisŭ in Țarigradŭ de Enaki Kogălniceanu, biv vătaf de aprozi (1733– 1744) // Cronicele României séu Letopisețele Moldaviei şi Valahiei / еd. II revedută, îndestrată cu note, biografii şi facsimile, cuprindendu mai multe cronice nepublicate încă; şi, ca adaosu: Tablele istorice ale Romăniei de la 1766 pâna la 11 februarie 1866, de Mihail Kogălniceanu. Bucureşti: Imprimeria Națională C. N. Rădulescu, 1874. T. 3.
1 Архив военно-походной канцелярии графа П. А. Румянцева-Задунайского. Ч. I. Кн. 1. С. I–II, 1–270; Ч. II. Кн. 2. С. 1–330; Фельдмаршал Румянцев; П. А. Румянцев. Т. II. М., 1953.
2 Россия и освободительная борьба молдавского народа против Османского ига (1769–1812).
3 См.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Вып. 1. С. 410–411; Вып. 2. С. 1289–1293.
4 О Прутском походе подробнее см.: Мышлаевский А. З. Война с Турциею; [Водарский 2004; Артамонов 2019].
5 Миниховская – неформальное обозначение войны 1736–1739 гг., Румянцевская – 1768–1774 гг. Называются так по имени наиболее значимых главнокомандующих русской армии.
6 Об этом см.: АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1738 г. Ед. хр. 52. Л. 1–20.; [Bogdan 1957].
7 РГВИА. Ф. 10. Оп. 2/109. Ед. хр. 18. Л. 86об.
8 Там же. Л. 120.
9 Documente privitoare la Istoria Românilor, culese de Eudoxiu de Hurmuzaki. № XLV. P. 56–57; Documente privitoare la Istoria Românilor. Urmare la colecţiunea lui Eudoxiu de Hurmuzaki. Suplement I. Vol. 1. 1518–1780. P. 758; Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de manuscrise ale Apusului. Vol. 1. P. 399. [Xenopol 1897, 63–64]; [Hammer J. von. 1832, 310–311].
10 Архив Государственного совета. Т. 1. Стлб. 8.
11 Там же. Стлб. 6.
12 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 102об.
13 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1825. Л. 289–291.
14 Там же.
15 Там же. Л. 288‒288об.
16 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1825. Л. 289–291; о том же см.: Записки генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского. С. 210.
17 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1825. Л. 289–291.
18 Там же; о том же см.: Записки генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского. С. 210.
19 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1825. Л. 201–202об., 207.
20 Там же. Л. 294.
21 Там же. Л. 398–406.
22 Там же.
23 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 273–274.
24 Там же. Л. 275–276.
25 Там же. Л. 334–335об.; ЖВД 1769. С. 5.
26 Журнал камер-фурьерский, 1769 года. С. 68–74.
27 См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 341–342об.
28 Там же. Л. 122об.
29 Там же. Л. 124об.
30 См.: Рассказ Ресми-эфендия. С. 20.
31 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1825. Л. 541. Об этом же см.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 363–364об. Сообщение было почти дословно воспроизведено и в Журнале военных действий, с тем лишь уточнением, что эти арнауты были христианами. См.: ЖВД 1769. С. 20–21.
32 [Kogălniceanu E.] Leatopisețul Țerei Moldovei. P. 261–262.
33 См.: Documente privitoare la Istoria Românilor, Urmare la colecţiunea lui Eudoxiu de Hurmuzaki. Suplement I. Vol. I. 1518–1780. P. 788–789.
34 ЖВД 1769. С. 36.
35 Сераски́р, сераске́р (тур. serasker) – в Османской империи высокая военная должность, главнокомандующий, начальник войск на отдельном театре военных действий. Сераскир назначался из числа двух- или трехбунчужных пашей, т. е. из чинов, соответствовавших российским генерал-поручику или генерал-аншефу.
36 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 461–462.
37 Там же.
38 Там же. Л. 469–470об.
39 Сальвогвардия – охранный лист, дававшийся командованием армии конкретным лицам и населенным пунктам в целях предотвращения возможных насилий, грабежей и бесконтрольных реквизиций со стороны войск.
40 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 474–475.
41 Там же. Л. 471–471об; там же. Л. 472–472об.
Ранее в книге о подполковнике Н. А. Каразине, еще не использовав данные документы, я высказал предположение о том, что этот офицер, вернувшись в начале июня 1769 г. из эпически трудной и опасной миссии в Валахию, в течение лета отдыхал и восстанавливал силы при главной квартире 1-й армии. Однако реляции Голицына свидетельствуют, что уже в июне Каразин вновь выполнял важные разведывательно-дипломатические задания, на сей раз по установлению связей с высшим молдавским боярством. И это служит еще одним подтверждением того, что в 1769 г. Каразин играл выдающуюся роль в политике России в отношении Дунайских княжеств и проявлял при этом исключительную энергию и выносливость.
42 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 468–468об.
43 Там же. Л. 469–470об.
44 РГВИА. Ф. 846 (ВУА). Оп. 16. Ед. хр. 1825. Л. 686–687; о том же см.: Записки генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского. С. 287; ЖВД 1769. С. 51.
45 РГВИА. Ф. 846 (ВУА). Оп. 16. Ед. хр. 1825. Л. 688–688об.; о том же см.: Записки генерал-фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского. С. 288; РГВИА. Ф. 846 (ВУА). Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 474–475.
46 См.: РГВИА. Ф. 846 (ВУА). Оп. 16. Ед. хр. 1825. Л. 693.
47 См. там же. Л. 697.
48 РГВИА. Ф. 846 (ВУА). Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 507–508об.
49 Архив Государственного совета. Т. 1. Стлб. 31.
50 См.: ЖВД 1769. С. 86–90; [Петров 1866, 239–246].
51 См.: ЖВД. 1769. С. 93–97, 103; [Петров 1866, 251–253]; [Ahmed Vasif]. Précis historique. P. 55–56.
52 РГВИА. Ф. 846 (ВУА). Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 575–576об. О том же см.: ЖВД 1769. С. 98–99.
53 Там же.
54 Спэта́р, великий спэта́р (рум. spătar, mare spătar, от греч. σπαθάριος, досл. «меченосец») – в средневековом княжестве Валахия высокий придворный боярский чин. В обязанности спэтара входило ношение меча и буздугана (булавы) господаря на церемониях. Позднее великий спэтар был командующим конницей или, в отсутствие господаря, главнокомандующим всеми вооруженными силами. Примерно соответствовал чину хатмана (великого хатмана) в Молдавии.
55 РГВИА. Ф. 846 (ВУА). Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 584–584об.
56 Там же.
57 Там же. Л. 575–576об. О том же: ЖВД 1769. С. 100–101.
58 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1845. Л. 581–582.
59 Там же. Л. 595–601.; о том же см.: ЖВД 1769. С. 103–104.
60 В современном Бричанском районе Республики Молдова.
61 См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ед. хр. 1847. Л. 9–12об.; о том же см.: ЖВД 1769. С. 107–110.
62 Там же.
63 Сборник Русского исторического общества. Т. 87. С. 502.
64 Там же. С. 510.
About the authors
Vasiliy B. Kashirin
Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: vbkashirin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2653-7063
PhD (History), Senior Research Fellow
Russian Federation, MoscowReferences
- Arsh G. L. Rossiyskie emissary v Peloponnese i Arkhipelagskaya ekspeditsiya 1770–1774 godov. Novaya i Noveyshaya istoriya, 2010, no. 6, pp. 60–72. (In Russ.)
- Arsh G. L. Rossiya i bor’ba Gretsii za osvobozhdenie: ot Ekateriny II do Nikolaya I: Ocherki. Moscow, Indrik Publ., 2013, 279 p. (In Russ.)
- Artamonov V. A. Russko-turetskaya voyna 1710–1713 gg. Moscow, Kuchkovo pole Publ., 2019, 448 p. (In Russ.)
- Bayov A. K. Russkaya armiya v tsarstvovanie imperatritsy Anny Ioannovny. Voyna Rossii s Turtsiey v 1736– 1739 gg. St. Petersburg, Elektro-Tipo. N. Ya. Stoykovoy, 1906, t. 2. Kampaniya 1739 g. 398 p. (In Russ.)
- Bezviconi Gh. G. Contribuţii la istoria relaţiilor româno-ruse (din cele mai vechi timpuri pînă la mijlocul secolului al XIX-lea). Bucureşti, Academia Republicii Populare Romîne, Institutul de studii Romîno-Sovietice, 1962, 347 p.
- Bogdan D. P. Legăturile serdarului Lupu Anastasă cu ruşii (1721–1751). Studii şi materiale de istorie medie. Bucureşti, Academia Republicii Populare Romîne, Institutul de istorie, 1957, vol. 2, pp. 345–389.
- Deherain H. La mission du baron de Tott et de Pierre Ruffin auprès du khan de Crimée. Revue de l’histoire des colonies françaises, 1923, pp. 1–32.
- Druzhinina E. I. Kyuchuk-Kaynardzhiyskiy mir 1774 goda (ego podgotovka i zaklyuchenie). Moscow, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR Publ., 1955, 368 p. (In Russ.)
- Duminica I. Voluntarii moldoveni şi bulgari din armata rusă (sf. sec. XVIII – înc. sec. XIX): Documente inedited. Сohorta. Revistă de istorie militară. Chişinău, 2014, no. 1, pp. 20–37.
- Felea A. Cateva date despre familia Imbault. Tyragetia. Seria noua, 2008, no. 2(17), pp. 137–140.
- Grebenshchikova G. A. Baltiyskiy flot v period pravleniya Ekateriny II. St. Petersburg, Nauka Publ., 2007, 719 p. (In Russ.)
- [Hammer J. von.] Geschichte des Osmanischen Reiches, großentheils aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven. Pest, 1832, bd. 8. Vom Belgrader Frieden bis zum Frieden von Kainardsche. 1739–1774, 258 p.
- Iorga N. Istoria armatei românești. București, Tipografia «Cultura neamului românesc», 1919, vol. 2 (de la 1599 până in zilele noastre), 221 p.
- Kashirin V. B. «A nazyvat’ mozhno ikh arnautami»: k voprosu o poyavlenii irregulyarnykh formirovaniy iz urozhentsev Dunaysko-Balkanskogo regiona v russkoy armii v nachale voyny s Turtsiey 1768–1774 gg. Slavyane i Rossiya: Balkany v vikhre natsional’no-osvoboditel’nykh dvizheniy (K 200-letiyu nachala Grecheskoy revolyutsii 1821–1829 gg.). Koll. Monografiya, otv. red. S. I. Danchenko. Moscow, Institut slavyanovedeniya RAN Publ., 2022a, pp. 78–102. (In Russ.)
- Kashirin V. B. Osvoboditel’ Bukharesta: Taynyy emissar Ekateriny II podpolkovnik Nazar Karazin (1731–1783). Moscow, Indrik Publ., 2022b, 623 p. (In Russ.)
- Klokman Yu. R. Fel’dmarshal Rumyantsev v period russko-turetskoy voyny 1768–1774 gg. Moscow, 1951, 204 p. (In Russ.)
- Kotenko I. A. Iz istorii osvoboditel’nogo dvizheniya v Moldavii v period russko-turetskoy voyny 1768– 1774 gg. Uchenye zapiski Tiraspol’skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta im. T. G. Shevchenko. Kishinev, 1957, vyp. 3, pp. 23–42. (In Russ.)
- Kotenko I. A. Iz istorii uchastiya moldavskikh otryadov v russko-turetskoy voyne 1768–1774 gg. Vekovaya druzhba: Materialy nauchnoy sessii Instituta istorii Moldavskogo filiala AN SSSR, sostoyavsheysya 27– 29 noyabrya 1958 g., ed. Ya. S. Grosul, N. A. Mokhov. Kishinev, 1961, pp. 240–244. (In Russ.)
- Matei M. D. Despre poziţia claselor sociale din Moldova şi Ţara Românească faţă de războiul ruso-turc din 1768–1774. Studii. Revista de istorie şi filosofie. Bucureşti, 1953, anul 6, vol. 3, pp. 53–77.
- Mokhov N. A. Druzhba kovalas’ vekami (Moldavsko-russko-ukrainskie svyazi s drevneyshikh vremen do nachala XIX v.). Kishinev: Shtiintsa, 1980, 280 p. (in Russ.)
- Petrov A. N. Voyna Rossii s Turtsiey i pol’skimi konfederatami. S1769–1774 god, sost., preimushchestvenno iz neizvestnykh po sie vremya rukopisnykh materialov, General’nogo shtaba kapitanom A. Petrovym. St. Petersburg, v tip. Eduarda Veymara, 1866, t. 1. God 1769, 332 p.
- Semenova L. E. Knyazhestva Valakhiya i Moldaviya. Konets XIV – nachalo XIX v. (Ocherki vneshnepoliticheskoy istorii). Moscow, Indrik Publ., 2006, 400 p. (In Russ.)
- Smilyanskaya I. M., Velizhev M. B., Smilyanskaya E. B. Rossiya v Sredizemnomor’e. Arkhipelagskaya ekspeditsiya Ekateriny Velikoy, pod obshch. red. E. B. Smilyanskoy. Moscow, Indrik Publ., 2011, 838 p. (In Russ.)
- Solov’ev S. M. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen. Moscow, 1965, kn. XIV, t. 27–28. (In Russ.)
- Tcaci V. Consideraţii privind poziţia populaţiei Moldovei faţă de războiul ruso-turc din 1768–1774. Analele Asociaţiei Naţionale a tinerilor istorici din Moldova. Bucureşti, Chişinău, 2012, vol. 10, pp. 110–130.
- Ulyanitskiy V. A. Dardanelly, Bosfor i Chernoe more v XVIII veke. (Iz 2 i 3 vyp. Sbornika M. Gl. Arkhiva M. I.D.). Moscow, Tipografiya A. Gattsuka Publ., 1883, 484 p. (In Russ.)
- Vianu S. Din lupta poporului român pentru scutirea jugului otoman şi cucerirea independenţei. Studii. Revista de istorie şi filosofie. Bucureşti, 1953, anul 6, vol. 2, pp. 65–95. (In Romanian)
- Vinogradov V. N., Semenova L. E. Nekotorye voprosy otnosheniy mezhdu Rossiey i Dunayskimi knyazhestvami v XVIII – nachale XIX v. v svete materialov sovetskikh arkhivov. Balkanskie issledovaniya, Moscow, 1982, vyp. 8. Balkanskie narody i evropeyskie pravitel’stva v XVIII – nachale XX v. (Dokumenty i issledovaniya), pp. 6–37. (In Russ.)
- Vodarskiy Ya. E. Zagadki Prutskogo pokhoda Petra I. 1711 god. Moscow, Nauka Publ., 2004, 228 p. (In Russ.)
- Xenopol A. D. Istoria și genealogia Casei Callimachi. Bucuresci, Tipografia Curții Regale, F. Göbl FII, 1897, 305 p.