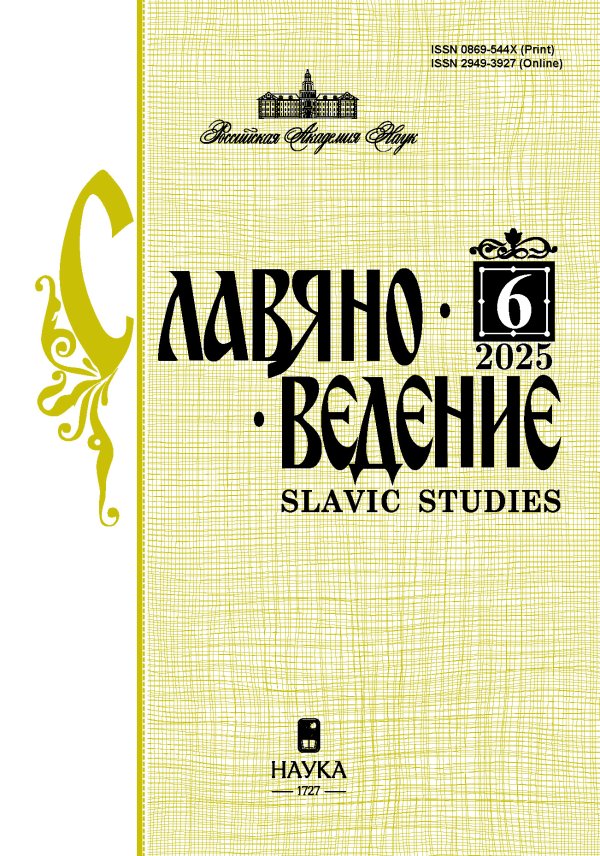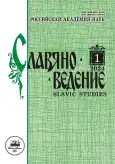White Military Formations in Poland and an Attempt to Disrupt the Genoa Conference in 1922
- Authors: Ganin A.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 31-38
- Section: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-544X/article/view/255404
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869544X24010026
- ID: 255404
Full Text
Abstract
The article examines the preparation of anti-Soviet uprisings by the leaders of the white emigration in Poland on the eve of the Genoa Conference of 1922 on the basis of documents from Russian and foreign archives, including the archives of the special services. The purpose of the uprisings was to disrupt the conference and undermine the authority of the Soviet government. The Belarusian lands, which were ceded to Poland under the Riga Peace Treaty of 1921, became a springboard for the deployment of anti-Bolshevik forces. There, under the guise of teams of loggers, white detachments were concentrated. A prominent role in the preparation of the operation was played by General V. M. Novikov, an alleged Soviet agent. These plans were thwarted as a result of the expulsion of several leaders of the white military emigration from the country by the Polish authorities.
Keywords
Full Text
Постепенное открытие архивов спецслужб и введение в научный оборот материалов зарубежных архивов обогащают представления о ранней советской истории. Одним из таких сюжетов являются события 1922 г. вокруг Советской России и Польши в контексте Генуэзской конференции.
К тому времени Советская Россия достигла больших успехов в Гражданской войне, которая завершилась практически по всей стране за исключением Дальнего Востока, где в Приморье под защитой японских интервенционистских войск сохранялся небольшой белый анклав, ликвидированный в октябре 1922 г. Таким образом, большевики смогли в целом собрать большую часть территорий бывшей Российской империи и претендовали на международное признание. Генуэзская конференция проходила в Италии с 10 апреля по 19 мая 1922 г. и была крайне важна для Советской России.
Не секрет, что белая эмиграция пыталась сорвать конференцию. К форуму начали готовиться за год с лишним, поэтому время у заговорщиков также имелось. Среди тех, кто планировал и осуществлял подобные акции, был находившийся в Данциге В. Г. Орлов – разведчик, возглавивший так называемый Белый интернационал – антисоветскую организацию за рубежом. Орлов планировал убийство главы советской делегации в Генуе Г. В. Чичерина и других советских дипломатов 1. Кроме того, якобы в январе 1922 г. в Кишиневе было подписано соглашение представителей главнокомандующего Русской армией генерала П. Н. Врангеля и головного атамана войск УНР С. В. Петлюры о совместных действиях 2. Созданный в Варшаве Народный союз защиты родины и свободы Б. В. Савинкова планировал к началу конференции организовать восстания, волнения и забастовки в разных концах России 3, чтобы показать, что страна не приняла новую власть. С этой целью Савинков, который в октябре 1921 г. был выслан из Польши, вел большую организационную работу и пытался получить средства от различных европейских политиков. Сложность для белых заключалась в том, что между Врангелем и Савинковым развернулась борьба за влияние на военную эмиграцию в Польше.
В срыве конференции также были заинтересованы правительства нескольких стран. Иностранный отдел ВЧК в сводке на 4 апреля 1921 г. отметил, что Румыния готовится произвести мобилизацию, а Польша опасается, что в случае срыва Генуэзской конференции РСФСР начнет военные действия 4. Согласно разведсводкам весной 1922 г., Румыния была обеспокоена возможностью выдвижения советской делегацией бессарабского вопроса 5. В качестве ударной силы против большевиков рассматривались армии Врангеля и Петлюры. Генерал Врангель, по агентурным сведениям на апрель 1922 г., прилагал усилия для срыва конференции, взаимодействуя с сербскими властями 6. Заинтересована в срыве была и Франция 7. Однако позиции менялись. В частности, в 1922 г. польские власти предприняли некоторые шаги по сближению с Советской Россией.
Главным героем этой истории является врангелевский генерал В. М. Новиков (1883–1930) [Ганин 2022, 48–115]. В ноябре 1920 г., в период эвакуации белых из Крыма, тогда еще полковник Новиков во главе Смоленского пехотного полка опоздал на эвакуацию в Севастополе и решил остаться в Крыму для продолжения борьбы, причем тут же Врангель произвел его в генеральский чин. Далее генерал приказал снять погоны и под видом красноармейской части пробираться к румынской границе через советскую Украину. Чины отряда были снабжены фальшивыми удостоверениями. В походе часть людей разошлась. Шли по ночам, в обход городов, крупных сел и пунктов сосредоточения советских войск на Симферополь и далее на Перекоп. По пути у отряда неоднократно проверяли документы, но ни разу ни в чем не заподозрили. Отряд вышел в Северную Таврию и перешел через Днепр по льду. К концу декабря 1920 г., сделав около 2000 верст походным порядком, Новиков со своей группой подошел к румынской границе северо-западнее Балты. Однако Днестр не замерз, поэтому стали искать способ перейти границу. С генералом остались только 28 человек, включая его супругу и племянницу. Однако отряд на границе был задержан и разоружен красными.
Новиков оказался под арестом и содержался в Киеве, но ему повезло. После нескольких месяцев ожидания казни расстрельный приговор смягчили до пяти лет лагерей. Через 42 дня пребывания в концентрационном лагере 26 июня 1921 г. Новиков бежал вместе с подпоручиком В. Н. Казаковым и пробрался в Польшу. Двадцать три дня беглецы шли от Киева в сторону границы, передвигались по ночам, а днем скрывались в хлебе и кустах. Перейдя границу, добрались до Варшавы, где Новиков обратился к представителю Врангеля генералу П. С. Махрову и написал рапорт Врангелю с изложением своих приключений 8.
Современный украинский исследователь Я. Ю. Тинченко без каких-либо ссылок утверждал, что все арестованные из группы Новикова якобы дали подписку о сотрудничестве с ВЧК 9, однако в деле офицера и его соратников никаких документов на этот счет нет. И все же произошедшее выглядит крайне странно. Генерал не был расстрелян, а из лагеря бежал, причем единственные близкие ему люди (в том числе беременная на март 1921 г. супруга) остались в Советской России. Все это укладывается только в логику согласия Новикова работать на ЧК и инсценировку побега. И как наиболее действенный мотив вербовки – семья в заложниках в Советской России. Стал ли генерал работать против своих прежних боевых товарищей в качестве секретного советского агента, документально неизвестно. Как бы то ни было, белые ему поверили и позволили занять руководящие посты в иерархии антибольшевистских вооруженных формирований на территории Польши.
Махров Новикову доверял и выдвигал его как своего ставленника 10. По воспоминаниям Махрова, Новиков собирался из интернированных частей 3-й армии сформировать отряд, перебросить его в Витебскую губернию и поддержать там партизанствующих крестьян. 15 сентября 1921 г. Махров отправил Врангелю письмо и предложил поставить Новикова во главе всех рабочих артелей интернированных 11, которые являлись скрытыми кадрами для развертывания антибольшевистской армии. Махров не имел на это средств и запросил Врангеля, а последний потребовал скоординировать действия Новикова с приказами Савинкова – руководителя Народного союза защиты родины и свободы, который вел борьбу с большевиками. По другим данным, в сентябре 1921 г. Новиков был приглашен возглавить партизанские отряды в Белоруссии Русским политическим комитетом Савинкова 12. Новиков во второй половине 1921 г. ездил к Врангелю в Константинополь, а затем вернулся в Польшу. Во всяком случае, генерал Б. С. Пермикин свидетельствовал, что в канун 1922 г. Новиков приехал к нему от Врангеля из Турции. Новиков передал Пермикину письмо от Врангеля с просьбой оказывать содействие. Так Новиков стал инспектором трудовых рабочих артелей в отделе труда Российского общества Красного Креста (в эмиграции) и представителем миссии Российского общества Красного Креста в Польше, а также «заведующим над интернированными» [Симонова 2013, 206–207]. Известно, что от имени Врангеля генерал работал в польских лагерях для русских беженцев по объединению эмигрантов-монархистов 13.
Поведение генерала Новикова теми, кто начал с ним сотрудничать, воспринималось неоднозначно. Перешедший на советскую сторону некий полковник Орлов, ранее работавший с Б. В. Савинковым, в апреле 1922 г. дал подробные показания о Новикове начальнику Особого отдела Западного фронта. Он отметил, что, прибыв в Польшу в июле 1921 г., Новиков быстро сориентировался и наладил контакты с ключевыми фигурами военно-политической эмиграции в Польше: познакомился с Б. В. Савинковым, генералом С. Н. Булак-Балаховичем, председателем Белорусского политического комитета в Польше белорусским националистом В. А. Адамовичем, активистом белорусского национального движения в Польше П. П. Алексюком, начал работать с Российским обществом Красного Креста, а когда Врангель прислал обмундирование для чинов 3-й русской армии генерала Б. С. Пермикина, Новикову было поручено контролировать раздачу одежды. Для генерала без политического и организаторского опыта более чем странная активность. Тем более что по характеристике генерала Махрова это был, «“мужичок-простачок”, ни манер, ни воспитания, ни образования, а только смышленость, храбрость и исполнительность» 14.
Действия Новикова укладывались в общую направленность работы лидеров белых в Польше. Савинковцы и сторонники генерала С. Н. Булак-Балаховича в период подготовки и проведения Генуэзской конференции намеревались активизироваться на территории Белоруссии. Были планы поднять восстание и захватить Минск и некоторые другие города (инициаторов смущало ненавидевшее белых еврейское население Минска, что требовало дополнительной работы 15). Белые концентрировались в приграничных польских районах (например, недалеко от Барановичей), куда направлялись из лагерей интернированных на работы в лесных концессиях. Настроение было бодрым, люди надеялись весной 1922 г. вернуться в Россию. Общая численность балаховцев на лесных работах около Пинска советской разведкой оценивалась в 10 тыс. человек 16. По другим данным, всего в Польше на весну 1921 г. насчитывалось порядка 12 тыс. белых и столько же петлюровцев [Симонова 2013, 158–159].
Новиков ездил на советско-польскую границу и выяснял, какие польские силы могли бы выступить вместе с ним против большевиков. Русские эмигранты к тому времени уже не доверяли эмиссарам из Варшавы, которые пытались их куда-либо вербовать. Многие ждали амнистии от Советской России и возможности вернуться домой. У Новикова был ресурс в виде обмундирования, которое он распределял, в связи с чем было объявлено, что одежду получат только те, кто запишется в белорусские комитеты. Новиков ездил в Вильно и провел там два белорусских съезда, на одном из которых была провозглашена независимость Белоруссии в границах Рижского договора. На антибольшевистскую работу генерал пытался получить 80 млн марок, по-видимому, от польских властей, но смета была сокращена в итоге в 20 раз, и чем кончилось дело, неизвестно. Орлов делал вывод, что Новиков – авантюрист, который может легко перейти на сторону большевиков.
По словам Пермикина, Новиков также просил предоставить из беженских лагерей от 200 до 400 лучших офицеров для того чтобы поднять восстание на Юге России. Новиков утверждал, что лично обошел там много населенных пунктов, и что население для восстания нуждалось якобы только в офицерах. Такие предложения были похожи на провокацию с целью изъять наиболее активный боевой элемент, который был бы в Советской России ликвидирован.
Пермикин, видимо, заподозрил неладное и предложил Новикову не более десяти человек, причем не офицеров, а надежных крестьян, поставив условием их возвращение через два месяца. После этого, если наличие почвы для восстаний подтвердится, сам Пермикин со всеми, кого сможет собрать, отправится поднимать восстания на Украине. Новиков не согласился, после чего влиятельный в кругах военной эмиграции в Польше Пермикин распорядился не давать Новикову в лагерях ни одного человека 17. Генерал Махров позднее вспоминал, что Новиков сыграл «гибельную роль для всех русских учреждений в Варшаве, в том числе и для меня» 18.
В качестве инспектора Новиков объехал трудовые артели интернированных из армии С. Н. Булак-Балаховича, отрядов полковника Л. Я. Духопельникова и есаула М. И. Яковлева в районе Кривашино (25 верст от Барановичей), Лесная, Новогрудок, Зельва, Брест-Литовск и некоторые другие. За одиннадцать дней генерал осмотрел четырнадцать артелей. При инспектировании он раздавал теплое белье. По итогам поездки подготовил доклад, в котором описал ужасающее положение работников, не имевших в массе нормальной верхней одежды и обуви, что вызывало обморожения. Новиков считал необходимым выхлопотать дополнительное количество обуви и одежды для выдачи, «оттеняя, конечно, при выдаче наиболее ценных для будущего людей» 19. Вероятно, шла речь о возобновлении борьбы с большевиками.
Впоследствии на допросе в ОГПУ в 1928 г. Новиков скромно сообщил, что возил от Красного Креста теплое белье (8500 комплектов) тем, кто служил на лесных разработках и старался облегчить их участь 20. Однако, думается, этим его деятельность не исчерпывалась. Разумеется, все посчитали, что раздача белья – лишь прикрытие организационной работы по подготовке похода в Россию. Новиков это перед сотрудниками ОГПУ отрицал. Его деятельность уже вызывала серьезные подозрения и недовольство. Полковник Кабанов в декабре 1921 г. заявил, что «генерал Новиков […] неизвестно кем уполномочен, и его скоро расшифруют, он вероятно имеет связь с коммунистами, т. к. сумел приехать из Совдепии» 21.
Новиков занялся сведением интернированных в лагерях в три дивизии. Планировалось разместить эти силы под видом рабочих дружин вдоль советской границы, а в период начала Генуэзской конференции они должны были выступить, чтобы ее сорвать и спровоцировать войну Польши с Советской Россией 22. Если Новиков работал на чекистов, все это стало большой удачей для советской стороны. Неудивительно, что никакого выступления не случилось, а на организацию антисоветской работы запрашивались немыслимые суммы.
Махров писал, что Новиков вместе с Савинковым составил план действий в Белоруссии и получил от уже известного нам В. А. Адамовича предложение вступить в должность начальника всех белорусских партизанских сил, которых якобы насчитывалось более 100 000 человек 23. Разумеется, это было колоссальным преувеличением.
К февралю 1922 г. Новиков, по данным Махрова, «закончил организацию рабочих артелей в таком порядке, что в любое время они могли быть использованы как партизанские отряды, а участок леса, купленный в Беловежской пуще Булак-Балаховичем старшим, мог послужить промежуточной базой для склада оружия и перемещения группами к границе польской партизанских отрядов» 24. Действительно, в Белоруссии часть леса была передана в концессию, куда планировали вывезти из лагерей солдат и офицеров. Проблема была только в отсутствии средств.
11 марта 1922 г. Новиков прибыл в лагерь Тухола, где в тяжелых условиях содержались около 3,5 тысяч интернированных, включая женщин и детей. 12 марта он неожиданно для всех предложил командному составу представить списки обязующихся выполнять приказы главного командования, атаманов и назначенных ими начальников. По замыслу Новикова запись должна была быть добровольной, но низовые начальники стали принуждать интернированных записываться. Сведения о работе Новикова поступали в ГПУ. В частности, в сводке от польского резидента на 21 марта 1922 г. отмечалась активизация белых в Польше. Сообщалось, что генерал Новиков издал распоряжение: «Держите людей, воодушевляйте, надейтесь […]. Концентрировать людей, не дать им расползаться. Директивы будут даны лично» 25.
По-видимому, польские власти, незаинтересованные в дестабилизации обстановки, насторожила активность Новикова, либо же он сам спровоцировал дальнейшие события. В итоге польское МВД уже 21 марта 1922 г., возможно, как раз в преддверии Генуэзской конференции, выслало из страны как Новикова, так и Махрова [Симонова 2013, 226]. Махров был убежден, что виновником высылки являлся Новиков и вспоминал: «Составляя списки рабочих артелей, Новиков не скрывал, громко в лагерях их называя “мобилизационными” […]. Для поднятия духа интернированных он громко и часто говорил им, что следует потерпеть только до весны, а там по приказу главнокомандующего рабочие артели превратятся в “боевые партизанские отряды”. Наконец, у Новикова были мои письма, в которых я всегда повторял, чтобы он организовал артели на началах воинской дисциплины и порядка» 26. Возможно, какие-то документы попали к польским властям, которые произвели обыски и убедились, что белые действительно готовили активные действия.
К сожалению, всей полноты картины у нас нет, но, быть может, Новиков в самом деле преуспел в подрывной работе по развалу организованных сил белой военной эмиграции в Польше и предотвратил возможный вооруженный конфликт с Советской Россией. Как позднее выяснилось, никакой работы по боевой подготовке отрядов он не вел 27.
В марте 1922 г. генерал перебрался в вольный город Данциг, где прожил до августа 1925 г. В 1925 г. в жизни генерала начался новый период, связанный с нелегальными поездками в СССР и завершившийся расстрелом в 1930 г., но это уже другая история.
Что касается численности белых на восточной границе Польши, то она постепенно снижалась: с апреля по июль 1922 г. она сократилась с 4,7 тыс. до 2,7 тыс. человек [Там же, 235]. Численность савинковцев определялась примерно в 3 тыс. человек, петлюровцев – в 1 тыс. человек. Советские представители активно проводили репатриацию, по которой к июню 1922 г. уехали около 3 тыс. человек, а на август – сентябрь 1922 г. ежемесячно уезжали в Россию по 500–700 человек [Там же, 239, 245]. В итоге планы активных антисоветских действий белых в Польше оказались сорваны.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации.
ДРЗ – Архив Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.
ЦА ФСБ – Центральный архив Федеральной службы безопасности России.
BAR – Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры.
HIA – Архив Гуверовского института Стэнфордского университета.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Борис Савинков на Лубянке. М.: РОССПЭН, 2001. 574 с.
ГА РФ. Ф. Р-7003. Оп. 1. Д. 9.
ДРЗ. Ф. 39. Оп. 1. К. 1. Д. 97; 102.
Пермикин Б. С. Генерал, рожденный войной. Из записок 1912–1959 гг. М.: Посев, 2011. 283 с.
Реабилитированные историей. Автономная республика Крым. Киев: Институт истории Украины НАН Украины, 2021. Кн. 10. 12 тысяч. Крымские расстрелы, 20.11.1920–18.04.1921. Автор-составитель Я. Ю. Тинченко. 1050 с.
Русская военная эмиграция 20–40-х годов ХХ века. Док. и мат. М.: Гея, 1998. Т. 1. Так начиналось изгнанье. 1920–1922 гг. Кн. 1. Исход. 426 с. Кн. 2. На чужбине. 751 с.
ЦА ФСБ. Д. Р-41012; Ф. 1. Оп. 6. Д. 123.
Шатилов П. Н. Записки. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2017. Т. 1. 524 с.
HIA. P. A. Koussonsky collection. Box 8. Folder 31.
BAR. P. S. Makhrov collection. Box 4. Махров П. С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савинков (1920–1924 годы). Тетрадь № 6.
1 Русская военная эмиграция 20–40-х годов ХХ века, т. 1, кн. 1, 48.
2 Русская военная эмиграция 20–40-х годов ХХ века, т. 1, кн. 2, 222.
3 Там же, 249.
4 Там же, 26.
5 Там же, 235.
6 Там же, 220.
7 Там же, 223.
8 HIA. P. A. Koussonsky collection. Box 8. Folder 31.
9 Реабилитированные историей, 95.
10 ГА РФ. Ф. Р-5872. Оп. 1. Д. 60. Л. 3об.
11 BAR. P. S. Makhrov collection. Box 4. Махров П. С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савинков (1920–1924 годы). Тетрадь № 6, 506.
12 ДРЗ. Ф. 39. Оп. 1. К. 1. Д. 97. Л. 5–6.
13 Шатилов П. Н. Записки, т. 1, 459.
14 BAR. P. S. Makhrov collection. Box 4. Махров П. С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савинков (1920–1924 годы). Тетрадь № 6, 507.
15 Русская военная эмиграция 20–40-х годов ХХ века, т. 1, кн. 2, 249.
16 Там же, 263.
17 Пермикин Б. С., 107.
18 BAR. P. S. Makhrov collection. Box 4. Махров П. С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савинков (1920–1924 годы). Тетрадь № 6, 480.
19 ГА РФ. Ф. Р-7003. Оп. 1. Д. 9. Л. 174об.
20 ЦА ФСБ. Д. Р-41012. Л. 7.
21 Архив ДРЗ. Ф. 39. Оп. 1. К. 1. Д. 102. Л. 12.
22 Борис Савинков на Лубянке, 277; Симонова 2013, 209.
23 BAR. P. S. Makhrov collection. Box 4. Махров П. С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савинков (1920–1924 годы). Тетрадь № 6, 495.
24 Там же, 542.
25 ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 123. Л. 98.
26 BAR. P. S. Makhrov collection. Box 4. Махров П. С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савинков (1920–1924 годы). Тетрадь № 6, 551.
27 BAR. P. S. Makhrov collection. Box 4. Махров П. С. Ген[ерал] Врангель и Б. Савинков (1920–1924 годы). Тетрадь № 6, 553.
About the authors
Andrey V. Ganin
Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: andrey_ganin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8602-1990
DSc. (History), Leading Research Fellow
Russian Federation, MoscowReferences
- Ganin A. V. «Neskol’ko raz hodil… v Sovetskij Soyuz partizanit’». General Novikov mezhdu krasnymi i belymi. Zhurnal rossijskih i vostochnoevropejskih istoricheskih issledovanij, 2022, no. 3 (30), pp. 48–115. (In Russ.)
- Simonova T. M. Sovetskaya Rossiya (SSSR) i Pol’sha: russkie antisovetskie formirovaniya v Pol’she (1919– 1925 gg.). Moscow, Kvadriga; Zebra E Publ., 2013, 368 p. (In Russ.)